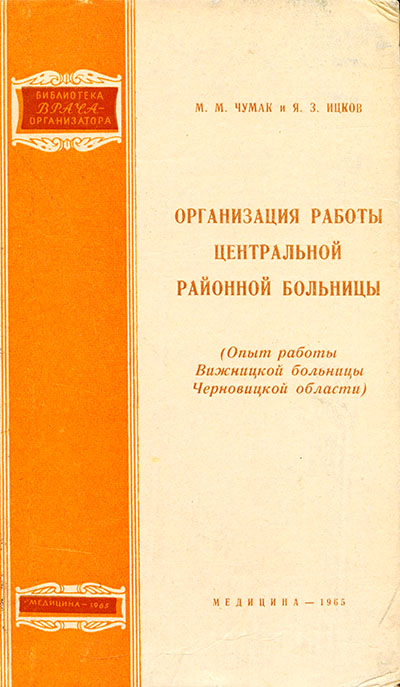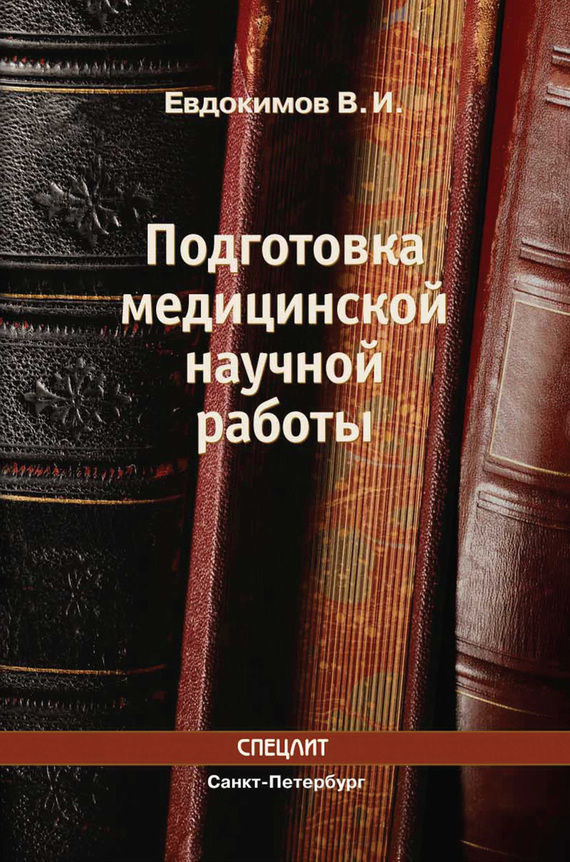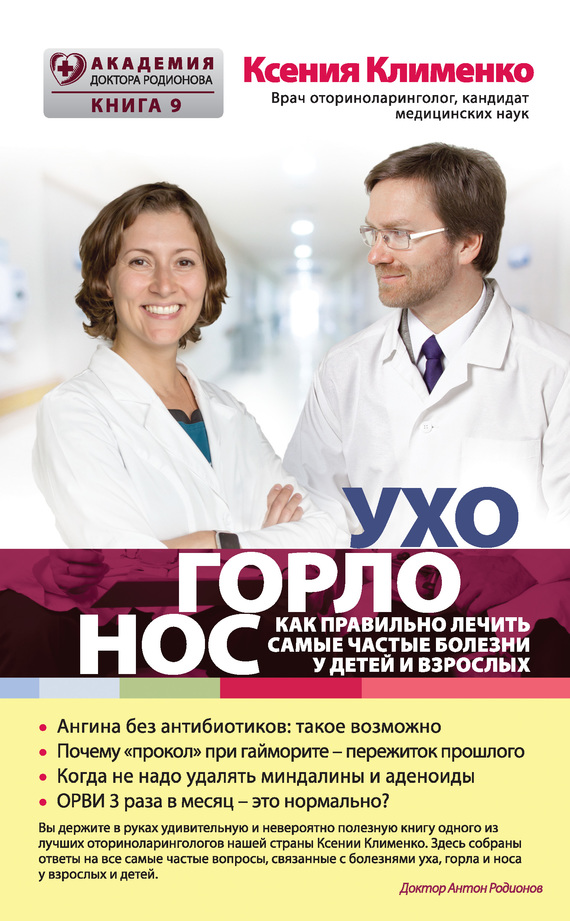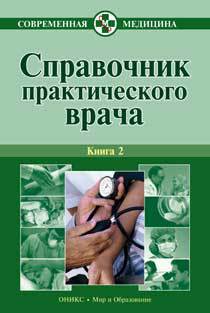Линч как прерафаэлит
В истории искусства прерафаэлиты представляют парадоксальный пограничный случай авангардного пересечения с китчем: их первых восприняли как носителей антитрадиционалистской революции в живописи, оторвавшихся от всей традиции, с Возрождения и далее; но вскоре – с возникновением во Франции импрессионизма – их разжаловали как воплощение затхлого викторианского псевдоромантического китча. Эта ругательная оценка сохранялась вплоть до 1960-х, т. е. до возникновения постмодернизма, когда прерафаэлиты вдруг отыграли себе признание критиков. Как так вышло, что прерафаэлитов удалось «растолковать» лишь задним числом, в парадигме постмодернизма?
В этом смысле важнейший художник – Уильям Холман Хант, к которому относятся с пренебрежением как к первому из прерафаэлитов, продавшемуся традиционному большинству, – он сделался хорошо оплачиваемым производителем «сладеньких» религиозных полотен («Торжество невинных» и т. п.). При ближайшем рассмотрении, впрочем, мы сталкиваемся со зловещей, глубоко тревожащей гранью его работ – его картины сообщают некое беспокойство, неопределенное чувство, будто, вопреки идиллическому возвышенному «официальному» содержанию, что-то мы упускаем. Возьмем, к примеру, «Наемного пастуха», с виду – простую пасторальную идиллию: пастух занят соблазнением селянки и потому не обращает внимания на своих овец (очевидная аллегория Церкви, пренебрегающей своей паствой). Чем дольше мы смотрим на эту картину, тем больше сознаем, сколько всяких деталей свидетельствуют о сильных связях Ханта с удовольствием, с jouissance как жизненной субстанцией, т. е. его отвращению к сексуальности. Пастух – мускулистый простак, неотесанный и грубо чувственный; взгляд девушки лукав, он говорит о том, что она хитро, вульгарно и корыстно использует свою половую притягательность; слишком живая красно-зеленая палитра делает изображение в целом отталкивающим, словно мы смотрим на гнилостную, перезрелую природу. То же касается и «Изабеллы и горшка с базиликом» с его обилием деталей – змеящимися волосами и черепами по краям вазона: все это разоблачает «официальное» трагически-религиозное содержание.
Сексуальность, излучаемая этой картиной, – удушающая, «нездоровая», пропитанная затхлостью смерти… и вот мы уже посреди вселенной Дэвида Линча. Иначе говоря, вся «онтология» Линча основана на разногласии между действительностью, наблюдаемой с безопасного расстояния, и абсолютной близостью Реального. Простейший прием Линча – движение от установочного кадра действительного к неприятной близости, когда делается зримым отвратительная субстанция удовольствия, ползучая и осклизло поблескивающая неискоренимость жизни[210]. Достаточно вспомнить первые кадры «Синего бархата» (1986). После виньеток идиллического американского городка и инсульта отца главного героя, случившегося, пока тот поливал лужайку перед домом (когда он падает, струя воды из шланга жутковато напоминает сюрреалистически могучее мочеиспускание), камера утыкается в газон и являет нам бурлящую жизнь: ползающих насекомых, как они возятся и жрут траву… В самом начале «Твин Пикс: сквозь огонь» (1992) мы сталкиваемся с противоположным приемом, создающим тот же эффект: сначала видим абстрактные белые протоплазменные силуэты, плавающие на голубом фоне, своего рода примитивную форму жизни в ее первородном мерцании, а затем камера медленно отъезжает, и мы постепенно понимаем, что нам показывают телевизионный экран очень крупным планом[211]. Мы узнаем ключевую черту постмодернистского «гиперреализма»: чрезмерная близость к действительности влечет за собой «потерю действительности»; зловещие детали выделяются и баламутят умиротворяющее впечатление, производимое картинкой в целом[212].
Вторая черта, близко связанная с первой, состоит в самом определении «прерафаэлитства»: возвращение к изображению всего таким, какое оно «есть на самом деле», не искаженное правилами академической живописи, как их установил Рафаэль. Однако практика самих прерафаэлитов предает эту наивную идеологию возвращения к «естественной» живописи. Первое, что бросается в глаза в их живописи, – плоскостное изображение. Эта черта тут же видится нам, привычным к современному перспективному реализму, как признак неуклюжести: прерафаэлитским картинам несколько не хватает «глубины», присущей пространству, организованному вдоль линий перспективы, встречающихся в удаленной точке, словно сама «действительность», которую эти полотна изображают, – не «настоящая», а, скорее, устроенная как барельеф. (Еще одна грань той же черты – «кукольная», механическая композиция, искусственность, проступающая в запечатленных людях: им недостает бездонной глубины личности, какую мы обычно связываем с понятием «субъекта».) Определение «прерафаэлиты», таким образом, следует понимать буквально: как показатель сдвига с перспективизма Возрождения к «замкнутой» средневековой вселенной.
В фильмах Линча «плоское» изображение действительности, отсекающее перспективу беспредельной открытости, обретает точное отражение и на уровне звука. Вернемся к первым кадрам «Синего бархата»: ключевая черта – зловещий шум, возникающий, когда мы приближаемся к Реальному. Источник этого шума в действительности определить трудно; чтобы понять его, есть искушение обратиться к современной космологии, которая говорит о шумах как о границах Вселенной. Подобные шумы не просто присущи вселенной – они суть остатки, последнее эхо Большого взрыва, из которого возникла сама Вселенная. Онтологический статус этого шума куда интереснее, чем может показаться, поскольку он подрывает самые основы «открытой», беспредельной Вселенной, которая определяет пространство ньютоновской физики.
Это современное представление об «открытой» Вселенной основано на гипотезе, что любая позитивная данность (шум, материя) занимает некоторое (пустое) пространство: эта гипотеза зиждется на разнице между пространством qua пустотой и позитивными данностями, занимающими это пространство, «заполняющими его». Здесь пространство феноменологически рассматривается как нечто, существовавшее до данностей, которые «его заполняют»: если разрушить или удалить материю, заполняющую пространство, пространство qua пустота никуда не денется. Однако первобытный шум, последнее, что осталось от Большого взрыва, состоит из самого пространства: это не шум «в» пространстве, а шум, из-за которого само пространство открыто. Если, следовательно, устранить этот шум, не получится «пустого пространства», которое этот шум заполняет: само пространство, емкость для всех «внутренних» сущностей, исчезнет. Значит, этот шум, в некотором смысле, – самый «звук тишины». В этом смысле глубинный шум в фильмах Линча не просто исходит от предметов, которые часть этой действительности, – напротив: из этого шума происходит онтологический горизонт, рамки самой действительности, сама текстура, удерживающая действительность как целое, – если устранить этот шум, схлопнется сама действительность. Из «открытой» беспредельной Вселенной картезианско-ньютоновской физики мы, таким образом, переходим к до-модерновой «замкнутой» Вселенной, ограниченной сущностным «шумом».
С тем же шумом мы сталкиваемся в кошмарных кадрах «Человека-слона» (1980), которые переводят нас через границу, отделяющую внутреннее от внешнего, иными словами, в этом шуме предельное внешнее машины зловеще совпадает с предельной сокровенностью телесного внутреннего, в ритме бьющегося сердца. И еще нельзя упускать из внимания, что этот шум возникает после того, как камера проникает через брешь в капюшоне человека-слона, представшего перед зеваками: обращение действительности в Реальное соответствует обращению взгляда (субъекта, всматривающегося в действительность) в созерцание, т. е. это обращение возникает, когда мы проникаем в «черную дыру» – в прореху на ткани действительности.