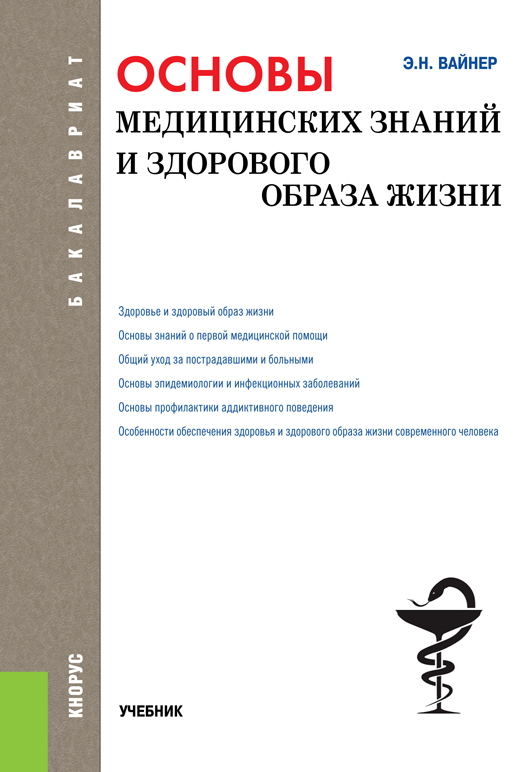Лакан и Гегель
Перейдем к Гегелю. Есть одно наивное возражение к Гегелю, которое, впрочем, трудно парировать: что «приводит в движение» диалектический процесс? Почему этот «тезис» не просто существует в своей позитивной тождественности самому себе? Почему он устраняет свою самопослушную сущность и открывается опасностям негативности и опосредованности? Короче говоря, не попал ли здесь Гегель в заколдованный круг? Удалось ли ему устранить всякую позитивную сущность лишь потому, что он мыслит ее как нечто заведомо опосредованное негативностью?
Неувязка состоит в одном внутреннем допущении этого возражения: будто есть нечто, подобное полной непосредственности этого «тезиса». По Гегелю же, напротив, никакого «тезиса» нет (в смысле полной тождественности самому себе и органического единства отправной точки). Иначе говоря, одна из иллюзий, присущих обычному толкованию Гегеля, касается представления, что диалектический процесс так или иначе развивается от того, что непосредственно дано, из полноты к опосредованности, – скажем, от наивного, не рефлектирующего сознания, которое осознает лишь объект напротив, до самосознания, заключающего в себе осознание собственной деятельности, противопоставленной объекту.
Гегелева «рефлексия», однако, не подразумевает, что за сознанием возникает самосознание, т. е. что в некоторый миг сознание как по волшебству обращает взгляд внутрь, к себе, и делается самому себе объектом, тем самым создавая рефлективное расстояние, расщепление на объект и прежде непосредственное единство. Мысль Гегеля же, опять-таки, – в том, что сознание всегда-уже сознает себя: нет сознания без хотя бы минимальной рефлективной самоотнесенности субъекта. В этом Гегель противостоит Фихте и Шеллингу и, в некотором смысле, возвращается к Канту, для которого трансцендентальное осознанное восприятие «я» – обязательное внутреннее условие, при котором «я» способно осознавать объекты.
Переход от сознания к самосознанию, таким образом, связан со своего рода несостоявшейся встречей: в тот самый миг, когда сознание берется стать «полностью» осознающим свой объект, когда пытается перейти от смутных предощущений о его содержимом к ясному представлению, оно вдруг обнаруживает себя в пространстве самосознания, т. е. оказывается вынуждено выполнить акт рефлексии и принять во внимание собственную деятельность, противопоставленную субъекту. В этом состоит парадокс пары «вещь в себе» – «вещь для себя»: мы имеем дело с переходом от «еще нет» к «всегда-уже». В вещи в себе сознание (объекта) еще не полностью осуществлено, оно остается смутным предвкушением себя, а в вещи для себя сознание в некотором смысле уже осуществило переход, и полное понимание объекта вновь затуманено – из-за осознания субъектом его собственной деятельности, которое одновременно и делает возможным доступ к объекту, и мешает ему. Короче говоря, сознание подобно черепахе в лакановском толковании парадокса Ахилла и черепахи: Ахилл запросто опережает черепаху, но при этом не может ее догнать.
Еще один способ предложить тот же довод – подчеркнуть, что переход от сознания к самосознанию всегда связан с переживанием неудачи, бессилия: сознание обращает взгляд внутрь, на себя, начинает осознавать собственную деятельность, лишь когда не удается прямое, незатрудненное постижение объекта. Достаточно вспомнить процесс познания: сопротивление объекта познанию вынуждает субъект признать «иллюзорность» природы его знания – то, что он принял за «вещь в себе» объекта, есть на самом деле его толкования.
А как же телеология Гегеля, его понятие о Предназначении как внутреннем стимуле диалектического процесса? Разве это не выраженный идеализм?
Вместо того, чтобы повторять, как попугай, затасканные фразы о гегельянской телеологии Понятия, управляющего процессом своего же воплощения, имеет смысл потрудиться и внимательно прочесть раздел по телеологии во второй части «Субъективной логики» Гегеля[321]. Первая неожиданность, с которой мы столкнемся: в триаде Целей, Средств и Объекта настоящее единство, сила-посредник – не Цель, а Средство. Средство на самом деле управляет всем процессом, оно промежуточно между Целью и внешним Объектом, в котором воплотится/осуществится Цель. Цель, таким образом, вовсе не значимее средства и Объекта: Цель и внешний Объект – две объективизации средства qua подвижной среды негативности.
Вкратце: вывод Гегеля – в том, что Цель, в конечном счете, есть «средство самого средства», которое установлено самим средством же для того, чтобы запустить свою посредническую деятельность. (То же и со средствами производства у Маркса: производство материальных ценностей есть, конечно же, средство, чья цель – удовлетворять нужды человека; однако на более глубоком уровне само это удовлетворение человеческих нужд есть средство, самоустановленное средствами производства, чтобы привести в движение свое же развитие – истинная Цель всего процесса развития средств производства как утверждения власти человека над природой, или же, по словам Гегеля, как «самообъективации Духа».)
Заслуживает упоминания и то, как Гегель переходит от средства к объекту: «средство» означает внешнюю объективность, которая уже субъективирована, служит внутренней субъективной Цели; однако, поскольку Цель в данном случае – всего лишь субъективное, «внутреннее» понятие, противопоставленное внешней, подлинной объективности, она следует из внутренней логики этой структуры, что Цель пока еще не возобладает и не властвует над всей объективностью – иначе она не была бы всего лишь субъективной Целью. Следовательно, помимо Средства – внешней объективности, которая уже подвластна Цели, – должна существовать другая, безразлично-внешняя объективность, которая пока не подвластна Цели: эта безразлично-внешняя объективность есть Объект qua материал, который Цель стремится преобразовать, применяя средство, и таким образом придать ему форму, в которой она обретет подходящее выражение.
Из этого следует очень точный вывод – а именно: окончательная тождественность Цели и Объекта, они одно и то же, а разница меж ними – чистая формальность и относится к модальности, т. е. Объект как вещь в себе есть Цель как вещь для себя. Важно помнить, что это совпадение Цели (субъективного внутреннего, еще не выведенного вовне, т. е. в объект, применением Средств) и Объекта (безразличной внешней объективности, которая еще не принята вовнутрь, преобразованной в выражение внутренней Цели, применением Средств): Средство есть, дословно, всего лишь средство, посредник, промежуточность в чистом виде формального преобразования Цели в Объект, в результате которого объект «становится тем, что он всегда-уже был».
И все-таки разве постоянное использование у Гегеля оборота «обращение к себе» (вслед за утратой в самоотчуждении Дух обращается к себе и т. д.) – не ясный знак «метафизики присутствия»?
Вот тут следует быть бдительным и не попасть в коварнейшую ловушку толкования Гегеля из общих соображений. Да, в «отрицании отрицания» Дух действительно «обращается к себе»; однако невероятно важно не забывать о «перфомативной» грани этого обращения: этим обращением Дух меняется по сути своей, т. е. Дух, к которому мы обращаемся, Дух, который обращается к себе, – не то же самое, что Дух, который прежде пропал в отчуждении. В промежутке происходит своего рода преображение, и потому это самое обращение к себе знаменует точку, в которой исходный субстанциальный Дух действительно утрачен.
Достаточно вспомнить потерю, самоотчуждение Духа субстанциального сообщества, которое происходит, когда при возникновении абстрактного индивидуализма распадаются органические связи: на уровне «отрицания» этот распад все еще оценивается по меркам органического единства и потому воспринимается как потеря; «отрицание отрицания» возникает, когда Дух «обращается к себе» – не посредством оживления утраченного органического сообщества (непосредственное органическое сообщество утрачено навек), но полным уестествлением этой утраты, т. е. возникновением новой цели общественного единства – более не непосредственного органического, а формального законного порядка, который поддерживает гражданское общество свободных индивидов. Это новое единство субстанциально отличается от утраченного непосредственного органического.
Скажем иначе: «кастрация» означает, что «полный» субъект, непосредственно тождественный «патологической» субстанции стремлений (S), вынужден пожертвовать неограниченным удовлетворением стремлений, подчинить их субстанцию заповедям чужеродной нравственно-символической системы – как этот субъект «обращается к себе»? Полностью приняв эту утрату субстанции, т. е. сместив «центр тяготения» своего существа с S к $, от субстанции стремлений к пустоте негативности: субъект «обращается к себе», когда более не признает ядром своего существа субстанцию стремлений и отождествляется с пустотой негативной саморефлективности. С этой новой точки зрения стремления видятся чем-то внешним и случайным, чем-то, что не «по-настоящему субъект».
Таким же манером можно перефразировать различие между Дерридой и Гегелем: Деррида бесконечно варьирует тему, что обращение к себе всегда обречено на провал, что выведение вовне связано с распадом, который никак не удастся превзойти или присвоить вторично; Гегель же утверждает, что обращение к себе возможно, просто все дело в том, что это самое «к себе», к которому мы обращаемся, более не то же, что мы прежде утратили…
Если же говорить о Лакане: разве его настоятельное утверждение, что «письмо всегда достигает адресата», не связано с некой разновидностью телеологии? См. подробное толкование Лакана у Дерриды…
Письмо «достигает адресата» не из-за некой скрытой телеологии, направляющей его движение: речь здесь о том, что задним числом всегда имеется толкование, основанное на счастливой ошибке доставки. Взять к примеру роман «Обладать» А. С. Байетт[322]: когда Мод, юный историк литературы, обнаружив неизвестные письма викторианской поэтессы Кристабель ЛаМотт, выясняет, что Кристабель – ее прапрапрабабушка, она узнает в адресате последнего письма Кристабель ее большой любови, поэту Рэндолфу Эшу, себя:
«– …он даже не может это прочесть, верно? Она писала все это не для кого-то. Она, похоже, ожидала ответа – но ответа не пришло…
[…]
Она, вероятно, не знала, что делать. Письмо ему не отдала и не читала его – запросто могу себе это представить, – просто отложила его…
– Для Мод, – сказал Блекэддер. – Как выясняется. Она хранила его для Мод».[323]
Кстати, ключевое обаяние романа «Обладать» состоит в типично постмодернистском приеме удвоения: два персонажа романа (Мод и ее коллега-историк Роланд) могут быть парой в половом смысле только посредством отсылки к роману между Кристабель и Рэндолфом: впрямую любовь невозможна; нам всегда нужно задействовать фантастическую систему Другой Пары…
Другая – неожиданная – вариация той же темы письма, которое «достигает адресата», – фильм Джейн Кемпион «Пианино», когда дочка (Анна Пэкуин) доставляет фортепианную клавишу, которую ее мать Ада (Холли Хантер) просит отнести своему любовнику Бейнзу (Харви Кейтел), отчиму Стюарту (Сэму Ниллу), из-за чего отношения Ады и Бейнза принимают трагический оборот: для девочки, движимой воображаемым образом счастливой семьи, которая могла бы состоять из нее, ее матери и отчима, Стюарт и есть настоящий адресат. Однако действительно ли эта фантазия – только и исключительно желания ребенка, слепого к подлинным либидинальным напряжениям у взрослых? Все на самом деле куда менее однозначно. Доказательство того, что «Пианино» – по-настоящему «женская» картина, а не просто иллюстрация политкорректных «феминистских» представлений, состоит в счастливом избегании простецкого порицания мужского патриархального насилия: этот фильм очень чувствителен к либидинальному тупику в основе мужского насилия.
Сложнейшая фигура этой киноленты – несчастный Стюарт; противостояние их с Бейнзом определенно не сводится к тривиальной борьбе «плохого» белого патриархального мужского шовиниста и «хорошего» белого, заделавшегося аборигеном, который поэтому более открыт женскому удовольствию. Когда Стюарт наблюдает через щель в стене за половым взаимодействием между Адой и Бейнзом, он в некотором смысле переживает срыв, т. е. его отклик – никак не простая патриархальная ярость, направленная на женское удовольствие. Строго наоборот: лишь теперь, открыв в Аде новую восхитительную, боготворимую грань, он начинает ее уважать и воспринимать ее как субъекта, и потому, когда он позднее, уже у себя дома, желает подобраться к ней сексуально, мы видим отчаянные попытки соприкоснуться с этой гранью, страсть которой совершенно его захватывает.
Последующий всплеск насилия у Стюарта (он отрубает Аде мизинец), таким образом, – совсем не просто укрощение женщины мужчиной-шовинистом: это выражение тупика, отчаяния от невозможности соприкоснуться с этим «другим удовольствием». У Стюарта есть некая догадка об этой грани «другого удовольствия», но он хочет залучить его в фаллическое удовольствие; Ада, как следствие, отвергает его, когда, не умея принять ее чувственность легкого прикосновения, он начинает стаскивать с себя штаны, чтобы наскочить на жену. Презрительный взгляд, которым она его наделяет именно в этот миг, говорит сразу обо всем: Ада, вопреки насилию над ней Стюарта в жизни, побеждает его, и он потому пристыженно удаляется. И когда дочь «доставляет письмо адресату», она делает это из утопической надежды и/или предчувствия, что Ада и Стюарт смогут соединиться на уровне «другого удовольствия».