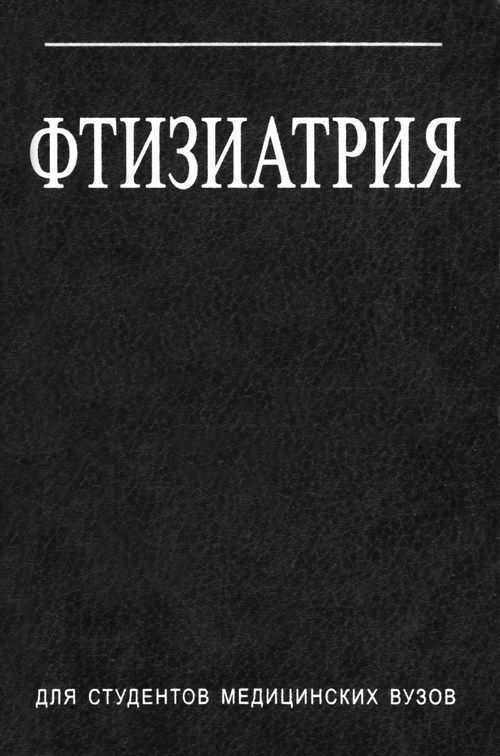Босния
Давайте сделаем шаг от общего к частному случаю насилия – к войне в Боснии. Одна из повторяющихся тем в СМИ – сострадание к жертвам Боснийской войны…
В отличном рассказе Патриции Хайсмит «Черепаха» (из ее первого сборника «Одиннадцать») мать восьмилетнего мальчика приносит домой живую черепаху, которую собирается приготовить на ужин. Чтобы черепаховое мясо получилось вкусным, черепаху надо варить живьем, и это приводит к катастрофе: в присутствии сына мать кладет черепаху в кипящую воду и накрывает кастрюлю крышкой; животное отчаянно пытается спастись, цепляется за край кастрюли передними лапами и, подняв крышку головой, выглядывает наружу; на миг, прежде чем мать запихивает черепаху ложкой обратно в кастрюлю, сын встречается взглядом с умирающим животным; травматическое воздействие этого взгляда настолько сильно, что мальчик закалывает мать до смерти кухонным ножом… Травматический элемент, таким образом, взгляд беззащитного другого – ребенка, животного, – который не понимает, почему с ним происходит нечто столь кошмарное и бессмысленные: не взгляд героя, готового пожертвовать собой ради некой Цели, а взгляд растерянной жертвы. И в Сараево мы имеем дело с тем же растерянным взглядом. Недостаточно сказать, что Запад лишь безучастно наблюдает бойню в Сараево и не желает действовать или даже понимать, что на самом деле происходит: истинные пассивные наблюдатели – жители самого Сараево, которые могут лишь свидетельствовать ужасам, которым их подвергли, но не могут понять, как нечто столь кошмарное вообще возможно. Этот взгляд делает виновными нас всех.
Сострадание к жертве – тот самый способ, каким можно избежать невыносимого давления этого взгляда. Как? Примеры «сострадания бедам Боснии», какими изобилуют СМИ, идеально иллюстрируют тезис Лакана о «рефлективной» природе человеческого желания: желание есть всегда желание желания. Иными словами, эти примеры показывают, в первую очередь, что сострадание есть способ оставаться на подходящем расстоянии от соседа в беде. Недавно австрийцы организовали громадную акцию сбора помощи бывшей Югославии под девизом «Nachbar im Not! (Сосед в беде!)» – глубинная логика этого девиза была ясна всем и каждому: чтобы сосед остался соседом на удобном расстоянии и не заявился к нам на порог, ему нужно заплатить. Иначе говоря, наше сострадание, именно поскольку оно «искреннее», предполагает, что в нем мы воспринимаем себя в том виде, в каком себе милы: жертва представляется такой, чтобы мы себе самим, глядя на жертву издалека, нравились…
Каков же, в таком случае, статус знаменитых балканских «архаических этнических страстей», какие обычно вспоминаются к слову о войне в Боснии?
В книге «Ибо не ведают они, что творят» я рассказываю одну известную историю об антропологической экспедиции, которая пыталась установить контакт с диким племенем в новозеландских джунглях, которое якобы исполняло устрашающий боевой танец в жутких масках. Добравшись однажды вечером до этого племени, исследователи попросили аборигенов сплясать для них, и танец, исполненный для них наутро, в общем, совпал с описанием; удовлетворенные ученые вернулись к цивилизации и написали доклад о диких ритуалах примитивного народа, снискавший немалую славу. Вскоре до этого племени добралась другая экспедиция, ее участники научились разговаривать на их языке и узнали, что та жуткая пляска как таковая не существует: из разговоров с первой группой исследователей аборигены как-то поняли, чего именно хотят чужаки, и быстро, в ту же ночь после прибытия экспедиции, изобрели танец специально для них, чтобы удовлетворить их запрос… Короче говоря, исследователи получили свое же сообщение от аборигенов – в ее перевернутой, истинной форме.
В этом и состоят чары, какие необходимо развеять, если есть желание понять, что такое югославский кризис: ничего автохтонного в его «этнических конфликтах» нет, взгляд Запада был включен в них с самого начала – Дэвид Оуэн[351] и компания суть нынешняя версия экспедиции к новозеландскому племени; они действуют и откликаются в точности так же и упускают то, что весь спектакль «старых ненавистей, внезапно прорвавшихся в их первобытной жестокости», – пляска, устроенная ради них, танец, за который Запад глубоко ответственен.
Так почему же Запад принимает этот сказ «вспышки этнических страстей»?
«Балканы» долгое время были одним из привилегированных мест приложения политических фантазий. Жиль Делёз как-то говорил: «si vous ?tes pris le r?ve de l’autre, vous ?tes foutu» – если вы поддались грезе другого человека, вы пропали. В бывшей Югославии мы пропали не потому, что наши примитивные грезы и мифы не позволили нам говорить на просвещенном языке Европы, а потому что мы платим плотью за то, что мы – содержимое чужой мечты. Фантазия, которая организовала восприятие бывшей Югославии, – в том, что «Балканы» есть Другой Запада: место диких этнических конфликтов, давным-давно преодоленных в цивилизованной Европе; место, где ничто не забыто и ничто не понято, где старые травмы все болят и болят; где символическая связь одновременно и обесценена (нарушены десятки договоров о прекращении огня), и переоценена (примитивные воинские понятия о чести и гордости).
На этом фоне процветают многочисленные мифы. Для «демократических левых» Югославия Тито была миражом «третьего пути» самоуправления вне капитализма и государственного социализма; для тонких людей культуры это была экзотическая страна освежающего фольклорного многообразия (фильмы Макавеева и Кустурицы); для Милана Кундеры – место, где идиллия Mitteleuropa[352] соединяется с восточным варварством; для западной Realpolitik[353] конца 1980-х распад Югославии стал метафорой того, что могло случиться с Советским Союзом; для Франции и Великобритании это оживило призрак немецкого Четвертого рейха, возмутивший хрупкое равновесие европейской политики; а за всем этим мелькает первобытная травма Сараево, Балкан как пороха, грозящего поджечь всю Европу… Вовсе не Другой для Европы, бывшая Югославия была, скорее самой Европой в ее Инакости, экраном, на который Европа проецировала свою подавленную изнанку.
Как же не вспомнить, к слову о европейском наблюдении за Балканами, утверждение Гегеля, что подлинное Зло – не в объекте, воспринимаемом как плохой, а в невинном взгляде, который всюду видит Зло? Главное препятствие миру в бывшей Югославии – не «архаические этнические страсти», а сам этот невинный взгляд Европы, завороженный зрелищем таких страстей. В пику сегодняшним журналистским клише о Балканах как о дурдоме процветающих национализмов, где законы разумного поведения отставлены, следует вновь и вновь подчеркивать, что движения любой политической силы в бывшей Югославии, какими бы предосудительными ни были, совершенно рациональны относительно целей, которых эти силы хотят достичь, а единственное исключение, единственный подлинно иррациональный фактор – взгляд Запада, болтающего об архаических этнических страстях.
Почему Запад так зачарован образом Сараево, этого города-жертвы par excellence?
Без либидинальной экономики этой виктимизации объяснить, что именно происходило последние два года в Сараево невозможно.
Имеет значение само географическое положение города: Сараево достаточно удален от Западной Европы, чтобы не считаться его частью; он окрашен экзотической балканской таинственностью, но все же достаточно близок, чтобы мы содрогались при мысли о нем (постоянная тема европейских СМИ – «Вдумайтесь, это не какая-нибудь далекая страна Третьего мира, это вот тут, близко к самому сердцу Европы, всего в двух часах лета от нас – и такой ужас!»). Так вот, предпринял ли Запад что-нибудь?
Как говорила Аленка Зупанчич[354], член Словенского лакановского внутреннего кружка, в своем проницательном анализе, Запад выдал ровно столько гуманитарной помощи, чтобы город выжил, применил ровно столько давления на сербов, чтобы не дать им занять город; и все же этого давления не хватило, чтобы прорвать осаду и позволить городу свободно дышать, – словно скрытым желанием было сохранение Сараево в своего рода вневременном стоп-кадре, меж двух смертей, под видом живого мертвеца, жертвы, увековеченной в ее мучениях. Лакан давным-давно обратил наше внимание на фундаментальную черту фантазии де Сада, увековечивание мучений: жертва – обычно молодая, красивая, невинная женщина – бесконечно терзаема аристократами-декадентами, но при этом чудесным образом сохраняет красоту и не умирает, словно выше или ниже ее материального тела владеет другим, эфирным, тонким. С телом города Сараево обращаются как с телом фантазии, запечатленном в неизменности страдания, вне времени и эмпирического пространства.
Особенно интересна здесь общая система такого восприятия Сараево: этот город – не что иное, как особый случай того, что, вероятно, есть ключевая черта идеологического стечения особенностей, которое характеризует нашу эпоху мировой победы либеральной демократии: универсализация понятия жертвы. Исчерпывающее доказательство того, что мы имеем дело с идеологией в чистейшем виде, – в том, что это понятие жертвы переживается как внеидеологическое par excellence: привычный образ жертвы – невинно-невежественное дитя (или женщина), которое расплачивается за политико-идеологические властные войны. Есть ли что-либо более «неидеологическое», чем эта боль другого в оголенном, немом, осязаемом присутствии? Не делает ли эта боль любые идеологические Цели ничтожными? Этот растерянный взгляд голодающего или раненого ребенка, который лишь смотрит в объектив, потерянный и непонимающий, что вокруг происходит, – голодная сомалийская девочка, мальчик из Сараево, которому гранатой оторвало ногу, – ныне возвышенный образ, затмевающий все прочие, кадр, за которым гоняются все фоторепортеры.
Виктимизация, таким образом, универсализирована, она простирается от полового насилия до унижения жертв СПИДа, от жестокой судьбы бездомных до вынужденных пассивно вдыхать сигаретный дым, от голодающих детей в Сомали до жертв бомбардировок Сараево, от мучимых в лабораториях животных до умирающих деревьев в тропических лесах. Это часть публичного образа кино– или рок-звезды – иметь любимую жертву: у Ричарда Гира это тибетцы, жертвы коммунистической власти, у Элизабет Тейлор – жертвы СПИДа, у покойной Одри Хепберн – голодающие сомалийские детишки; у Ванессы Редгрейв – дети, пострадавшие от гражданской войны в бывшей Югославии, у Стинга – тропические леса; у престарелой Брижит Бардо – жестокая судьба животных, убиваемых ради меха… Случай с Ванессой Редгрейв особенно показателен: закоренелый троцкист, который внезапно начинает говорить на языке абстрактной виктимизации, избегая, как вампир – чеснока, предметного анализа политики, приведшей к ужасам в Боснии. Неудивительно, что крупнейший хит в жанре классической музыки за последние годы (два миллиона дисков продано в одной лишь Европе) – Третья симфония Хенрика Горецкого, великий плач по судьбе всех мыслимых жертв, очень уместно названный «Симфонией скорбных песен». Сама философия поспешила добавить к этой всеобщей виктимизации: в книге «Contingency, Irony and Solidarity», Ричард Рорти, самый что ни есть философ либерально-демократического плюрализма, определяет человека как такового как потенциальную жертву, как «нечто, чему можно сделать больно».
Так в чем же дело? Что скрывает этот воображаемый образ жертвы?
Воображаемый образ, его обездвиживающая сила зачаровывать, подрывает нашу способность к действию – как говорил Лакан, мы «преодолеваем фантазию» действием. Этика сострадания жертве в «постмодерне» оправдывает избегание, постоянное откладывание действия. Любая «гуманитарная» деятельность помощи жертвам, любое питание, одежда и медикаменты боснийцам – для того, чтобы затуманить необходимость действия. Множество частных этик, процветающих в наши дни (этика экологии, медицинская этика…) следует воспринимать именно как попытку избежать этики подлинной, этики ДЕЙСТВИЯ наяву. Мы сталкиваемся здесь с по-настоящему диалектическим напряжением между общим и частным: вовсе не пример всеобщего, в которое оно включено, частное находится с общим в противостоянии. Не то же ли верно и для постмодернистского утверждения множества субъективных позиций против призрака Субъекта (отверженной картезианской иллюзии)?
Поэтому превозносимое либерально-демократическое «право на инакость» и анти-евроцентризм встают в подлинном свете: другой Третьего мира признается жертвой, т. е. постольку, поскольку он – жертва. Истинный объект тревоги – в том, что другой более не готов играть роль жертвы, и этот другой быстренько переименовывается в «террориста», «фундаменталиста» и пр. Сомалийцы, к примеру, претерпевают истинно Клейново расщепление на «хороший» и «плохой» объект; с одной стороны – хороший: пассивные жертвы, страдающие, голодные дети и женщины; с другой – плохой: фанатики-военные, которых интересует их власть и идеологические цели, а не благополучие собственного народа. Хороший другой – в анонимной пассивной всеобщности жертвы – но стоит нам столкнуться с настоящим/деятельным другим, вечно найдется чем его попрекнуть: патриархальностью, фанатизмом, нетерпимостью…
Это двусмысленное отношение к жертве вписано в само основание современной американской культуры; оно различимо в «Искателях» Джона Форда и в «Таксисте» Мартина Скорсезе: в обоих случаях герой стремится вырвать жертву-женщину от лап злого Другого (американских индейцев, корыстного сутенера), но жертва словно сопротивляется своему же освобождению, словно находит непостижимое удовольствие в своем же страдании. Разве не свирепый passage ? l’acte героя де Ниро (Трэвиса) – не взрыв, посредством которого субъект преодолевает тупик жертвы, отказывающейся от избавления? Не этот же ли либидинальный тупик – в основе травмы Вьетнама, где вьетнамцы тоже сопротивлялись помощи американцев? И, наконец, но не в последнюю очередь, – не различима ли подобная же неоднозначность в «политкорректной» мужской одержимости женщиной как жертвой полового насилия? Не подогреваема ли эта одержимость непризнанным страхом, что женщина, возможно, как-то получает удовольствие от насилия и потому не держится от него подальше? (Кстати, одно из внутренних противоречий деконструкционистов политкорректности – в том, что, хотя на уровне произносимого они прекрасно знают, что никакой субъект, даже самый презренный расист или сексист, не нацело отвечает за свои поступки (а, следовательно, не виновен в них), т. е. «ответственность» есть законодательный вымысел, который требует деконструкции, но они, тем не менее, на уровне субъективной позиции речи, обращаются с расистами и сексистами как с полностью ответственными за свои поступки.)
Универсализация понятия жертвы, таким образом, сводится к двум аспектам. С одной стороны, есть жертвы Третьего мира: состраданием к жертвам местных военщины-фанатиков-фундаменталистов определяется (ошибочное) восприятие нынешнего Великого раздела между теми, кто Внутри (включая общество закона и порядка с пособиями и правами человека), и теми, кто Вне (от бездомных в наших же городах до голодающих африканцев и азиатов). С другой стороны, параллельная виктимизация субъектов либерально-демократических обществ указывает на сдвиг главенствующей формы субъективности в сторону того, что обычно именуют «патологическим нарциссизмом»: Другой как таковой все более воспринимается как потенциальная угроза, как нечто, посягающее на пространство моего самоотождествления (курением, громким смехом, сальными взглядами…). Нетрудно установить, чего подобное отношение отчаянно пытается избежать: желания как такового, которое, как мы знаем от Лакана, всегда есть желание Другого. Другой представляет угрозу постольку, поскольку он субъект желания, поскольку оно излучает непроницаемое желание, которое будто бы посягает на замкнутое равновесие моего «способа жить».
Маркс отличал «классическую» буржуазную политэкономию (Рикардо) от «апологетической» (Мальтус[355] и далее): «классика» делает зримыми внутренние противоречия капиталистической экономики, а «апологетика» заметает их под ковер. Mutatis mutandis то же применимо и относительно либерально-демократической мысли: она достигает некоего величия, когда являет внутренне противоречивый характер либерально-демократического проекта. Противоречие касается, поверх всего прочего, отношений между общим и частным: либерально-универсалистское «право на инакость» упирается в свои ограничения, когда натыкается на настоящие различия. Достаточно помянуть удаление клитора, осуществляемое в знак достижения женщиной половой зрелости, практику, распространенной в некоторых частях Восточной Африки (или, как более умеренный пример, настояние, чтобы все мусульманские женщины во Франции носили платки в государственных школах): а ну как меньшинство заявит, что эта «инакость» есть неотъемлемая часть их культуры и, следовательно, отвергнет оппозицию удалению клитора как проявление культурного империализма, как жестокое навязывание европоцентричных стандартов? Как нам выбрать между соперничающими заявлениями прав индивидов и групп, когда групповое самоопределение есть значительная часть самоопределения индивида? Обычный либеральный ответ, разумеется, таков: пусть женщина сама решает, чего она хочет, при условии, что ее как следует познакомили со всеми возможностями выбора, чтобы она полностью сознавала более широкий контекст своего выбора. Иллюзия здесь – в глубинной трудности того, что нейтрального способа познакомить индивида с полным набором возможностей нет: частное сообщество, оказавшись под угрозой, неизбежно переживает конкретную форму получения знания о других стилях жизни (обязательное образование, например) как насильственное вторжение, угрожающее групповому самоопределению. (По этой причине амиши в США отказываются от обязательного образования для своих детей: они довольно оправданно возражают, что посещение государственных школ вмешивается в их групповое самоопределение.) Короче говоря, насилия избежать нельзя: сама нейтральная среда информации, которая должна бы вроде предоставлять истинно свободный выбор, уже отмечена неустранимым насилием.