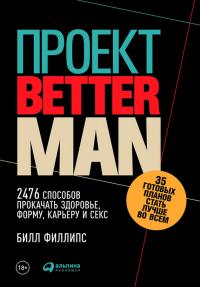Популяризованные версии
Мы начнем этот раздел с работ трех наиболее влиятельных авторов-женщин, принадлежащих миру юнгианской психологии: Мэрион Вудман, Линды Шайерс Леонард и Клариссы Пинколы Эстес, а завершим раздел новой важной работой Джона Хаула о «божественном безумии» романтической любви. Каждый из этих авторов широко использует примеры из литературы, мифов и сказок в разработке феноменологии нашей архетипической системы самосохранения или «диады».
Мэрион Вудман и даймонический любовник
Мэрион Вудман назвала нашего амбивалентного хранителя самости «даймоническим любовником», она охарактеризовала его как дериват злокачественного отцовско-дочернего комплекса. Этот даймон-любовник действует как внутренний соблазнитель и встает между [женщиной] и реальным мужчиной из внешнего мира. Вудман пишет:
В центре отцовско-дочернего комплекса находится отец-бог, которому она поклоняется и в то же время ненавидит его, потому что на каком-то уровне она знает, что он соблазняет ее и тем самым уводит от ее собственной жизни. Не имеет большого значения, обожает ли она его или ненавидит, так как в любом случае она привязана к нему, не обладая необходимой энергией для поиска ответа на вопрос, кто она на самом деле. До тех пор, пока она фантазирует о своей любви, она идентифицируется с позитивной стороной своего отца-бога; однако, если ее фантазии терпят крах, то у нее отсутствует Эго, которое могло бы поддержать ее, и она соскальзывает к противоположному полюсу и переживает внутренний распад, попав в полную власть к богу, который теперь стал враждебен к ней.
(Woodman, 1982: 136)
Вудман внесла важный вклад в исследование этой темы, указав на то, что комплекс даймона-любовника у женщины обычно служит компенсацией и защитой от неадекватной интернализации матери, вызванной нарушениями в психосоматической связи между ней и ее матерью в первые годы жизни. Это приводит к неадекватному соматическому «наполнению» женской Самости и к навязчивым проявлениям «духовности» и сексуализации ее более глубокой хтонической природы – проблема, которая является весьма показательной в случае творческих женщин и в случае женщин, пытающихся разрешить свой комплекс при помощи мужчин – аналитиков и наставников (см.: Woodman, 1985).
Линда Леонард и «Старый извращенец»
Линда Леонард, также исследуя отцовский комплекс «женщины-пуэллы»[52], привела описания действий внутреннего «старого извращенца», представляющего критичную, порицающую внутреннюю мужскую фигуру, которую Юнг назвал «негативным анимусом».
Так же как у каждой Персефоны есть свой Гадес, похищающий ее и увлекающий под землю, так и в психе Пуэллы обитает болезненная манифестация авторитарной ригидной стороны маскулинности. Потенциально это мудрый старый мужчина, который стал больным и злобным из-за того, что его отвергли. С моей точки зрения причиной этого отвержения является нарушение отношений с отцом в детстве, в которых отец не проявил себя как преданный и ответственный человек.
(Leonard, 1985: 87)
В более поздней работе, Леонард описала сходный внутренний комплекс, используя тему Дракулы/Вампира и связанный с ней оральный эротизм (еще одна версия даймона-любовника), указывающий на то, что эта фигура имеет доэдипово происхождение (Leonard, 1986). Наконец, в двух следующих работах Леонард исследует различные фигуры Трикстера, играющие роль в ее собственной борьбе с аддиктивным поведением (Leonard, 1989 и 1993). В первой из этих работ она приводит автобиографический комментарий:
До того как я достигла поворотного пункта в моей жизни, у меня было несколько рецидивов подряд. В каждом единичном рецидиве появлялась коварная и мощная архетипическая фигура, действующая против меня вместо того, чтобы войти в союз с творческими силами моей психе. Это был Трикстер. Каждый зависимый пациент очень хорошо знаком с этой фигурой. Трикстер представляет собой в высшей степени соблазняющую энергию, вступающую в игру в самом начале формирования зависимости. По мере того как болезнь прогрессирует, о его появлении свидетельствует каждый случай отрицания, утаивания и самообмана. В случае зависимости Трикстер часто объединяется с другими персонажами из преисподней – Ростовщиком… Мошенником… Романтиком… Подземным человеком, неистовым Бунтовщиком, хаотичным Безумцем, суровым Судьей и в конечном счете Убийцей… Признание этой демонической силы внутри нас и отсутствия у Эго сил для того, чтобы в одиночку справится с ней, приводит нас к поиску помощи, следовательно, к разрыву удерживающего кольца силы и поиску кольца любви.
(Leonard, 1989: 93)
Наконец, в последней своей книге, ставшей бестселлером, Леонард (Leonard, 1993) подняла тему амбивалентного Трикстера психе, принявшего образ «безумной», деструктивной, потенциально творческой женщины, в бессознательном материале как мужчин, так и женщин.
Кларисса Пинкола Эстэс и «врожденный хищник»
Популярная книга-бестселлер Пинколы Эстэс (Estes, 1992) дополняет ряд работ авторов-писательниц, которые посвятили свои произведения демоническим негативным «силам» в психе для того, чтобы помочь нам справиться с ними. Что касается Пинколы Эстес, то она считает, что наш амбивалентный Защитник/Преследователь не является кем-то «помогающим», обладающим креативной энергией, так как – по крайней мере, для женщин – он представляет врожденный contra naturam[53] аспект, противостоящий позитивному началу, противодействующий силам развития, нарушающий гармонию и «противящийся дикой природе» (там же: 40). Под последним автор, по-видимому, понимает «тягу к дикому, жажду, чтобы наши жизни управлялись нашими душами [а не Эго]» (там же: 270). В отношении contra naturam фактора Пинкола Эстэс показывает, каким образом Эго пациентки должно, набравшись храбрости, назвать эту фигуру, встретиться с ней лицом к лицу и научится говорить ей «нет».
Согласно Пинколе Эстэс, наш «врожденный хищник» не связан с травмой или «отвергающим воспитанием», он является зловредной силой, которая просто «есть то, что она есть» (там же: 46).
Это глумливый и кровожадный противник живет в нас от рождения. Единственное предназначение этого незваного гостя состоит в том, чтобы превратить все перекрестки в тупики, и с этим ничего не сделают даже самые заботливые родители.
Время от времени этот хищный властелин появляется в женских снах. Он неожиданно врывается в жизнь женщины, когда ее самые заветные и важные планы близки к свершению. Он разлучает женщину с ее интуитивной природой. Проделав эту работу, разорвав связи, он оставляет женщину умершей для чувства, слишком слабой, чтобы справляться со своей жизнью; ее мысли и сновидения безжизненно лежат у ее ног.
(Там же: 40)
Это злокачественное образование, «враг обоих полов от древности до наших дней», действует «вопреки влечениям естественной Самости» (там же: 46). Одним из таких «влечений естественной Самости» – на самом деле центральным влечением – является то, что Пинкола Эстэс назвала «тяга к дикому внутри нас», тяга Эго к душе и, в конечном счете, к духу (который, как она подчеркивает, в сказках всегда рождается из души) (там же: 271).
Итак, в конце концов, «врожденный хищник» противостоит в психе наиболее глубокому стремлению, началу всего, импульсу к новой жизни – к тому, что Пинкола Эстэс назвала «духовным дитя» (и что мы обозначили как неуничтожимый личностный дух индивида).
Этот духовный ребенок, la ni?a milagrosa[54], чудесный ребенок, который может услышать зов, услышать далекий голос, говорящий, что пришло время вернуться, вернуться к самому себе. Ребенок является частью нашей сущностной природы, которая побуждает нас действовать, ибо может услышать зов, когда он прозвучит. Это дитя, пробуждающее ото сна, поднимающее с постели, устремляющее прочь от дома, прочь в ночную бурю, в бушующее море, его устами мы клянемся себе: «Бог свидетель, я преодолею этот путь» или «Я выдержу».
(Там же: 273)
Здесь Пинкола Эстес приводит прекрасное описание неуязвимого личностного духа, которого мы назвали «клиентом» фигуры Защитника/Преследователя Самости. Отдавая должное красоте и глубине ее изложения, отметим, однако, что автору не удалось рассмотреть «двойственную» природу этой злокачественной внутренней фигуры, она отрицает связь этой фигуры с травмой или «отвергающим воспитанием», для нее эта фигура остается просто неким существом, обитающим в психе, которое «является тем, чем является». Конечно, автор предлагает впечатляющее описание базовых качеств деструктивности и негативизма этой фигуры, однако она добивается этого, вырывая ее из контекста превратностей индивидуального развития, тем самым Пинкола Эстэс игнорирует факты клинических исследований и обедняет возможности терапии.
Один из наиболее проблематичных аспектов позиции Пинколы Эстэс состоит в том, что ее взгляды могут внести лепту в мистификацию архетипической реальности и придание ей самостоятельного сущностного статуса, как будто бы отсутствует тесная связь этой реальности с объектными отношениями Эго и внешним окружением. Далеко не все в психике «является тем, чем является». Образы меняются – и меняются радикально – под влиянием факторов окружающей среды, терапии и т. д.
Джон Хаул и «тигриная яма»[55] под синтезом Самости
Темой Джона Хаула является романтическая любовь, в том числе и то ее проявление с чертами навязчивости и злокачественной зависимости, которое часто приводит к смерти и разрушению. Хаул придерживается точки зрения, что «любовь к Богу «лежит в истоках человеческой любви и представляет собой «фундаментальную и центральную активность человеческой психе» (Haule, 1992: 8). Романтическая любовь ищет слияния с возлюбленным (утраты Эго). В конечном счете эта страсть вызывает более глубокую страсть, «фана», арабский глагол, означающий «растворение индивидуального я во Всемирном Существе» (там же: 11). Это, говорит Хаул, в свою очередь, приводит нас на опасную территорию, так как утрата функций Эго является признаком психопатологии. Тогда как же нам отличить скрытое течение разрушительной любви, которая увлекает нас обманом любовника-даймона (защита нашей системы самосохранения), от реального чувства, обусловленного «высшими функциями» анимы и ее посредничеством по отношению к Самости? (там же: 20).
Ответ Хаула на этот вопрос созвучен юнгианскому подходу, поскольку он объясняет тьму бессознательного в терминах «теневой» личности. Итак,
Демонический любовник появляется как следствие неудачной попытки дифференциации нашей анимы или анимуса от нашей тени. Поэтому «иной» внутри нас, наделенный нуминозным и чертами противоположного пола, чья обязанность состоит в установлении отношений между нами и Самостью (анима или анимус), оказывается заражен всем тем (принадлежащим тени), с чем мы не должны были бы иметь дело.
(Там же: 107)
В другом месте Хаул предполагает, что «демоническая сила» анимы или анимуса «предстает в своем колдовском обличье», но однажды «лишенная силы» она больше не владеет нами как автономный комплекс (там же: 20). Продолжая в том же духе, он считает, что
…именно степень пережитой целостности является тем, что отличает демонических любовников от тех, кого мы любим, через отношения, с которыми мы постигаем любовь к Богу. В подлинном состоянии фана мы обретаем связь с нашими возлюбленными посредством Самости, а наша анима или наш анимус играет роль некой линзы, усиливающей и концентрирующей наше восприятие любимого человека… тогда как… в отношениях с демоническим любовником эта связь вскрывает наши соответствующие раны.
(Там же: 83)
Очевидно, что Хаул желает насколько это возможно отделить истинную любовь, коренящуюся в «любви к Богу» и в Самости, от даймонической любви (зараженной тенью). Все же он вынужден признать, что даже в даймонической любви есть сила очарования и даже таинственное обещание трансцендентального при условии капитуляции я, что является имитацией «подлинной» романтической любви. Обе формы любви наделены «нуминозным» измерением психе. Тем не менее Хаул избегает очевидного разрешения этой дилеммы, того, что согласуется с работами Юнга, а именно, что Самость содержит тень. Вместо этого он предлагает модель коллективного бессознательного, в которой «самый глубокий» слой психе приставлен как область («тигриная яма»), в которой правит бал буйство влечений или архетипов («врожденные пусковые механизмы», ВПМ), тогда как следующий, более высокий уровень отведен синтетической активности Самости (там же: 51). Если в синтезе Самости есть какой-то «изъян» или «рана», перед нами раскрывается бездна, разобщенный мир хаоса, из которого нас манит даймон-любовник. Если мы, регрессировав, в частности морально, попадем в его когти, в жуткую тень наших первичных я, тогда «мы можем быть уверены, что, по крайней мере, один из ВПМ выпал из синтеза Самости и овладел сознанием» (там же: 86).
Хауэл, сославшись в качестве примера на литературный персонаж женщины (из романа Достоевского «Униженные и оскорбленные»), одержимой сексуальными желаниями, которая внешне предстает как образец пристойности, но в тайне предается низкой чувственности, хохоча «как одержимая…в самом пылу сладострастия», Хаул пишет:
Она одержима одним из врожденных пусковых механизмов; она поставила свои значительные силы полноценно развитого Эго на службу сексуального влечения, безудержного желания. Мы слышим в ее смехе боль конфликта между Самостью и логовом тигров, она примкнула к тиграм. Исходя из этого, она представляет собой гротескный пример демонического любовника.
(Там же: 87)
Анализ Хаула является типичным для тех аналитиков (многие из них – глубоко религиозные люди), которые полагают, что концепция Самости Юнга (и идея Бога) может применяться только в отношении процессов, обладающих качествами синтетичности, интегративности и исцеления. Однако, по моему убеждению, такой теоретический маневр приводит нас к неразрешимым проблемам как в клинической практике (поскольку в нем выражено недоверие темной стороне), так и в теории, потому что, как это ни парадоксально, но это идет вразрез с положениями юнгианской психологии, по крайней мере, так, как я их понимаю. Достижение Хаула состоит в том, что его модель позволяет успешно применять метапсихологию Фрейда в отношении бессознательного. На самом нижнем уровне располагаются влечения (Ид), а над ними – благотворящий синтезирующий орган психе (Эго по Фрейду или Самость по Хаулу), который в норме организует и гармонизирует (высшие, вторичные процессы) нижний хаос, но не принимает участия в его первичных процессах. Как я понимаю Юнга, он подразумевал нечто диаметрально противоположное этому, а именно, что Самость (образ Бога) является амбивалентным, содержит в себе доброе и злое, духовность и сексуальность, образуя структуру первичного процесса, то есть представляя собой часть глубокой психе. Это обычно означает, что каждое темное побуждение в бессознательном (врожденный пусковой механизм) имеет свой духовный образ (трансцендентную функцию) и, следовательно, является частью Самости.
Это же подчеркивал Юнг в своих рассуждениях о разрыве, который произошел между ним и Фрейдом. Завершая свой труд «Психология бессознательного» в 1911 году, Юнг имел дело с мифологическим материалом, который, казалось, сочетал как деструктивный, так и конструктивный аспекты. Сразу после «Гимна Творения» (посвященного позитивному высвобождению творческой энергии) мисс Миллер следует «Песнь Мотылька». Юнг говорит:
…В образе мотылька представлено либидо, опаляющее крылья в свете, который сотворил его; он летит навстречу своей погибели и обретает смерть от той же силы, которая дала ему жизнь. На этой двойственности космического принципа заканчивается книга. Это приводит к парам противоположностей, то есть, к началу Типов.
(Jung, 1989: 28) Фрейд не смог разглядеть в этой книге ничего, кроме темы противостояния отцу и того пункта, что вызвал у него самые сильные возражения, а именно мое утверждение о том, что либидо расщеплено и производит нечто препятствующее самому себе. Для него, как для мониста, это было в высшей степени богохульством. Это отношение Фрейда еще больше укрепило меня во мнении, что он отвел место для идеи Бога в сфере сексуальности и что либидо, в его представлении, является влечением, имеющим только одно направление. Однако, в сущности, я полагаю, что можно показать существование воли к смерти так же, как воли к жизни.
(Там же: 24–25) Сексуальность и духовность являются парами противоположностей, необходимыми друг другу.
(Там же: 29) Общераспространенной ошибкой является мнение, что я будто бы не признаю значения сексуальности. Напротив, сексуальность занимает важное место в моей психологии как существенное, хотя и не единственное выражение психической целостности… Величайшая ценность сексуальности состоит в том, что она является выражением хтонического духа. Этот дух является «иным лицом Бога», темной стороной образа Бога.
(Jung, 1963: 168)



![[Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](https://img-lib.med-tutorial.ru/2191957992/cover.jpg)