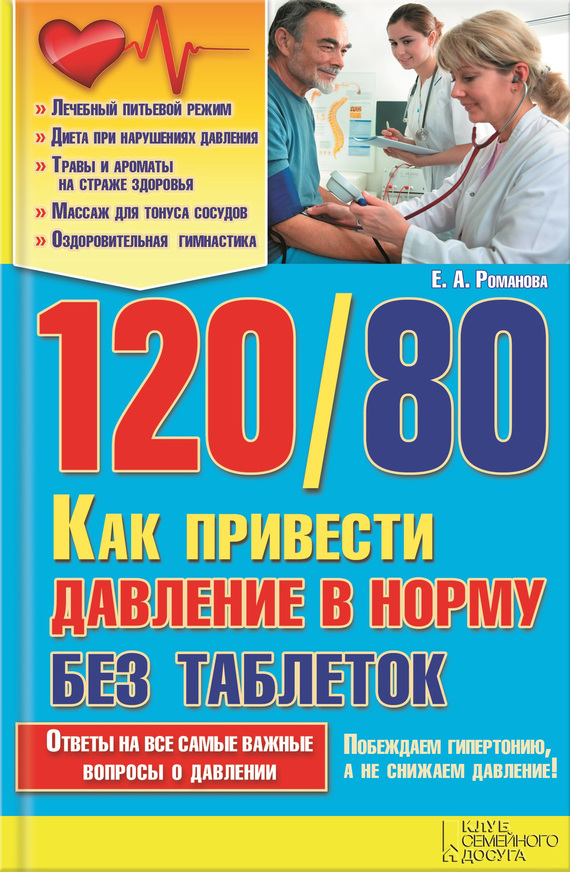Эйдотехника
Первое, над чем Ш. должен был начать работать, – это освобождение образов от тех случайных влияний, которые могли затруднить их «считывание». Эта задача оказалась очень простой.
«Я знаю, что мне нужно остерегаться, чтобы не пропустить предмет, – и я делаю его большим. Вот я говорил вам – слово “яйцо”. Его легко было не заметить… и я делаю его большим… и прислоняю к стене дома, и лучше освещаю его фонарем…»
Увеличение размеров образов, их выгодное освещение, правильная расстановка – все это было первым шагом той «эйдотехники», которой характеризовался второй этап развития памяти Ш. Другим приемом было сокращение и символизация образов, к которой Ш. не прибегал в раннем периоде формирования его памяти и который стал одним из основных приемов в период его работы профессионального мнемониста.
«Раньше, чтобы запомнить, я должен был представить себе всю сцену. Теперь мне достаточно взять какую-нибудь условную деталь. Если мне дали слово “всадник”, мне достаточно представить ногу со шпорой… Теперешние образы не появляются так четко и ясно, как в прежние годы… Я стараюсь выделить то, что нужно…»
Прием сокращения и символизации образов привел Ш. к третьему приему, который постепенно приобрел для него центральное значение.
Получая на сеансах своих выступлений тысячи слов, часто нарочито сложных и бессмысленных, Ш. оказался принужден превращать эти ничего не значащие для него слова в осмысленные образы. Самым коротким путем для этого было разложение длинного и не имеющего смысла или бессмысленной для него фразы на ее составные элементы с попыткой осмыслить выделенный слог, использовав близкую к нему ассоциацию…
Мы ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующими ту виртуозность, с которой Ш. пользовался приемами семантизации и эйдотехники…
В декабре 1937 г. Ш. была прочитана первая строфа из «Божественной комедии».
Nel mezzo del camin di nostra vita Mi ritrovai par una selva oscura, Che la diritta via era smarita, Ahi quanta a dir qual era e cosa dura.
Как всегда, Ш. просил произносить слова предлагаемого ряда раздельно, делая между каждым из них небольшие паузы, которые были достаточны, чтобы превратить бессмысленные для него звукосочетания в осмысленные образы.
Естественно, что он воспроизвел несколько данных ему строф «Божественной комедии» без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были произнесены. Естественно было и то, что это воспроизведение было дано им при проверке, которая была неожиданно проведена… через 15 лет! Вот те пути, которые использовал Ш. для запоминания:
«Nel – я платил членские взносы, и там в коридоре была балерина Нельская; меццо (mezzo) – я скрипач; я поставил рядом с нею скрипача, который играет на скрипке; рядом – папиросы “Дели” – это del; рядом тут же я ставлю камин (camin), di – это рука показывает дверь; nos – это нос, человек попал носом в дверь и прищемил его; tra – он поднимает ногу через порог, там лежит ребенок – это vita, витализм; mi – я поставил еврея, который говорит “мы здесь ни при чем”; ritrovai – реторта, трубочка прозрачная, она пропадает, еврейка бежит, кричит “вай” – это vai. Она бежит, и вот на углу Лубянки – на извозчике едет per – отец. На углу Сухаревки стоит милиционер, он вытянут, стоит как единица (una). Рядом с ним я ставлю трибуну, и на ней танцует Сельва (selva); но чтобы она не была Сильва – над ней ломаются подмостки – это звук “э”…»
Мы могли бы продолжить записи из нашего протокола, но способы запоминания достаточно ясны и из этого отрывка. Казалось бы, хаотическое нагромождение образов лишь усложняет задачу запоминания четырех строчек поэмы; но поэма дана на незнакомом языке, и тот факт, что Ш., затративший на выслушивание строфы и композицию образов не более нескольких минут, мог безошибочно воспроизвести данный текст и повторить его… через 15 лет, «считывая» значения с использованных образов, показывает, какое значение получили для него описанные приемы…
Чтение только что приведенных протоколов может создать естественное впечатление об огромной, хотя и очень своеобразной логической работе, которую Ш. проводит над запоминаемым материалом.
Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. Вся большая и виртуозная работа, многочисленные примеры которой мы только что привели, носит у Ш. характер работы над образом, или, как мы это обозначили в заголовке раздела, – своеобразной эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки получаемой информации. Именно поэтому Ш., исключительно сильный в разложении предложенного материала на осмысленные образы и в подборе этих образов, оказывается совсем слабым в логической организации запоминаемого материала, и приемы его «эйдотехники» оказываются не имеющими ничего общего с логической мнемотехникой, развитие и психологическое строение которой было предметом такого большого числа психологических исследований [2]. Этот факт можно легко показать на той удивительной диссоциации огромной образной памяти и полном игнорировании возможных приемов логического запоминания, которую можно было легко показать у Ш.
Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой задаче.
В самом начале работы с Ш. – в конце 20-х годов – Л. С. Выготский предложил ему запомнить ряд слов, в число которых входило несколько названий птиц. Через несколько лет – в 1930 г. – А. Н. Леонтьев, изучавший тогда память Ш., предложил ему ряд слов, в число которых было включено несколько названий жидкостей.
После того как эти опыты были проведены, Ш. было предложено отдельно перечислить названия птиц в первом и названия жидкостей во втором опыте.
В то время Ш. еще запоминал преимущественно «по линиям», – и задача избирательно выделять слова одной категории оказалась совершенно недоступной ему: самый факт, что в число предъявленных ему слов входят сходные слова, оставался незамеченным и стал осознаваться им только после того, как он «считал» все слова и сопоставил их между собой…
Мы сказали об удивительной памяти Ш. почти все, что мы узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной – и осталась такой непонятной. Мы узнали многое о ее сложном строении… И все же как мало мы знаем об этой удивительной памяти! Как можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются у Ш. многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, не тормозят друг друга, и что Ш. практически мог избирательно вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта нестираемая стойкость следов?
Его исключительная память, бесспорно, остается его природной и индивидуальной особенностью [3], и все технические приемы, которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, а не «симулируют» ее иными, не свойственными ей приемами.
До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые проявлял Ш. в запоминании отдельных элементов – цифр, звуков и слов.
Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию более сложного материала – наглядных ситуаций, текстов, лиц? Сам Ш. неоднократно жаловался на… плохую память на лица.
«Они такие непостоянные, – говорил он. – Они зависят от настроения человека, от момента встречи, они все время изменяются, путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить».
В этом случае синестезические переживания, которые в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность припоминания удержанного материала, здесь превращаются в свою противоположность и начинают препятствовать удержанию в памяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов узнавания, которую проделывает каждый из нас при запоминании лиц (процесса, который еще очень плохо изучен психологией [4]), по-видимому, выпадает у Ш., и восприятие лиц сближается у него с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны реки. А кто может «запомнить» колышущиеся волны?..
Не менее удивительным может показаться и тот факт, что запоминание целых отрывков оказывается у Ш. совсем не таким блестящим.
Мы уже говорили, что при первом знакомстве с Ш. он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, который он должен был запомнить.
Если рассказ читался быстро – на лице Ш. появлялось выражение озадаченности, которое сменялось выражением растерянности.
«Нет, это слишком много… Каждое слово вызывает образы, и они находят друг на друга, и получается хаос… Я ничего не могу разобрать… а тут еще ваш голос… и еще пятна… И все смешивается».
Поэтому Ш. старался читать медленнее, расставляя образы по своим местам, и, как мы увидим ниже, проводя работу, гораздо более трудную и утомительную, чем та, которую проводим мы: ведь у нас каждое слово прочитанного текста не вызывает наглядных образов и выделение наиболее существенных смысловых пунктов, несущих максимальную информацию, протекает гораздо проще и непосредственнее, чем это имело место у Ш. с его образной и синестезической памятью.
«В прошлом году, – читаем мы в одном из протоколов бесед с Ш. (14 сентября 1936 года), – мне прочитали задачу: “Торговец продал столько-то метров ткани…” Как только произнесли “торговец” и “продал”, я вижу магазин и вижу торговца по пояс за прилавком… Он торгует мануфактурой… и я вижу покупателя, стоящего ко мне спиной… Я стою у входной двери, покупатель передвигается немножко влево… и я вижу мануфактуру, вижу какую-то конторскую книжку и все подробности, которые не имеют к задаче никакого отношения… и у меня не удерживается суть…»