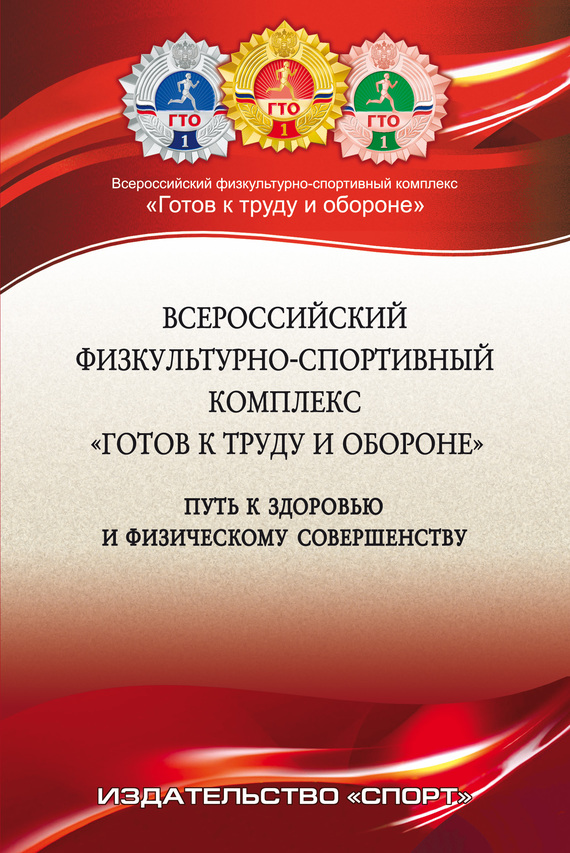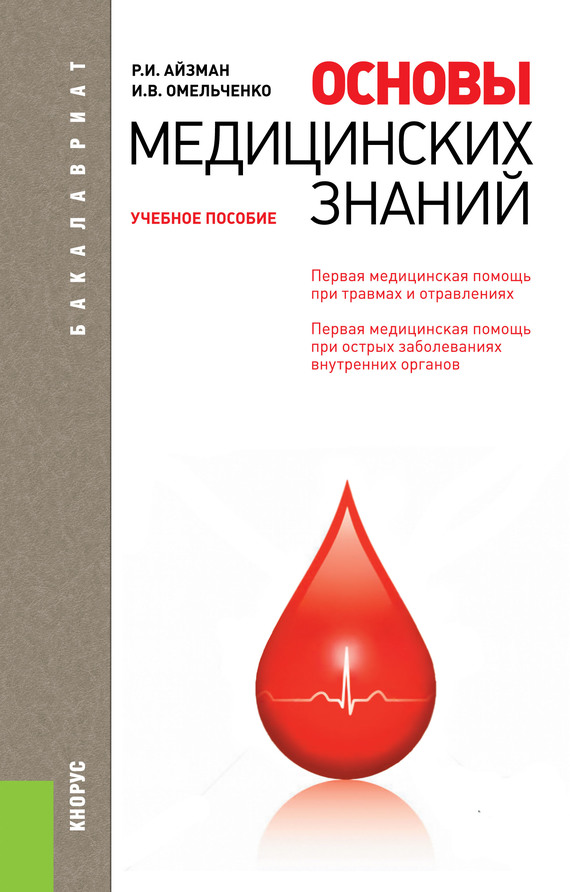Внушение и либидо
Мы исходили из фундаментального факта, что у отдельного человека, находящегося в массе, под ее влиянием происходит зачастую радикальное изменение его душевной деятельности. Его аффективность чрезвычайно усиливается, его интеллектуальная деятельность заметно ограничивается, оба процесса, очевидно, следуют в направлении уподобления другим массовым индивидам; этот результат может быть достигнут только благодаря устранению присущих каждому отдельному человеку торможений влечения и благодаря отказу от особых для него форм проявления его наклонностей. Мы слышали, что эти зачастую нежелательные последствия (по меньшей мере, частично) можно предотвратить посредством более высокой «организации» масс, но фундаментальному факту психологии масс – двум тезисам об усилении аффективности и о торможении мыслительной деятельности в примитивной массе – это ничуть не противоречит. Мы заинтересованы в том, чтобы найти психологическое объяснение этому душевному изменению отдельного человека в массе.
Рациональные моменты – как, например, вышеупомянутое запугивание отдельного человека, то есть проявления его влечения к самосохранению, – очевидно, не покрывают наблюдаемых феноменов. То, что нам обычно предлагается в качестве объяснения авторами, занимающимися социологией и психологией масс, всякий раз оказывается тем же самым, хотя и под разными именами, – волшебным словом внушение. У Тарда [1890] оно называлось подражанием, однако мы должны признать правоту автора, который нам поясняет, что подражание подпадает под понятие суггестии и даже является ее следствием. У Ле Бона все необычное в социальных явлениях было сведено к двум факторам: к взаимному внушению отдельных людей и к престижу вождей. Но престиж опять-таки выражается только в способности вызывать суггестию. У Мак-Дугалла у нас могло на какой-то момент сложиться впечатление, что его принцип «первичной индукции аффекта» делает излишней гипотезу о суггестии.
Мак-Дугалл предлагал принцип «первичной индукции аффекта», считая его удачной заменой внушению.
Но при дальнейшем рассуждении мы должны все-таки согласиться, что этот принцип выражает не что иное, как известные утверждения о «подражании» или «заражении», разве что при более решительном подчеркивании аффективного момента. То, что подобная тенденция – восприняв признаки аффективного состояния у другого человека, впадать в такой же аффект – у нас существует, не вызывает сомнения. Но как часто мы успешно ей противостоим, отметаем аффект, реагируем совершенно противоположным образом? Так почему же мы регулярно поддаемся этому заражению в массе? Опять-таки нужно будет сказать, что именно суггестивное влияние массы заставляет нас повиноваться этой тенденции подражания, индуцирует в нас аффект. Впрочем, у Мак-Дугалла мы не обходимся без суггестии; от него, как и от других, мы слышим: массы отличаются особой внушаемостью.
Этим словосочетанием «мы слышим» Фрейд словно сторонится понятия «внушение», будто бы считая его чем-то ненаучным и спекулятивным. Но тут нужно отметить, что в годы практики под руководством Брейера и Шарко Фрейд не только использовал гипнотические методы в целях лечения, но и был яростным сторонником гипноза, публично выступая в его защиту. Однако со временем Фрейд обнаружил, что не все пациенты поддаются внушению, и более того – что метод гипноза удаляет их от понимания собственных психических проблем. Фрейд все чаще стал критиковать метод гипноза и испытывать недовольство этим методом. Но тем не менее именно гипноз (вернее, сопротивление пациентов ему) подвел Фрейда к одному из основных его открытий – к методу свободных ассоциаций, давшему начало психическому анализу. В отличие от гипноза метод психического анализа нашел широкое и успешное применение в клинической практике.
Итак, мы подготовлены к высказыванию, что внушение (точнее, внушаемость) – это первичный, далее не редуцируемый феномен, фундаментальный факт душевной жизни человека. Так считал и Бернгейм, удивительное искусство которого мне довелось наблюдать в 1889 году. Но я могу также вспомнить о глухом сопротивлении этой тирании внушения. Когда на больного, который не проявлял уступчивости, закричали: «Что же вы делаете? Vous contre-suggestionnez!»[14], то я себе сказал, что это явная несправедливость и насилие. Человек, несомненно, имеет право на контрсуггестию, если его пытаются подчинить посредством внушения. Мое сопротивление затем приняло форму протеста против того, что внушение, которым объясняли все, само объяснения не имело. В связи с этим я повторил старый шутливый вопрос:
Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я снова обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что в ней ничего не изменилось. Утверждая это, я вправе пренебречь одним-единственным исключением, которое как раз доказывает влияние психоанализа. Я вижу, что сейчас особенно стараются правильно сформулировать понятие суггестии, то есть установить общепринятое применение термина, и это нелишне, ибо это слово все больше применяется в менее строгом значении, и вскоре любое влияние будет обозначаться, как в английском языке, где «to suggest, suggestion» соответствует нашему «настоятельно предлагать», нашему «побуждать». Но объяснения сущности суггестии, то есть условий, при которых осуществляется влияние без достаточного логического обоснования, не появилось. Я не уклонился бы от задачи подкрепить это утверждение анализом литературы за последние тридцать лет, но я не стану этого делать, поскольку я знаю, что рядом со мной подготавливается обстоятельное исследование, поставившее перед собой именно эту задачу.
Вместо этого я попытаюсь применить для объяснения психологии масс понятие либидо, которое сослужило не столь добрую службу при изучении психоневрозов.
Либидо – это выражение, взятое из учения об аффективности. Мы называем так рассматриваемую в качестве количественной величины – даже если в настоящее время она неизмерима – энергию таких влечений, которые имеют отношение ко всему, что можно обобщить понятием любовь. Ядро того, что названо нами любовью, разумеется, образует то, что обычно называют любовью и что воспевают поэты, то есть половая любовь, имеющая целью слияние полов. Но мы не отделяем от нее и всего того, что так или иначе причастно к названию «любовь»: с одной стороны – любовь к себе, с другой стороны – любовь к родителям, любовь к детям, дружбу и вообще любовь ко всем людям, а также преданность конкретным предметам и абстрактным идеям. Наше оправдание состоит в том, что психоаналитическое исследование нам показало: все эти стремления являются выражением одних и тех же импульсов влечений, которые стремятся подвести оба пола к слиянию, хотя при иных обстоятельствах они отклоняются от этой сексуальной цели или удерживаются от ее достижения, но при этом все же всегда сохраняют достаточно много от своей первоначальной сущности, чтобы обозначить свою идентичность (самопожертвование, стремление к сближению).
Таким образом, мы полагаем, что словом «любовь» в его многообразных применениях язык создал совершенно правомерную взаимосвязь и что мы не можем сделать ничего лучшего, чем положить ее в основу наших научных дискуссий и описаний. Принятием такого решения психоанализ вызвал бурю негодования, как будто он был повинен в кощунственном нововведении. И все же этим «расширенным» пониманием любви психоанализ не создал ничего оригинального. «Эрос» философа Платона в своем происхождении, проявлении и отношении к половой любви полностью совпадает с любовной энергией, либидо в психоанализе, как по отдельности показали Нахманзон и Пфистер, а когда апостол Павел в знаменитом Послании к Коринфянам превозносит любовь над всем остальным, он, несомненно, понимает ее именно в таком «расширенном» смысле, из чего можно лишь почерпнуть, что люди не всегда принимают всерьез своих великих мыслителей, даже если они якобы весьма восхищаются ими.
Эти любовные влечения a potiori[16] и по своему происхождению называются в психоанализе сексуальными влечениями. Большинство «образованных» восприняло это наименование как оскорбление и отомстило за него, бросив психоанализу упрек в «пансексуализме». Кто считает сексуальность чем-то постыдным и унизительным для человеческой природы, тот волен воспользоваться более благородными выражениями «эрос» и «эротика». Я и сам мог бы так поступить с самого начала и тем самым избежал бы многих упреков, но я не хотел этого, ибо не люблю идти на уступки малодушию. Нельзя знать, куда тебя заведет этот путь; сначала уступаешь на словах, а затем постепенно и на деле. Я не нахожу никакой заслуги в том, чтобы стыдиться сексуальности; греческое слово «эрос», которое должно умерить стыд, в конечном счете не что иное, как перевод нашего немецкого слова «Liebe» [ «любовь»], и, наконец, кто может ждать, тому нет надобности идти на уступки.
Итак, мы попытаемся начать с предположения, что любовные отношения (выражаясь индифферентно: эмоциональные связи) составляют сущность также и массовой души. Вспомним о том, что про таковые у авторов не говорится. То, что им соответствовало бы, очевидно, скрыто за ширмой внушения. Наше ожидание сперва подкрепляют две мимолетные мысли. Во-первых, что масса удерживается вместе, очевидно, какой-то силой. Но какой силе можно было бы приписать это действие, кроме эроса, удерживающего вместе все в этом мире? Во-вторых, складывается впечатление, что, когда индивид отказывается в массе от своей самобытности и поддается внушению со стороны других, он делает это потому, что у него существует потребность скорее быть в согласии с ними, чем в противоречии, – то есть, возможно, «из любви к ним».