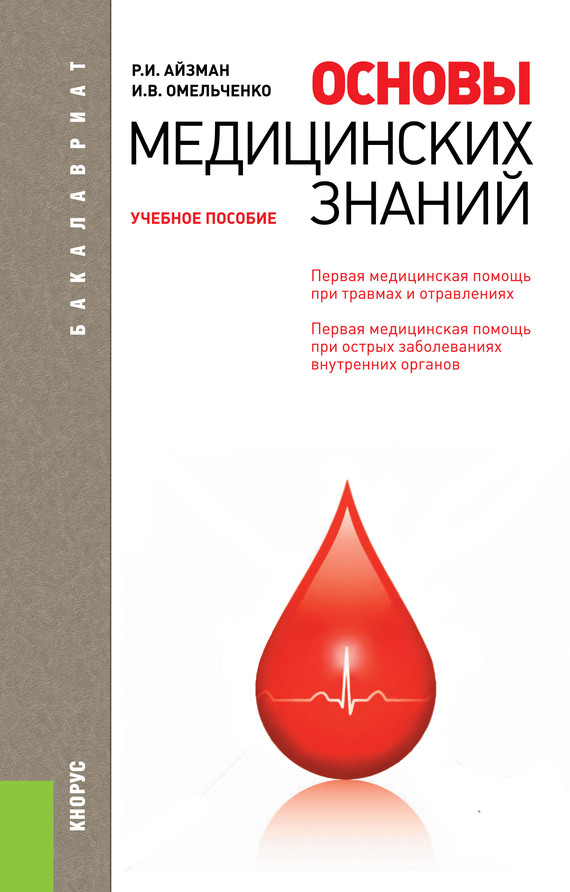Глава 3
Мы отвратительные свихнувшиеся создания
Я росла в многодетной семье и больше всех всегда любила своего брата Джима. Он сломался, когда ему было 18, и с тех пор стал, как сам выражается, «одиноким волком». Во время путешествия с друзьями его вдруг затошнило и вырвало на парковке возле «Уолмарта». Это происшествие вызвало у него такое смущение и тревогу, что, вместо того чтобы найти туалет и почиститься, он снял запачканную одежду, бросил ее на асфальт и убежал. Друзья бросились на поиски и через пару часов нашли его в другом секторе парковки. Джим бродил там, ничего не соображая. Он был не в состоянии связно говорить и ограничивался лишь невнятным бормотанием. Ребятам с трудом удалось уговорить его вернуться в машину. Путешествие превратилось в пытку. Всю дорогу Джим ехал в грязной одежде, отказываясь мыться. Способность к связной речи долго к нему не возвращалась; да и вообще он вел себя не как человек, а как дикий зверь. Через несколько дней он снова стал прежним Джимом, но о том, что с ним происходило, пока он был одиноким волком, не помнит до сих пор.
Я не знаю, как описать взрослого Джима, и поэтому скажу, что он очень хрупкий. Он чувствителен к стрессам, его легко выводят из равновесия сущие пустяки, и он все время отчего-то нервничает. Он ведет себя как собака, которую слишком часто били и она неуверенно чувствует себя в незнакомых условиях. Несмотря на неоднократные визиты к психотерапевтам и психологам, он до сих пор так и не смог взять себя в руки и собраться и либо агрессивно реагирует на неприятности, либо уходит от них, прячась в непробиваемую скорлупу. Глядя на него, я иногда думаю, не следствие ли это чрезмерной способности к сопереживанию? Я никогда не могла себе даже представить, что поведу себя как Джим, и мне непонятно, как в одной и той же семье могли сформироваться два таких несхожих характера. Я часто вспоминаю Джима, мою психологическую противоположность, задумываясь, что сделало меня социопатом – наследственность или условия воспитания. Есть убедительные научные данные о том, что в возникновении социопатии большую роль играют генетические факторы. Исследования также показывают, что социопатические признаки стабильны и прослеживаются на протяжении всей жизни индивида. Однояйцовые близнецы, у которых набор генов совпадает на сто процентов, проявляют одновременную подверженность социопатии намного чаще, чем двойняшки (разнояйцовые сибсы), чей набор генов совпадает лишь на 50 процентов. Джим ближе всех ко мне среди братьев и сестер. Он старше меня на год с небольшим, нас часто принимали за двойняшек. В детстве мы все делали вместе. Я могу с уверенностью утверждать, что нас воспитывали совершенно одинаково, но, став взрослыми, мы оказались абсолютно разными людьми.
В большом городском парке, где я, можно сказать, выросла, находилась большая бетонная статуя бронтозавра. Скульптура стояла в песочнице, и большая часть ее скрывалась под слоем песка. Наружу торчали лишь шея, голова и фиолетовый хвост, на который мы часто карабкались, чтобы покачаться, вися на руках. Мы с Джимом провели массу времени возле этого бронтозавра – по большей части во второй половине дня, когда мама должна была забирать нас из школы. Парк находился недалеко, но вне досягаемости школьных камер видеонаблюдения. Никто никогда не заподозрил бы, что родители забыли нас забрать, а на всякий случай, если бы нас спросили, у нас с Джимом были заготовлены ответы: «Мама сейчас у завуча, они говорят о нашей учебе» или «Мама только что отошла по срочным делам, и сейчас сюда придет соседка, чтобы побыть с нами». На самом деле мы не имели ни малейшего представления, почему мама никогда не приходит вовремя, но нам не хотелось, чтобы нас все время донимали расспросами чужие люди, и поэтому мы врали. В нашей истории обязательно присутствовал какой-нибудь взрослый, который должен вот-вот подойти, даже если солнце уже садилось за горизонт.
В один солнечный день, когда мне было 10 лет, а Джиму 11, родители отвезли нас в парк. Должно быть, в начальной школе были каникулы, потому что, как я помню, наш самый старший брат в тот день находился в школе. Других детей в парке, однако, не было. Родители оставили нас возле бронтозавра и отправились по каким-то делам, а мы принялись играть в войну и подводную лодку, взяв в товарищи старого обшарпанного друга-динозавра. Прячась от врагов, мы заползали в его горло, а потом высовывали руки из огромной пасти. Устав от бронтозавра, мы углубились в бамбуковую рощу и продолжили военные игры, воображая себя солдатами Вьетконга, бесшумно пробирающимися по джунглям.
Поиграв так приблизительно час, мы пошли назад к машине и увидели ее как раз в тот момент, когда папа открыл дверь маме и она, как обычно, царственно уселась на место. Мы с братом поняли, что родители сейчас уедут, и прибавили шагу. Нам очень хотелось поскорее попасть домой, потому что военные игры пробудили у нас зверский аппетит. Нам оставалось пройти еще метров сто, когда мы услышали, как заработал мотор, но мы не побежали, пока не увидели, как зажглись фонари заднего хода – это означало, что родители сейчас начнут выезжать из парка. Не могу точно сказать, когда до меня дошло, что они нас бросили. Даже когда машина медленно поехала по узким дорожкам, а мы понеслись вслед, крича во все горло, я все же была уверена, что без нас не уедут. Не знаю, видели ли они нас в зеркале заднего вида – нас, своих детей, – как в фильме ужасов: чудовищ, от которых они хотели спастись на медленно ехавшей машине. Тихое урчание мотора составляло невыносимый контраст с нашими отчаянными воплями и топотом детских ног по асфальту парковых дорожек.
Мы бежали за родительской машиной метров семьсот, но догнать ее не смогли, а когда они выехали на главную дорогу, угнаться за ними не осталось уже даже теоретической возможности. Скоро автомобиль скрылся из виду.
Это был момент, когда я потеряла надежду – машина исчезла, и мы перестали ее видеть. Боги пали, и мы лишились их защиты. Это было осознание на физическом уровне: надежда покинула душу и одновременно из крови исчез адреналин, до тех пор толкавший нас вперед. С бешено бьющимися сердцами, задыхаясь, мы остановились посреди дороги, втайне надеясь, что сейчас услышим скрип тормозов и машина развернется и приедет за нами. Как бы то ни было, мы с братом не сказали друг другу об отчаянной надежде. Вместо этого мы начали обсуждать вопрос, почему родители нас бросили. Может быть, они забыли, что приехали в парк вместе с нами, или, может, случилось нечто из ряда вон выходящее – кого-то избили или зарезали. Или родители сильно поссорились. Мы пытались найти разумное объяснение, придать какую-то предсказуемость нашему положению, но их действия так и остались для нас необъяснимыми. Мы, однако, чувствовали, что они не вернутся, – и они не вернулись.
Конечно, мы могли бы пойти дальше по извилистой дороге и в конце концов пришли бы домой сами, но решили поступить иначе. Для брата это была попытка пристыдить родителей за дурное поведение; наверное, он надеялся, что, обнаружив нашу пропажу, они станут проливать слезы отчаяния и раскаяния. Что до меня, то я стала думать, нужны ли нам вообще родители, нужны ли папа и мама на самом деле, или жизнь в семье – просто ненужная глупость, внушенная нам в церкви и по телевизору.
Мы не стали останавливаться и устраивать совещание. Оба понимали, что нам нужна еда и одежда, и мы вернулись к школе, где стояла машина старшего брата. Джим сумел немного опустить стекло, а я своей тонкой рукой залезла внутрь и открыла дверь. В машине находилась коробка с лыжным снаряжением, оставшаяся с прошлого сезона. Мы выгребли оттуда все шерстяные вещи, которые могли пригодиться в грядущих скитаниях. Сумки, куда мы могли бы затолкать барахло, у нас не было, и мы все напялили на себя. Выглядели мы поистине гротескно, особенно для Южной Калифорнии, – в нескольких вязаных шапочках и перчатках, которые к тому же были нам страшно велики. Но мы запаслись теплыми вещами, зная, что через несколько месяцев наступит зима и станет холодно.
Нам очень хотелось есть, и естественный выход напрашивался сам собой – надо просить милостыню. Для этого дела мы были экипированы теперь как нельзя лучше. В машине мы попытались найти кусок картона и маркер, чтобы написать соответствующий плакат, но обнаружили только листы линованной бумаги и шариковые ручки (теперь, когда я вижу на улице нищего, то каждый раз удивляюсь, где он смог найти кусок картона, ножницы или бритву, чтобы вырезать аккуратный четырехугольник). Дорога, однако, проходила по лесистой местности с редкими частными домами, и движение было очень редким, и милостыню просить оказалось, собственно, не у кого. Мы, как настоящие бездомные, потели в шерстяных одеждах и топтались на обочине в грязи. Не помню, в какой момент мы отчаялись от усталости и голода и решили сдаться.
Я ни разу в жизни не упрекнула родителей, что они тогда бросили нас. Я до сих пор не знаю, почему они это сделали. Может быть, хотели немного отдохнуть от нас. Если они вообще об этом думали, то, как мне кажется, были уверены, что самое страшное, что может случиться, – то, что нам придется с трудом добраться до дома. Если я и обиделась, то только за то, что они своим отношением сумели посеять сомнение в том, что никогда нас не оставят. Они создали «фиктивный» образ семьи, в которой все заботятся друг о друге, обычной условной семьи. Не могу сказать, что они не любили нас, – любили, хотя и по-своему, – но в то же время в их любви не было никакого смысла; их любовь была для меня совершенно бесполезной. Их добрые намерения не сделали мою жизнь лучше, лишь изолировали от правды жизни, позволили жить в темном мире их тайного сговора, куда не могли проникнуть ни доводы разума, ни объективные факты. Все, что не оставляло заметных следов, которые повлекли бы за собой вопросы друзей и родственников, оставалось незамеченным.
Я воспитывалась приблизительно так, как средний ребенок в «Семейке Тененбаум»[7] – со склонным к насилию и нечестным отцом и безразличной, порой истеричной матерью. У меня четверо братьев и сестер, и при необходимости мы объединялись, образуя небольшой, но сплоченный отряд. Мы были твердо убеждены, что мы лучше всех и что единственные люди, способные понять и оценить нас, – это члены нашей семьи.
Мои родители рано поженились – маме был 21 год, а папе 23. Неблагополучие рядом с родителями заставило мать бросить колледж, и, вернувшись домой, она целенаправленно начала искать мужа, встречалась с мужчинами, которые, по ее мнению, могли ее спасти. Не знаю, по какой причине она выбрала папу. Через несколько месяцев после знакомства она сама спросила, не хочет ли он сделать ей предложение. Старшего брата мама родила в первый же год замужества, а потом рожала почти каждый год.
Мой отец был адвокатом. Когда они с матерью только начали встречаться, он работал в крупной юридической фирме, но потом она лопнула и отец учредил собственную небольшую адвокатскую контору. Ему нравилось воображать себя современным Аттикусом Финчем[8], и иногда он в качестве гонорара принимал от клиентов пироги. Он был страшно ненадежен как добытчик; часто, вернувшись домой из парка, мы оказывались в темноте, потому что электрическая компания отключила энергию за хроническую неуплату. Он тратил тысячи долларов на свои дорогостоящие прихоти, а нам в школе приходилось обедать апельсинами, сорванными во дворе. В тот год, когда мне исполнилось 12, отец не заполнил налоговую декларацию. Он не платил налоги весь год и не подумал сделать это даже после того, как наступило 15 апреля[9]. Исход был ясен: в фирму пожаловали аудиторы и все, что еще оставалось от его финансовой самостоятельности, испарилось.
Но намного больше, чем финансовые трудности, меня отталкивала эмоциональная и моральная лживость отца. Это научило меня не доверять эмоциям и вообще чему-либо, не подкрепленному объективными фактами. Я думаю, мое сердце ожесточилось в ответ на его сентиментальные излияния чувств и неискренние призывы жить добродетельно.
Не знаю, как воспринимали отца чужие люди, но я твердо убеждена: он очень старался выглядеть хорошим человеком и родителем – для окружающих, для себя самого и нас. Он любил воображать себя восхитительным, и почти все, что он делал, было направлено на то, чтобы доказать это себе и остальным. У него была привычка часто перечислять свои достижения. Создавалось впечатление, будто в голове он ведет досье, которое должен время от времени повторять, иначе забудет. Он говорил о своей работе в коллегии адвокатов, об услугах клиентам, о своем положении в церковном приходе и, самое главное, о благотворительности. Мир должен был знать, как он щедр, безотказен и бескорыстен.
Мои родители проявляли некоторую активность и в школе, особенно в том, что касалось музыки. Иногда, во время школьных концертов, отец работал осветителем, а мама аккомпанировала хору. Вероятно, они были столпами нашего маленького провинциального светского общества. Однажды мы опаздывали на школьный концерт, и только в машине я обнаружила, что забыла дома инструмент. Мы не стали возвращаться, так как родители боялись опоздать, но во время концерта я стояла за кулисами, пока мама пела, а папа освещал сцену. Тогда я не увидела ничего противоестественного в том, что мои родители участвовали в концерте, а я нет.
Думаю, каждый раз, когда отец совершал нечто неблаговидное, его больше тревожил имидж, нежели вред, который он мог нанести нам. Для него было, собственно, не важно, идеален ли он на самом деле; важно, как он выглядит – хотя бы в собственных глазах. То, что он с легкостью обманывал самого себя, не могло вызывать у меня уважения. Когда мы всей семьей смотрели печальные или сентиментальные фильмы, он часто поворачивался к маме залитым слезами лицом, проводил ее ладонью по своей руке и спрашивал: «Видишь, у меня даже выступила гусиная кожа!» Он отчаянно хотел, чтобы мы видели его способность чувствовать и переживать, ему – больше, чем что-либо еще, – было необходимо подтверждение.
Однажды, когда мне было восемь лет, мы с отцом смотрели какой-то фильм, и я очень холодно отозвалась о герое – ребенке-инвалиде. «Ты ему не сочувствуешь?» – с ужасом спросил отец. Мне пришлось спросить, что это значит. Я просто не знала этого слова, но он смотрел на меня как на чудовище. Смысл понятен: его чувства и ощущение собственной праведности делало его образцом человечности; отсутствие у меня таких чувств бросало тень на его доброе имя.
Мне трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько он мне опротивел из-за этих простых вещей. Мне то и дело снилось, что я убиваю его голыми руками. Этот сон вызывал у меня трепет; он приносил мне наслаждение. Было что-то волнующее в насилии, в том, как я бью его дверью по голове до тех пор, пока он не упадет на пол. Мне доставляла удовольствие мысль, что он никогда больше не будет шествовать по земле с чувством воображаемого величия и наконец оставит нас в покое, перестанет вмешиваться в нашу жизнь. Сон, в котором я в мельчайших подробностях вынашивала план его убийства, был единственным местом, где я могла беспрепятственно это делать.
Моя мать была красавицей. Насколько я помню, ее часто останавливали на улице, чтобы сделать комплимент. В молодости мама была музыкально одаренным человеком – во всяком случае, нам так казалось. Она учила соседских детишек игре на фортепьяно, и мне кажется, что иногда мы и жили на заработанные ею деньги – с каждого ученика она брала 40 долларов в месяц. Каждый день после школы в течение трех часов к нам приходили ученики и стучали по клавишам нашего пианино, а мы в это время смотрели телевизор или делали уроки. Каждый раз я с нетерпением дожидалась, когда ученик наконец уйдет домой. Я невысоко оценивала их игру и страшно злилась, что они крадут у меня внимание моей мамы. В конце года ученики сдавали экзамен, и я подозреваю, что мама испытывала удовольствие не от индивидуальных достижений учеников, а оттого, что ей удалось научить их умению извлекать из инструмента красивую музыку или, по крайней мере, нечто похожее на музыку.
Моя мать любила находиться в центре внимания, и это стремление было для нее органичным. После рождения последнего ребенка, моей младшей сестры, мама всерьез задумалась об актерской или певческой карьере. Ее прослушали, и она получила роль в театре музыкальной комедии. С каждого спектакля она приходила счастливой и сияющей. Ее окрыляли аплодисменты и обожание публики. Она участвовала в нескольких постановках, выступала в концертах, стала популярна в нашей общине.
Отец больше всего любил концерты с участием нашего церковного хора, так как знал, что их посещают друзья и соседи. Однако, когда успешная мамина карьера отдалила ее от семьи, а следовательно, перестала положительно влиять на репутацию отца, он начал ругать ее за то, что ей требуется внимание посторонних людей, а не семьи, под которой он в тот момент разумел исключительно самого себя.
Действительно, маме требовалось внимание со стороны, восхищение чужих людей. Думаю, что оно позволяло ей заполнить душевную пустоту, почувствовать себя полноценным человеком и ответственным родителем, да и просто взрослым человеком. К тому моменту, когда мама наконец воплотила в жизнь свои сценические мечты, она утратила всякую надежду на то, что отец станет преуспевающим адвокатом. Детей было много, они росли, занимая все больше места в доме, требуя все больше внимания и ответственности, лишая маму простора и воздуха, обнажая бесплодность ее мечтаний. Вымышленные сценические характеры, диалоги и сюжеты позволяли ей хотя бы ненадолго убежать от поцарапанных коленок и сопливых носов. Маме как воздух нужна была свобода побыть другим человеком хотя бы несколько вечеров в неделю. Ей хотелось в эти моменты наслаждаться эстетикой, а не домашними проблемами.
Когда кто-нибудь из нас заболевал или сильно ушибался, мама воздевала руки и кричала: «О Боже! И что же мне теперь делать?» Все порушенные планы, все упущенные возможности пробегали по ее лицу, как рябь по поверхности пруда. Каждая чашка чая, приготовленная для детей, сопровождалась глубоким вздохом. Каждый вопрос: «Тебе лучше?» – был заряжен скрытым обвинением: словно то, что тебе не стало лучше, – прямое покушение на ее возможность жить счастливо и свободно.
Когда заканчивался театральный сезон, мать неизбежно впадала в депрессию, причем настолько глубокую, что заболевала даже физически. Несколько раз она попадала в серьезные дорожные аварии. Могу предположить, что ум ее блуждал по закоулкам памяти, разыскивая воспоминания о счастливых минутах на сцене, и от этих мыслей маму не могли отвлечь ни дорожные знаки, ни красный сигнал светофора. Может быть, конечно, ее отвлекали не воспоминания, а фантазии о другой жизни, которую она могла бы вести, если бы сделала иной выбор.
Дорожно-транспортные происшествия с ее участием становились для нас чем-то вроде маленьких землетрясений, напоминавших, что мы смертны, а следовательно, и о том, что и мы, и она пока еще живы. Я уважала эти ее маленькие бунты, хотя они обрекали меня на голодные вечера во время ее выступлений в театре, а мой брат рисковал разбить голову о ветровое стекло. Но я не помню, чтобы хоть однажды рассердилась на нее. Она просто пыталась жить, и это правда, что одно только наше присутствие, одно только наше существование, над которым она была не властна, мешало ее счастью самыми разнообразными способами. Конечно, отец всякий раз после аварии жестом обвинителя указывал на разбитый лоб брата. Но на самом деле никому, в том числе и отцу, не было никакого дела до разбитого лба, и жизнь продолжала катиться по наезженной колее.
Но тем не менее мама варила нам бульон, когда мы болели, кормила нас с ложечки и, трогая наши лобики, озабоченно хмурилась и морщила лоб. Она целовала нас на ночь, как, впрочем, и папа. Я не плакала, когда отец бил меня ремнем – я даже не помню за что, – но зато плакала мама. Когда же я окончила юридический факультет, отец был просто счастлив, счастлив по-настоящему. Я никогда не видела его таким счастливым, как в тот день. Я никогда не сомневалась в их любви, но их любовь была непостоянной и иногда представлялась мне уродливой. Она не спасала от неприятностей и боли; наоборот, она нередко приносила вред. Чем больше они утверждались в своей уверенности, что любят меня, тем меньше заботились о моем благополучии.
Я многому научилась у родителей. Я научилась ограничивать эмоциональное влияние других людей на меня. Я научилась полагаться только на себя. Родители научили меня, что любовь – очень ненадежная вещь, и я никогда на нее не полагалась.
Вопрос о соотношении врожденного и приобретенного в генезе социопатии – спорный. Те, кто отстаивает врожденный генез, то есть ведущую роль «природы» в возникновении социопатии, как бы дает нам свободный пропуск в мир. То, что мы «родились с этим», делает нас в какой-то степени жертвами обстоятельств и людьми, более-менее приемлемыми для общества. Если принять точку зрения на социопатию как на «приобретенное» состояние, то можно предполагать ее обратимость, надеяться, что в один прекрасный день социопаты смогут поправиться благодаря упорному труду и грамотной психотерапии или, наоборот, станут множить себе подобных, жестоко обращаясь со своими детьми. На самом деле все, конечно, намного сложнее. Психологи, психиатры и физиологи считают, что социопатия, как и все проявления живого организма, – результат совокупного воздействия генов и окружающей среды. Хотя существуют убедительные доказательства роли наследственности в возникновении социопатии, окружающая среда также играет огромную роль, способствуя активности генов и в какой-то степени определяя индивидуальное развитие каждого отдельного «наследственного» социопата. По мнению психолога и автора книги «Общественный разум» («Social Intelligence: The New Science of Human Relationships») Дэниела Гоулмана, если нет экспрессии какого-либо гена, «то, вероятно, мы и не обладаем этим геном». Здесь возникает интересный вопрос: социопат ли вы, если ген социопатии есть в вашем личном геноме, но не проявляется в вашем поведении? Иногда просто невозможно получить ответ на вопрос, как и почему включается социопатический ген. Что касается меня, то могу сказать, что я с трудом балансирую между светлой и темной сторонами жизни, но в любой момент могу опрокинуться на любую. Иногда я задаю себе вопрос: была бы моя жизнь другой, если бы меня воспитывали чуть лучше или чуть хуже, чем это имело место?
Наиболее мощное воздействие на формирование социопата могут, вероятно, оказать факторы, действующие до того, как события начнут откладываться в его долговременной памяти. Несмотря на то что мозг человека достигает окончательной зрелости только к 20 годам, доктор Гоулмен считает: главные в развитии личности – первые два года жизни, ибо в это время происходит наиболее интенсивный рост мозга. У мышей этот период длится первые 12 часов после рождения. Детеныши мыши, которых мать часто облизывает с самого рождения и регулярно кормит, вырастают более умными и уверенными в себе; те же мышата, которых не вылизывают и плохо кормят в течение первых 12 часов, в дальнейшем медленнее обучаются полезным навыкам, испытывают большую тревожность и легко впадают в панику. Ученые предположили, что эквивалент облизывания у людей – сочувствие, ласка и прикосновения. Исследования доктора Гоулмена вполне согласуются с теорией прикосновений к младенцам, разработанной психиатром и психоаналитиком Джоном Баулби, наблюдавшим сирот после Второй мировой войны. Он и его сотрудники обнаружили: дети, которых в раннем младенчестве не ласкали регулярно, плохо развиваются, медленно растут и даже иногда умирают. Согласно теории прикосновений, дети, получающие недостаточно физической ласки от родителей во время каких-то неприятностей, вырастают бунтарями, независимыми личностями и отчужденными, неласковыми, не выделяют своих родителей и не предпочитают их другим взрослым. Вырастая, такие дети не способны на длительные привязанности и устойчивые отношения.
Когда я была младенцем, то страдала сильными коликами – малопонятным заболеванием, главный симптом которого непрекращающийся крик. Родители до сих пор рассказывают, как со мной было трудно, не говоря уже о том, что я отнимала время от ухода за Джимом, тоже маленьким, требовавшим постоянного внимания.
Мои родители помнят, как, пытаясь в нашей большой семье приучить меня к порядку, заставляли меня вопить целые дни напролет. Все тети, дяди, бабушки и дедушки наперебой предлагали свои способы решения, но все в конце концов сдались, поняв тщетность усилий. Теперь, рассказывая все это, родители находят оправдание – ведь никто так и не смог успокоить меня. К их радости, неудача обнажает истину: они сделали все, что от них как от родителей зависело, и дело не в них, а во мне. Отец откровенно признался, что часто просто оставлял меня в комнате одну и я кричала там до полного изнеможения. В возрасте шести недель меня отнесли к педиатру: я надорвала пупок непрестанным криком. Думаю, что родители делали все, что могли, но им было трудно не только воспитывать меня, но и просто терпеть.
Мать рассказывала, что, после того как колики прошли, я стала очень независима. Когда родители в первый раз оставили меня в церковном детском саду, я была единственным ребенком, не плакавшим и не просившимся к маме. Я спокойно играла незнакомыми игрушками и ни разу не пикнула, пока не приехали родители и не забрали меня домой. Сложилось впечатление, будто мне абсолютно все равно, где я нахожусь и кто за мной присматривает. Может быть, я пропустила некий жизненно важный период, как мышонок, не облизанный в первые 12 часов после рождения.
Мозг усваивает разные навыки на разных стадиях роста и развития по мере того, как растут и созревают нейронные сети и связи. Если ребенок пропускает период развития, нужный для обучения определенному навыку, например сочувствию, то мозг не сможет наверстать упущенное и прийти в норму. Самые наглядные примеры – дети, выросшие в изоляции от мира или воспитанные дикими животными. В газете Tampa Bay Times был напечатан рассказ о Дэниеле Крокет, которую в июле 2005 года полицейские нашли в доме ее матери, заваленном мусором, загаженном и кишащем червями. Полицейскую, обнаружившую Дэниелу в шкафу, залитом ее экскрементами и мочой, стошнило от жуткого зрелища и запаха. Женщина-следователь, опытный сотрудник полиции с большим стажем, рыдала за рулем машины. «Это невероятно, – повторяла она. – Хуже этого я не видела ничего в жизни». Дэниеле было в тот момент шесть лет, но выглядела она максимум на четыре года. На ней были надеты памперсы, она не умела ходить и самостоятельно есть. Когда полицейский офицер взял девочку на руки, моча из памперсов пролилась на его форму, а мать злобно крикнула: «Не трожь моего ребенка!»
У Дэниелы «нормальный» мозг без признаков генетически обусловленной умственной отсталости, но вела она себя как ребенок, пораженный тяжелым слабоумием. Одна врач назвала это «приобретенным аутизмом», хотя, как она сама выразилась, «даже дети, страдающие аутизмом, реагируют [на объятия и ласку]». Дэниела вообще никак не реагировала на людей. «В течение первых пяти лет жизни мозг развивается на 85 процентов, – говорила та же женщина-врач. – Ранние отношения больше, чем впоследствии все остальные, помогают развитию мозга и дают ребенку опыт доверия, способствуя развитию речи и общения. Все эти системы необходимы для взаимодействия с внешним миром».
Дэниела никогда не станет нормальным человеком. За несколько лет она научилась пользоваться горшком и самостоятельно есть, но до сих пор не говорит. Когда девочку взяли в семью приемные родители, газета Miami Herald задала вопрос: «Достаточно ли будет одной любви?» Ответ короток и беспощаден: «Нет». Мозг девочки пропустил несколько важнейших периодов, и недостающие нейронные связи никогда не сформируются в ее мозге.
Иногда я слышу, как люди говорят, что «такими уж уродились», что бы с ними ни происходило. Говорить, что ты родился социопатом, все равно что говорить, будто ты родился умным или высоким. Да, возможно, генетически ты предрасположен к тому, чтобы стать умным или высоким, как и к тому, чтобы уметь связно говорить и ходить на двух ногах, но случаи воспитания детей дикими животными напоминают, что проявление генетической предрасположенности еще не судьба. Чтобы мы стали теми, кем становимся, необходимо сочетание множества факторов, и важнейшие – ежедневное общение, питание, культура, воспитание, образование, жизненный опыт.
Родилась ли я для того, чтобы чаровать? Родилась ли я для того, чтобы приносить вред? Мы не можем утверждать наверняка. Но каким образом я стала такой, какой стала? Учитывая, что в семье была большая склонность к эмоциональным переживаниям, я думаю, что моя генетическая предрасположенность к социопатии активирована отсутствием доверия. Причудливая эмоциональная жизнь моих родителей научила меня, что мне не на кого рассчитывать, что никто и никогда не будет беречь и защищать меня. Вместо того чтобы искать опору в людях, я стала надеяться только на саму себя. Так как в обществе невозможно избежать взаимодействия с другими, я научилась манипулировать ими, то есть направлять их деятельность в выгодное для меня русло. Например, жизненный опыт подсказывает, что совершенно бесполезно взывать к любви и чувству долга; надо использовать более важные эмоции – страх и потребность в любви. Я смотрю на людей как на неодушевленные предметы, как на пешки в шахматной игре. Я ничего не знаю об их внутреннем мире, я не понимаю их эмоционального состояния, потому что вместо их яркой палитры перед моими глазами лишь серое пятно. Возможно, из-за того, что я никогда не думала о людях как об индивидах, наделенных ощущением самости и ясной цели, я никогда не думала так и о самой себе. У меня нет отчетливого ощущения самости, моего «я», к которому можно было бы привязаться и чем-то ради него жертвовать. Лишенная определенной структуры, моя жизнь превратилась в череду реакций на сиюминутные обстоятельства, импульсивных решений, движущих мною изо дня в день. Однако в отличие от людей, лишенных моей генетической предрасположенности и стремящихся заполнить любовью пустоту существования, я испытываю по поводу своей ситуации лишь полное безразличие.
Когда мы с Джимом в тот злосчастный день вернулись из парка домой, машина родителей стояла около дома на обычном месте. Родители не стали нас ни о чем спрашивать, им были безразличны наши страдания и переживания. Думаю, потому, что не ощутили последствий. Так как мы были детьми, привыкшими считать молчание достаточным объяснением, им удалось избежать встречных обвинений. История была предана забвению – как будто ничего не случилось. Они легли спать, довольные тем, что дети в тепле и с ними не произошло ничего страшного, как и положено детям благополучных родителей.
Уже став взрослым и зрелым человеком, способным лучше оценить семейную ситуацию, я убедилась: условия, в которых я воспитывалась, благоприятствовали превращению в социопата. Многие дети живут в семьях с ненадежными родителями, подвергаются телесным наказаниям и испытывают материальные лишения – такие семьи не редкость. Но сейчас я ясно вижу, что асоциальное поведение и ментальная организация, характерные для меня, возникли не в последнюю очередь благодаря обстановке, в которой я росла. В результате воспитания мой эмоциональный мир окоченел, а чувства, которыми его воспринимают – понимание и уважение, – умерли в моей душе. Но здесь неизбежно возникает проблема курицы и яйца: трудно понять, мое ли недоверие к отцу в его внешней демонстрации сопереживания стало причиной притупления моего собственного нравственного чувства или, наоборот, у меня самой никогда не было совести и именно поэтому излияния отца казались мне смешными и ничего не стоящими.
Я не помню времени, когда думала бы как-то по-иному, нежели теперь, но у меня есть ощущение (или воспоминание), что когда-то я все же перешла развилку – где-то между четырьмя и шестью годами. Проиллюстрирую то, что хочу сказать. Случалось ли вам как пешеходу стоять на перекрестке перед светофором? Когда вы подходите к перекрестку и видите красный свет, предупреждающий об опасности, всегда возникает некоторое колебание: можно принять предупреждение и дождаться зеленого сигнала или, оценив ситуацию самостоятельно, посмотрев, едут ли по дороге машины, принять решение – переходить или не переходить улицу. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. При первом от вас не требуется никаких умственных усилий, и он безопаснее. Второй рискован: в лучшем случае вы выиграете несколько секунд, в худшем – окажетесь в больнице или в морге. Но если вы будете проявлять осмотрительность, то за годы переходов сэкономите тысячи секунд. Есть нечто деморализующее в том, чтобы стоять на перекрестке и видеть, как некоторые храбрецы принимают решение, ставя на карту свою жизнь.
Я поняла, что в жизни все подчиняется этому закону, когда мне было около четырех лет. Я могла взять на себя ответственность распоряжаться своим временем, талантом и здоровьем – и выиграть… или умереть. Я могла, с другой стороны, принять общепринятую модель поведения и терпеливо дожидаться своей очереди. Сделать этот выбор оказалось нетрудно. Решение пришло в ответ на условия моей жизни: только так я могла не просто выжить, но и даже получить некоторые преимущества в данных обстоятельствах. Выбранный способ предоставил мне конкурентные преимущества. Я предпочла не полагаться на инстинкт, а сделала точкой опоры надежный умственный анализ и предпочла рациональный самоотчет о своих мыслях, действиях и решениях.
Много лет спустя я задала себе вопрос: не сделала ли я ошибку и смогу ли я, несмотря на эту ошибку, сохранить здравый ум и остаться нормальной? Возможно, у других людей имеются веские основания по-иному относиться к себе и к миру. Может быть, расплакаться в ответ на обиду лучше, чем мстить. Может быть, в отношениях любовь важнее силы. Но теперь уже поздно об этом думать. Благоприятный период миновал, окно закрылось.
Я росла в семье, где то, что я делала, считалось нормой. Для обозначения моих поступков использовали другие слова, ибо мои родители и родственники не знали слова «социопат». Меня просто называли девчонкой-сорванцом, потому что я вела себя с мальчишеской бесшабашностью. Известно ли вам, что мальчики тонут в четыре раза чаще, чем девочки? Пока никто не предложил другого объяснения, кроме того, что мальчики более опрометчивы, менее рассудительны и более импульсивны. Поэтому, когда я ныряла с мола в неспокойный океан, меня называли девчонкой-сорванцом, подразумевая, что веду себя как мальчишка. Никому не приходило в голову назвать меня социопатом.
Мою заинтересованность в устройстве взрослого мира, в силах, им управляющих, объясняли «ранним развитием». Дети в большинстве своем довольны своим миром. Однако я находила сверстников – особенно посторонних – невыносимо скучными и глуповатыми. В отличие от них я была одержима страстью узнать все, что могла, о том, как устроен мир – как на микроскопическом, так и на космическом уровне. Если в разговоре взрослых я слышала такие слова, как Вьетнам или атомная бомба, то в течение одной-двух недель словно одержимая старалась узнать все об этих новых вещах, которые почему-то так важны для взрослых. Хорошо помню, как впервые услышала слово «СПИД». Мне было тогда семь или восемь лет. В тот день со мной сидела дома моя тетя. Она была очень инфантильна, и по ее отношениям с моими родителями я понимала, что она не имеет никакого веса в мире взрослых (я уже тогда заметила, как много на свете таких людей). Она обожала нас, так как своих детей у нее не было (таких людей на Земле тоже великое множество, и они – излюбленный объект манипуляций со стороны детей). Слово СПИД мы услышали в телевизионных новостях. Тетя очень сильно расстроилась и даже заплакала. Тогда я этого не знала, но потом выяснила, что ее дядя, мой двоюродный дедушка, был гей и у него обнаружили СПИД. Потому-то это слово так много значило для нее. Я спросила, что такое СПИД. Она объяснила, как объясняют ребенку, думая, что меня все устроит. Но меня не устроило. Мою страсть к познанию мира и механизмов, им управляющих, было нелегко насытить. Я стала спрашивать других взрослых (теми вещами, которые меня увлекали, помимо меня интересовались лишь взрослые), но они только посмеивались над моим любопытством и называли меня «молодой, да ранней». Никто, правда, не называл меня социопатом. Их не интересовало, почему я хочу все знать. Они полагали, что причина та же, что и у них, – страх. Отчасти так оно и было, но я не боялась СПИДа. Мне просто хотелось понять, почему взрослые так боятся этой болезни. В глазах взрослых никогда не имело значения то, что я делала, потому что у них всегда находилось какое-нибудь простое объяснение моего поведения или они просто не обращали на него никакого внимания.
В детстве моя богатая внутренняя жизнь прорывалась наружу довольно причудливыми способами, но мои родственники предпочитали этого не видеть. Я все время вполголоса разговаривала сама с собой, словно на костюмированной репетиции. Родители игнорировали мои неуклюжие и грубые попытки манипулировать взрослыми, хитрить и обманывать. Они старались не замечать, что я, общаясь с другими детьми, никогда не завязываю с ними по-настоящему дружеских отношений. Я всегда видела в других детях лишь орудия для моих игр. Все время лгала. Я воровала игрушки и разные вещи, но чаще выманивала их обманом и всякими ловкими трюками. Я проникала в чужие дома и переставляла, ломала и сжигала вещи. Короче, любила причинять людям неприятности.
Я блистательно играла свою роль и всегда вносила разнообразие в игры. Если мы, например, прыгали с трамплина в бассейн, я говорила: «А почему бы не попрыгать в воду с крыши?» Если мы наряжались в камуфляж, то предлагала похищать с соседских участков фигурки, украшавшие лужайки, а затем назначать за них выкуп. Требования выкупа мы составляли из букв, вырезанных из журналов, а затем снимали видео наших «жертв». Соседи были добродушны и с улыбкой взирали на наши проказы, так что мы каждый раз выходили сухими из воды.
Вот так я и жила. Заставляла людей улыбаться, и они, смеясь, считали все мои проделки безвредными и глупыми, а не опасными и безрассудными. Я играла роль добровольного клоуна, развлекала всех, это очень естественно выглядело в моем исполнении, и я с наслаждением давала представления. Я с выражением рассказывала увлекательные истории, и если бы в то время существовал YouTube, то стала бы вселенской знаменитостью. Родственники часто не замечали моих капризов, потому что вообще я была очаровашкой, пусть и немного чудаковатой. Наверное, им казалось, что они присутствуют на субботнем телешоу нон-стоп, где все утро на арене заводная девчонка с забавными выходками. В конце каждого представления они лишь пожимали плечами, улыбались и качали головами.
Но отсутствие тормозов означало, что подчас я теряю контроль, фильтр отказывает, поэтому грубость и тревога прорываются наружу. Когда я бывала в ударе, то могла привести в восторг кого угодно. Но иногда перебарщивала и заходила слишком далеко. Я начинала требовать гораздо больше внимания, мое остроумие доходило до грубого гротеска. Подчас мне надоедало, и я выключалась, то есть погружалась в себя, словно вокруг меня никого нет, будто превращалась в невидимку.
Я была восприимчивым и внимательным ребенком, но не могла не занимать и не веселить людей, так как это был один из способов заставить их плясать под мою дудку и исполнять мои желания. Я не любила ласковых прикосновений, объятий и прочих проявлений любви. Только физические контакты, связанные с насилием, доставляли мне удовольствие. Однажды, когда я училась в начальной школе, отец одной моей одноклассницы оттащил меня от нее и сказал, чтобы я никогда больше не смела ее бить. Его дочь была тощим костлявым созданием без мышц и с вечной глупой улыбкой на лице. Она сама напрашивалась, чтобы ее побили. Я не понимала, что поступаю плохо, когда бью ее. Мне даже не приходило в голову, что ей больно, – я была уверена, что ей нравится.
Все видели – я нетипичный ребенок. Я тоже знала, что не похожа на остальных, но не понимала, почему и в чем конкретно проявляется отличие. Все дети эгоистичны; я была лишь ненамного более эгоцентричной, чем другие. С другой стороны, может быть, я искусней сверстников достигала эгоистических целей, потому что совесть и чувство вины не отягощали мой путь. Это мне неясно. Я была маленькой и беспомощной и разработала целую систему, как убедить людей в том, что доставлять мне удовольствие – в их же собственных интересах. Подобно многим детям, я превращала окружавших меня взрослых в орудия манипуляций. На людей я смотрела как на плоских двухмерных роботов, которые выключаются тотчас, как только я перестаю обращать на них внимание. Мне нравилось получать в школе хорошие отметки; это означало, что благодаря уму и смекалке я могла делать то, что не под силу другим. Я изо всех сил старалась соблюдать нормы детского поведения, и мне это неплохо удавалось. Почти всегда получалось придумать какую-нибудь трогательную историю, когда я попадалась на недозволенном. Если не считать высочайшего мастерства в манипулировании взрослыми, то я практически ничем не отличалась от сверстников, во всяком случае, отличия, если их замечали, объясняли моим исключительным умом.
Все, что я узнала о власти – как здорово ею обладать и как ужасно ее не иметь, – я узнала от папы. Наши отношения по большей части представляли собой тихую борьбу за власть. Он требовал власти надо мной как над частью его дома и семьи, а я получала неизъяснимое удовольствие, подрывая его авторитет, которого он, по моему мнению, вовсе не заслуживал. Бывало, когда я плохо себя вела, отец бил меня до синяков, но я не реагировала. При телесных наказаниях меня беспокоило одно: отец начинал воображать, будто победил и отобрал у меня власть. Но он недолго пользовался плодами победы. Если человек, который вас любит, сильно вас бьет, значит, у вас больше власти над ним, чем у него над вами. Битье означает, что вы спровоцировали его на реакцию, которую он не в состоянии контролировать. Если вы похожи на меня, то сможете с большой выгодой для себя использовать эту ситуацию все время, пока зависите от этого человека. Отец был настолько одержим тем, как выглядит в глазах окружающих, что неимоверно мучился от одной только мысли, что я кому-нибудь расскажу, как он меня бьет. Иногда в церкви я болезненно морщилась, осторожно усаживаясь на скамью рядом с ним. Когда сосед участливо спрашивал, что со мной, лицо отца искажалось страхом – он не знал, что я отвечу. Стратегически битье было мне очень выгодно. Его чувство вины и ненависть к себе была самым мощным и долговечным оружием из моего детского арсенала – в отличие от синяков, которые быстро проходили.
Отец иногда предъявлял детям довольно-таки забавные требования. Например, прибивал к дверям наших спален требования построить забор или починить раковину, чтобы мы прочли это, проснувшись. Я привыкла делать невозможное по требованиям отца. Каждый раз, когда он меня о чем-то просил, в его голосе звучал вызов: сможешь? Хватит ли у тебя силы духа? Но я привыкла гордиться собой, и поэтому у меня всегда хватало. В отличие от отца, которого я в душе считала мало на что годным, я всегда умела делать дела и доводить их до конца. Такова была моя роль в семье.
Нарциссизм заставлял отца любить меня, так как я была его собственным отражением, но одновременно и ненавидеть, потому что я никогда не поддавалась обаянию образа, который он сам себе создал, а это было единственное, что его по-настоящему заботило. Его гражданские заслуги и профессиональные успехи не имели для меня никакого значения, ибо я знала им цену. Мои заслуги всегда были и будут более значимыми. Я делала все, что делал он, – играла в бейсбол, играла в оркестре, поступила на юридический факультет, – и он знал, что на всех этих поприщах я успешнее его. Я устроила свою жизнь так, что мне не за что уважать отца.
Однажды, когда я была еще подростком, мы с родителями ехали вечером из кино, и я заспорила с отцом о конце фильма. Отец считал, что фильм учит людей преодолевать препятствия, а мне он показался бессмысленным – впрочем, в то время большинство вещей не имели для меня никакого смысла. Я была переполнена юношеской желчностью и раздражительностью, к тому же дух противоречия во мне смешивался с большей, чем у обычного ребенка, жестокостью и более мощным умом.
Я, можно сказать, любила с ним спорить. На самом деле для меня было важно не уступать в спорах, особенно если представлялась возможность хотя бы отчасти задеть его провинциальное мировоззрение, которое, как я уже к тому времени заключила, он сам к тому же сознательно извратил. Спор наш продолжался до тех пор, пока мы не подъехали к дому, и я понимала, что он не желает его заканчивать. «Ты можешь думать, что тебе угодно», – сказала я и пошла в дом. Такое бесстрастие чаще всего выводило его из себя.
Следовало бы понимать, что он не позволит мне так легко отделаться; возможно, я знала, но меня это нисколько не заботило. Он поднялся вслед за мной по лестнице, так как его сильно обидело то, что его дочь, в сущности еще несмышленое дитя, отказалась от спора, проявила полное безразличие и решила просто и без затей от него отмахнуться.
Отношения между родителями в то время были отнюдь не безоблачными. Отец постоянно придирался к маме, а она впадала в депрессию, ложилась в ванной на полу и на все наши вопросы отвечала странно.
– Мамочка, что с тобой?
– Что может быть со мной?
– Тебе помочь? Тебе плохо?
– Нет, дела мои неплохи.
Иногда во время ссор мама пыталась воспользоваться советами, почерпнутыми из книг по психологической самопомощи, которыми была уставлена полка в изголовье их кровати. Самым любимым советом была фраза: «Я закрываю перед тобой окно». Это означало, что она не допустит, чтобы отец влиял на ее чувства, и одно это приводило его в бешенство. Теперь, став взрослой, я удивляюсь скудоумию автора той книжки. Скольким читательницам его советы стоили распухших губ и подбитых глаз! Сама мысль, что его мнение кому-то безразлично, вызывала неукротимую ярость. Если бы мама на самом деле закрыла перед его носом стекло машины, он бы не задумываясь его разбил.
В тот вечер отец очень сильно разозлился из-за нашего спора. Сказав ему: «Я закрываю окно», я прошмыгнула в ванную и заперла за собой дверь.
Я понимала, что продолжение неизбежно: отец просто ненавидел эту фразу, так как она означала, что в доме подросло следующее поколение женщин, отказывающихся его уважать и проявлявших в отношении его полное пренебрежение. Знала я и то, что он не выносит вида запертых дверей. Я понимала, что запертая дверь туалета его доконает, но именно этого и добивалась. К тому же мне надо было пописать.
В следующую же секунду он принялся барабанить в дверь. Я живо представила себе, как с каждым мгновением его лицо, искаженное гневом, все более и более багровеет. Я помню, что почти безмятежно ждала, когда он наконец угомонится и уйдет. Он начал орать: «Открой! Открой дверь! Немедленно открой дверь!»
С каждым разом тональность крика повышалась на целую октаву. Отец пришел просто в неописуемую ярость. Наступила весьма многозначительная пауза, после которой последовал удар в дверь, потом еще один и треск. Меня в тот момент интересовало лишь, насколько прочна дверь. Заложил ли мастер, конструировавший ее, запас прочности, достаточный для всяких семейных передряг? Интересно, сколько ударов выдержит дверь и насколько большая опасность мне угрожает? Что станет делать отец, когда сломает дверь и ворвется в туалет? Вытащит меня в коридор за волосы, ударит кулаком в живот или начнет орать, чтобы я согласилась с его мнением о концовке фильма? Какой-то театр абсурда.
Я села на край ванны и принялась ждать. От громких звуков в моей крови взыграл адреналин – пульс участился, звуки стали казаться еще громче, сузилось поле зрения. Все это я хладнокровно констатировала, сидя на краешке ванны. Я была абсолютно бесстрастна, хотя на моем месте другой человек испытывал бы тревогу, мне казавшуюся бесплодной. Никакой паники, никаких эмоций. Я вообще не понимаю, что такое паника в подобных ситуациях. Что должен делать охваченный паникой человек? В таком тесном, замкнутом пространстве выбор, в общем, невелик. Как бы то ни было, я отдалась любопытству и ждала, чем все закончится.
Отцу удалось пробить в филенке двери дыру, и через отверстие я увидела, что кулак отца распух и залит кровью. Его рука меня абсолютно не интересовала, хотя, конечно, иная дочь могла бы и пожалеть родного отца. С другой стороны, однако, кровь меня и не радовала, ибо я знала, что он так захвачен гневом, что не чувствует ни боли, ни страданий. Дверь ванной была не единственной пострадавшей от отцовских кулаков. На двери спальни в конце коридора красовалось несколько заплат. Я хорошо помню те сцены, так как это была спальня нашего самого старшего брата. Имелись следы ударов и на двери родительской спальни – результаты ссор с мамой. Были вмятины и на стенах – следы неудачных ударов, направленных в головы членов семьи.
Отец с упрямством маньяка продолжал расширять дыру, обламывая торчавшие щепки, до тех пор, пока не смог просунуть в отверстие голову. Я действительно увидела его искаженное от напряжения лицо, покрытое потом и блестевшее в ярком свете ванной. Но оно было искажено не гневом, как я ожидала; отец улыбался так, что показались все 32 зуба. С какой-то диковатой радостью он спросил: «Это ты собралась закрыть окно передо мной?»
Видимо, я все же испугалась, и мой страх удовлетворил его.
Он отошел от двери, и сквозь дыру мне было видно, что его гнев исчез бесследно. Вся власть, какую я забрала, уйдя от отца и запершись в ванной, была у меня украдена в тот момент, когда он увидел в моих глазах смятение, пусть даже и мимолетное.
Он направился к шкафу, чтобы достать оттуда бинты и другие медицинские принадлежности и забинтовать руку. В молодости отец работал фельдшером на «скорой помощи» и очень гордился умением оказывать первую медицинскую помощь, и я знала, что он будет очень тщательно обрабатывать раны, чтобы показать свое искусство. Убедившись, что он с головой погрузился в дело, я тихонько выскользнула из ванной, спустилась по лестнице и, выйдя на улицу, притаилась в темноте.
Я немного постояла, глубоко дыша и продумывая следующий ход. Страха как такового я не испытывала, но понимала, что за прошедшие 15 минут мой мир кардинально переменился. Теперь меня волновало не выполнение домашнего задания по математике, а подготовка к схватке. Перед тем как спрятаться за деревьями, я взяла в сарае молоток и сжала его в руке, выставив вперед гвоздодер. В тот момент я была готова убить любого, кто посмел бы просто подойти ко мне.
Через некоторое время на крыльцо вышел старший брат и окликнул меня по имени. Я не ответила. Было слышно, как он вошел в дом. Через несколько минут он вернулся.
– Иди, не бойся, все нормально.
«Отлично, – подумалось мне, – теперь есть свидетели». Было понятно, что гнев отца уже прошел. Он мог быть доволен: он нанес себе травму, нагнал на меня страху и сломал дверь. Вся семья могла это видеть. Он получил все, что хотел, и на этот вечер представление окончилось.
Мать позвала из церкви священника, чтобы он помог успокоить отца. Мы все знали, что в присутствии пастора он не посмеет ко мне прикоснуться. Остаток ночи отец предавался раскаянию. Но и это доставляло ему неземное удовольствие как решающий момент драмы, поставленной на семейной сцене. Я бросила молоток в сарай и шмыгнула в дом.
Несколько месяцев разбитая дверь оставалась непочиненной. Когда отец наконец заменил дверь, он выбросил старую за дом. Наш двор вообще был настоящим складом сломанных вещей. Мой брат Джим нашел ее за домом и позвал меня во двор, но, когда я спустилась, брата не было.
Я стояла и смотрела на дверь, пока не вернулся Джим, неся с собой кирку и кувалду. Брат предоставил мне право первого удара, а после этого мы с ним вместе разнесли проклятую дверь в мелкие щепки. Я испытывала невероятную радость, разрушая вещь, когда-то вызвавшую у меня тревогу, показавшую мне, что даже в родном доме я не могу чувствовать себя в безопасности. Удары металла по дереву, боль в мышцах – все это наполняло меня ликованием, вызывало упоение силой и властью.
Я не знаю, где был Джим, когда отец кулаком разбивал дверь. Если даже где-то рядом, он не смог бы ничего сделать, чтобы остановить отца. На это я, конечно, не могла рассчитывать. У Джима просто не хватило бы физических сил, и я никогда не винила его за невмешательство. На самом деле я могла защититься куда более эффективно, чем он.
Но я могла положиться на Джима в том, что он разделяет мою устойчивую и глубокую ненависть к отцу, и это была самая сладкая месть. Это обыкновенная детская жестокость: братья и сестры больше любят друг друга, чем родителей, даже если те души в них не чают.
Согласно нашему семейному преданию, я не самая умная из детей, но зато самая цельная, ибо меня не сдерживали эмоциональные и моральные ограничения. При одержимой жажде познания сил и тайных пружин, управляющих миром, я, естественно, была центром всех семейных дел, служила командиром, учитывавшим все ресурсы и принимавшим решения по тактике и стратегии. Я не просто была «миротворцем», как многие другие дети, а распределяла властные полномочия, улаживала споры и служила центром расчетов между враждующими фракциями. Благодаря собственной бесстрастности я стала нейтральной (и богатой) Швейцарией.
Мои братья, сестры и я были замкнутым и тесно спаянным сообществом – не потому, что очень любили друг друга, а в силу общего стремления удержать групповой успех. По молчаливому соглашению мы признали, что коллективное выживание превыше всего остального; правда, для меня главным было обеспечение моего личного выживания. Швейцария – остается самым могущественным банкирским домом отнюдь не для блага всей Европы, а только для своего собственного. Я без колебаний пожертвовала бы любым членом семьи в своекорыстных интересах, если бы не факт, что их присутствие в моей жизни – в разной, конечно, степени – являлся залогом моего счастья. Это стало особенно ясно, когда мы с Джимом крушили ненавистную дверь, а может, и еще раньше. Мы были как прутики: по отдельности нас было легко сломать, но, связанные в пучок, мы становились несокрушимы. Неправда, что я любила их. Нет, мне нравилось, что они рядом.
В какой-то степени моя семья могла казаться стороннему наблюдателю идеальной американской семьей – отряд детишек со свеженькими (но пустыми) мордашками, которых едва ли интересует что-либо за пределами их мирка. Мы рассматривали друг друга и родителей как неизменный факт жизни. Мы играли и читали книжки, бегали по двору, строили из песка дома, ломали вещи, совершали экспедиции в лес и всегда возвращались целыми и невредимыми.
Мы копили свои травмы, и хотя мои братья и сестры реагировали каждый по-своему, все обладали одним и тем же прочным стержнем вроде того, который позволил нашим прадедушкам и прабабушкам пережить Великую депрессию. Самая крутая из нас – моя сестра Кэтлин. Ее муж думает, что она еще больший социопат, чем я, и я понимаю, что он имеет в виду. Она очень холодна и расчетлива. Дети ее боятся, и это не патологический, а вполне здоровый страх. Они не имеют права на ошибку и знают об этом. Первый ее ребенок родился немногим больше, чем через год после замужества. До брака она ни за что не хотела иметь детей, но, родив первого, решила создать совершенную генетическую амальгаму, воспользовавшись наследственностью своей и мужа. После того как ребенок родился, сестра стала воспитывать его по-военному, как рекомендовалось в книжках, которые она читала, будучи беременной. Создавалось впечатление, будто она хочет переделать всю жизнь – свою и будущего ребенка, заменив семью, в которой выросла, другой, которую хотела создать по более удачным лекалам.
Кэтлин была обижена на родителей: они не дали ей того, чего она, по ее мнению, заслуживала. Родители никогда не посещали ее танцевальные занятия, никогда не принимали участия в школьных спектаклях, в которых выступала она. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что эти вещи служили Кэтлин мерилом ее значимости для мира, а неспособность родителей это оценить связалась в ее сознании с ее никчемностью и ненужностью как личности. Руководствуясь этим мерилом, она создала для себя нерушимый стандарт – застывшую идею того, что есть добро, а что зло, что состоятельно, а что нет, что нравственно, а что безнравственно. На самом деле Кэтлин возвела свой императив в нравственный.
Именно в этом пункте мы с ней и разошлись. Она вложила всю силу своего влияния, всю свою способность к манипуляциям в то, что считала добром и справедливостью, – в противоположность мне, вложившей те же способности в то, что в каждый момент дает мне наибольшее благо. Я начинала преследовать людей, вызывавших у меня интерес, а она преследовала только злодеев, чтобы поразить их во имя торжества добра (естественно, в ее лице). Я стала воплощением языческого бога, а она – карающего ангела. Своим обоюдоострым мечом (на мой взгляд, со слишком большим рвением) она всегда готова защищать правое дело, поражая любые авторитеты, если им случалось злоупотребить властью. Мне страшно нравилась эта черта. Иногда мне казалось, что мы с ней составляем непобедимую команду, попеременно вызывавшую страх и восхищение в сердцах сверстников. Кэтлин легко возмущалась и всегда охотно участвовала в моих «делах» – собственно, ее участие и придавало моим проделкам вид настоящих дел, как однажды, когда в школе ее назначили произносить речь, а я убедила ее выступить с обвинениями в адрес администрации, «плохо обращавшейся» с учениками. К тому времени, когда наша младшая сестренка Сьюзи пошла в школу, там удержались очень немногие учителя, не скошенные нашими яростными нападками: Кэтлин критиковала их, стремясь исправить недостатки государственной школы, а я – желая победить буквально любой ценой, лишь бы упиться властью.
С Джимом совеем другая история. Он всегда был соучастником моих преступлений. Он был старше, но, когда мы подросли, меня всегда принимали за его старшую сестру. С ним было очень приятно. Милый Джим, им так легко манипулировать. Подчас мне это вообще ничего не стоило. Его обязанностью, по умолчанию, было давать мне то, в чем я в данный момент нуждалась. Он исполнял эту обязанность, и мы с ним оставались наилучшими друзьями. Но дружба с Джимом имела и неприятную оборотную сторону. Я привыкла иметь дело с вещами не слишком долговечными. Мои родители были людьми непредсказуемыми, и поэтому я привыкла во всем полагаться только на себя. Когда домашние дела принимали совсем дурной оборот, я находила утешение в том, что думала, будто дома меня ничто не держит – если не считать Джима.
Я часто задумывалась, какой бы была моя жизнь, не будь Джима. Мне неприятна мысль, что если его не будет, то пропадет многое из того, что у нас есть, и я всячески напрягала аналитический ум, чтобы избежать этого. Мы часто обсуждали, как будем жить вместе, когда вырастем, и как прекрасны наши перспективы. Мы планировали, где будем жить, как станем зарабатывать, чем заниматься, чем заполнять досуг. Мы мечтали, что станем владельцами магазина игрушечных железных дорог. Мы будем строить игрушечные города, мимо которых будут ездить наши игрушечные поезда – красные, желтые и синие вагоны, беспечно носящиеся по петлям игрушечных рельс. Потом начали мечтать, что станем музыкантами, не уточняя, в каком жанре будем выступать.
Джим – единственная опора в моей детской жизни. Я всегда могла рассчитывать, что он сделает все, что мне надо, и не жалея сил. В отношении Джима я вела себя как законченная эгоистка. Я брала у него деньги на игры, в которые он хотел играть сам. Иногда он упрямился, но в конце концов уступал. Я каждый раз на это рассчитывала, потому что он всегда хотел играть со мной и не возражал, что я бессовестно его эксплуатирую, – он был так ко мне привязан, что не делал из этого проблемы. Он все время соглашался со мной, что бы я ни говорила. Никогда не защищался и не оправдывался. Я просила его о разных вещах, твердо зная, что он уступит и выполнит мою просьбу.
Он так боялся меня расстроить, что я никогда не задумывалась, а не могут ли некоторые мои поступки задеть его чувства или обидеть его. Я была счастлива, потому что могла делать с ним все, что вздумается. Я была рада иметь «пристяжную», которая всегда вывезет, если ситуация примет плохой оборот. Иногда, правда, от Джима не было никакого толка. Он был мягкосердечным, чувствительным, пассивным, но мои враги были его врагами, и он всегда выступал против них.
Хотя наш самый старший брат Скотт задирал всех на свете, включая и своих братьев и сестер, Джиму доставалось больше, чем другим. Скотт – настоящий бандит. Мы называли его глупым, потому что единственное, чем он располагал, – это грубая сила, которую он применял для того, чтобы добиться желаемого. Джим – его естественная мишень, ведь он слаб и эта слабость очевидна. Скотт – мускулистый и не рассуждающий солдат, страдающий абсолютной эмоциональной слепотой. Он жестоко относился к людям, даже не замечая этого, и очень долго причинял всяческое зло Джиму, не понимая, что это может иметь какие-то отрицательные последствия. В этом отношении Скотт очень похож на меня.
Я не любила Скотта, однако он все же представлял для меня определенную ценность. Он научил меня пользоваться физической силой для психологического устрашения и превращать мою склонность бить людей в веселую спортивную игру. Мы часто боксировали с ним или боролись, воображая себя профессиональными борцами. Имея лучшую реакцию и будучи более подвижной, я иногда одерживала верх. Скотт относился ко мне не как к слабой, а как к равной. Собственно, такая мысль даже не приходила ему в голову. Мы подстрекали, подзуживали друг друга и придумывали разные жестокие игры.
Джим, однако, не имел прирожденной склонности подраться. Когда ему доставались удары, он их безропотно принимал – просто ложился на пол и закрывал лицо руками. Я не знаю, поступал ли он так, считая, что иного выхода нет, или думал, что выбор есть, но сознательно принимал на себя роль жертвы. Я очень хорошо понимала, что не хочу жить так, как он. Я просто не смогла бы. Мне кажется, Джим делал свой выбор, подчиняясь эмоциям, и поэтому всякий выбор был плох и неудачен. Его поступки казались мне иррациональными, и поэтому я не могла понять их. По мере того как я присматривалась к Джиму, мое уважение к его эмоциональному миру постепенно съеживалось, как, впрочем, уважение и к моим эмоциям.
Я не помню точно, когда именно, но наступил момент, когда мы со Скоттом поняли, что нам нельзя и дальше бить Джима, он слишком хрупок. Мы поняли, что надо, наоборот, его защищать, иначе он не выдержит ударов судьбы. Мы были сильными и могли сами позаботиться и о себе, и о нем. Сначала мы стали наносить удары вполсилы, а потом вообще перестали его бить. Со временем мы стали защищать его и от чужих. Теперь мы, можно сказать, продолжаем с ним нянчиться, с ранней молодости и по настоящее время делая за него буквально все: покупаем ему машины и дома, берем на себя его долги, с которыми у него нет никакой надежды расплатиться. Мы боимся, что если не будем этого делать, то он не выдержит и сломается.
Джим всегда был моей полной противоположностью. Мы очень близки, и поэтому часто сталкивались с одними и теми же проблемами, но решали их совершенно по-разному. Асоциальное поведение, характерное для меня в детстве и ранней юности, предлагало наилучшие решения, и я принимала их вполне осознанно. У нас с Джимом такая маленькая разница в возрасте, что я могла наблюдать, какие его решения ошибочны, и не повторять его ошибок. Я рано поняла, что его чувствительность – следствие физической и моральной хрупкости. В тех случаях, когда я изо всех сил дралась, Джим предпочитал пассивное сопротивление или подчинялся судьбе, которую кто-то другой за него выбрал. «Кому же захочется так жить?» – думала я. Джим был слишком сильно озабочен моими чувствами или чувствами нашего отца и поэтому пренебрегал своим эмоциональным благополучием, чтобы сохранить наше.
Я часто думаю, что было бы интересно поставить эксперимент на однояйцовых близнецах с социопатической наследственностью: одного поместить в «дурное» окружение, а другого – в «благополучное». Тогда мы смогли бы получить правдоподобный ответ на вопрос о роли генетики в проявлении психопатических признаков. Как-то я читала об одном враче, который осуществил безумную мечту ученых: попытался определить, какую роль играет генетика в развитии представлений о гендерной роли. Однажды такой случай ему представился. Неудачное обрезание сделало одного мальчика из пары однояйцовых близнецов инвалидом – у него оказался изуродован половой член. Врач убедил родителей удалить член и воспитывать ребенка как девочку. Родители согласились. Бесполый ребенок долго боролся с противоречивыми чувствами, вызванными этим сбоем, пока наконец родители не признались в содеянном. Ребенок принял решение стать мужчиной и начал вести соответствующий образ жизни. Мне интересно, что он чувствовал, глядя на брата. Видел ли он в нем то, что «могло быть и у него»? Иногда мне казалось, что Джим именно так смотрит на меня. Но он эмпат и, мне кажется, глядя на меня, испытывает нечто вроде жалости.
Мои братья и сестры до жестокости честны в отношениях друг с другом, потому что жестокость – часть нашей натуры; но такая честность обусловлена еще и тем, что мы понимаем: если мы не скажем друг другу правды, как бы тяжела и неприятна она ни была, то никто другой не сделает этого и подавно. Мы соперники. Если нас попросить дать определение любому члену нашей семьи относительно какой-либо определенной черты характера – привлекательности, ума, живости, безнравственности, – мы сделаем это, не колеблясь ни секунды. При этом не каждый в нашей семье социопат. Пока диагноз поставлен только мне одной. Тем не менее все мы воспитаны в духе грубого практицизма и пренебрежения сантиментами. И мы заключили молчаливый договор о совместном отторжении внешнего мира.
Иногда от нас не требовалось больших усилий, чтобы отлучить друзей от нашей семьи. Когда в наш дом приходили незнакомцы, потенциальные друзья или супруги, мы просто их игнорировали. Однажды, когда отец пригласил на обед одного молодого человека, мы, сидя за столом, молча ели, демонстративно не обращая на гостя ни малейшего внимания. После обеда все разошлись по своим комнатам играть в компьютерные игры. Мы не стали предлагать молодому человеку присоединиться к нам, и, когда отец попенял нам на это, я без обиняков объяснила: нам просто хочется, чтобы он поскорее ушел. Отец сказал, что мы насквозь порочны, но выразился неточно, так как имел в виду, что мы решили специально обидеть гостя. Но нам ни к чему такие хлопоты, никто и не думал об этом; мы вообще не думали об этом молодом человеке, он был нам абсолютно неинтересен. Несмотря на такую холодность, мы тем не менее заботимся друг о друге. Возможно, это императивное требование эволюции – стремление сохранить гены, для чего надо оберегать и защищать близких родственников. Хотя, возможно, мы заключили союз, чтобы смог выжить каждый из нас. Точнее я выразиться не могу. Несмотря на все наши различия, мы всегда держались друг за друга, и это по большей части приносило немалую выгоду.
Мы выросли и стали взрослыми в убеждении, что сможем пережить апокалипсис, к которому мы, будучи мормонами, приучены относиться серьезно. Не важно, наступит ли новый ледниковый период или разразится ядерная война; мы объединимся, чтобы выжить, и, выжив, не будем испытывать ни малейших угрызений совести. У каждого в семье есть определенная роль в зависимости от наших умений и предпочтений. Это позволяет распределять обязанности, которые мы исполняем профессионально и эффективно. Все мы умеем ремонтировать дом, строить лестницы, делать сливочное масло, стрелять из ружья, разводить костры, уничтожать чужие репутации, шить одежду и обходить бюрократические рогатки. В большинстве своем мы умеем защититься с помощью ружей, луков, ножей, палок, копий и кулаков. Если кто-то из нас не справляется со своими обязанностями, он должен за это ответить. Но при этом мы не дикари. Мы любим искусство. В нашем доме постоянно звучала музыка – брат играл на пианино, а сестра танцевала на лестнице. Думается, что при всем нашем уродстве мы очень недалеки от подлинного счастья.
Наша семья не была лишена любви. Существовал негласный договор о взаимопомощи и заботе, если необходимо, то за счет остальных. Мои родители, братья и сестры в детстве принимали меня такой, какой я была, но я понимала, что родители втайне винили себя за то, что я выросла особенной. Они все время думали о мелких поступках, совершенных или, наоборот, не совершенных, что и превратило меня в эгоистичного социопата.
Упорное нежелание родителей видеть, что со мной не все хорошо, проистекало из смутного, но глубоко укоренившегося чувства, что это они необратимо чем-то мне навредили. Они с самого моего рождения понимали: со мной что-то неладно. Но все, что они пытались делать и делали, лишь усугубляло ситуацию. Мое бесшабашное поведение заставляло их бояться, что я вырасту лесбиянкой. Склонность к насилию, кражам и поджогам тоже вызывала у них тревогу: они опасались, что я стану преступницей. Мне кажется, что тон отношениям моих родителей задала моя младенческая колика. Они ничего не могли с ней поделать; пронзительные вопли свидетельствовали, что я уже тогда считала их ни на что не годными. Я не уставала, даже будучи крошечным младенцем; я была беспощадной, безрассудной и неукротимой. Они относились ко мне с таким страхом, словно во мне скрывалась тайна, которую они так и не смогли разгадать.
Если бы я росла в наши дни, то, возможно, кто-нибудь из учителей начальной школы попробовал бы серьезно поговорить с моими родителями и попросил бы их проконсультировать меня у психолога. Но так случилось, что на прием к психотерапевту я попала, только когда мне исполнилось 16. Как раз к тому времени мать, вырвавшись наконец из-под тиранической власти отца, обрела эмоциональную свободу. Она горела желанием оказать нам эмоциональную поддержку, в которой мы нуждались, но только меня мать сочла настолько пострадавшей, что повела к профессионалу. Мать проницательно заметила, что я не только бесшабашна и независима, но и совершенно холодна эмоционально; создавалось впечатление, что я не перерасту это состояние. Однако она опоздала; я оказалась слишком умна и сообразительна, чтобы подпасть под обаяние психотерапевтов. Хотя кто знает, может быть, я вообще не гожусь для психотерапии. Как бы то ни было, я не собиралась меняться. Я уже привыкла смотреть на мир как на множество возможностей победить или проиграть с нулевой суммой и пользовалась любым случаем, чтобы пополнять свои знания о мире, которые могли обернуться конкурентным преимуществом.
Все, что я узнавала о человеческих мотивах, надеждах, желаниях и эмоциональных реакциях, очень упорядоченно откладывалось в моем мозге для последующего использования. В этом отношении психотерапия просто клад. Благодаря ей я узнала, чего ожидают от нормальных людей, а значит, научилась лучше маскироваться и результативнее манипулировать людьми. В частности, я смогла осознать и оформить словесно одну истину, которую подсознательно уже давно усвоила: хрупкому и слабому прощают все. Я научилась блестяще пользоваться своей ранимостью и уязвимостью – истинной и воображаемой. Обнаружить слабые места мне помогли именно психотерапевты, так как их работа как раз и заключается в поиске уязвимых мест в человеческой психике. Специалисты рассуждали о причинах моего психологического дефицита и искали травму, ставшую его причиной. Во время психотерапевтических сеансов я открыла для себя множество тактических приемов обольщения и эксплуатации. Эту методику я оттачивала на моих одноклассниках.