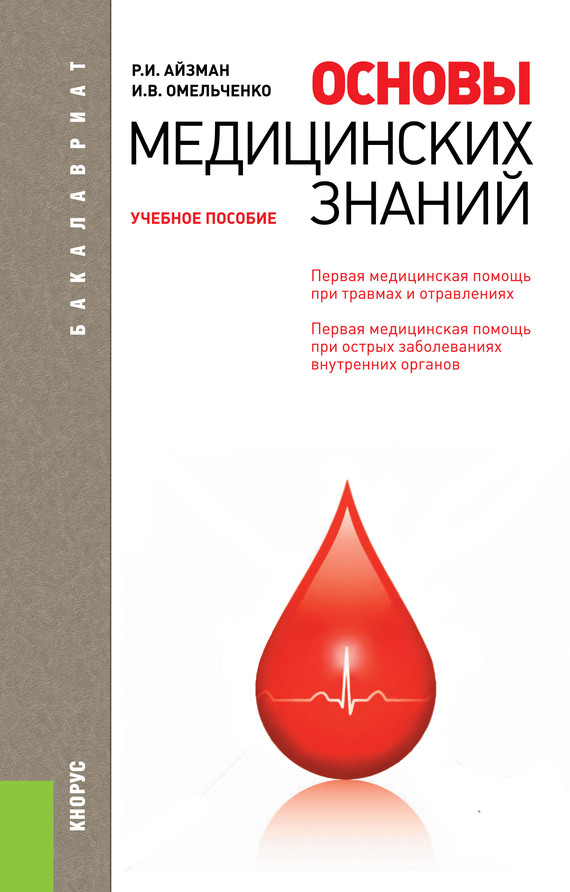Глава 4
Маленький социопат в большом мире
Когда люди в блоге или в личных беседах спрашивают, как им узнать, не социопаты ли они, я часто в ответ начинаю расспрашивать их о детстве. Если вы всегда были аутсайдером, стремящимся заглянуть за стену эмоций, отделявшую вас от других детей, ибо они без труда испытывали недоступные вам эмоции; если вы инстинктивно понимали игру сил разных клик, понимали, как распределяется власть между учителями и классом, понимали, кто доминирует у вас в семье; если вы никогда не придавали значения принадлежности к какой-то группе, но при этом могли легко внедриться в любую и начать ею манипулировать, то, может быть (только может быть), вы волчонок в овечьей шкуре, социопат, сам пока этого не осознающий.
Мое детство необычно только в одном отношении: у него не было начала и у него нет конца. С самого нежного возраста я заполняла жизнь маленькими победами и завоеваниями. В то время как другие дети учились пинать мячик, я училась играть людьми. Я не проявляла при этом никакой тонкости. Я пользовалась друзьями как пешками, чтобы завладеть их игрушками или чем-нибудь еще, что они могли мне дать. Мне не приходилось прибегать к уловкам, великой мастерицей которых я стала несколько лет спустя. Я просто делала минимум необходимого, чтобы заслужить расположение людей и получить то, в чем нуждалась: еду, когда кладовка семьи пустела; поездку домой или в иное место, когда мои родители вдруг пропадали без вести; приглашение на день рождения, на которое я бы в противном случае не попала. Но самое главное, в чем я всегда нуждалась, – это страх окружающих, который давал мне знать: я захватила власть, я управляю людьми. Думаю, окружающих сильно раздражало, насколько безразлично мне благополучие других и моя собственная безопасность. Когда я однажды ударила одноклассника и он расплакался, потому что я разбила ему губу в кровь, я некоторое время смотрела на него, а потом ушла. Мне наскучил вид крови и никчемная суета. Как и все дети, я любила сладости, но меня было невозможно, как других детей, ни шантажировать, ни соблазнить сластями и конфетами, чтобы заставить хорошо себя вести.
Не только дети становились моими мишенями. Взрослые склонны доверять детям, особенно когда дети строят гримасы, исполненные неподдельных эмоций, когда ребенку кажется, что он становится жертвой обмана или насилия со стороны взрослого. Дети в таких случаях широко раскрывают глаза, замолкают, застывают на месте и принимаются оценивать ситуацию, в которую их угораздило попасть (на самом ли деле можно ждать конфет от этого человека в машине или он задумал какую-то хитрость?). Взрослые почти физически ощущают, как в маленьких головках крутятся шестеренки. От напряжения у детей в такие моменты даже приоткрывается рот. Потом на нежном личике отражается испуг, а потом оно искажается неизбывной печалью: ребенок ощутил себя жертвой и вы, взрослые, становитесь единственными, кто может ему помочь. Иногда я тренировалась перед зеркалом, учась строить подобные гримасы.
Манипулировать взрослыми оказалось легче, чем детьми, и поэтому я часто думаю о детях-социопатах, чья специфика долго остается нераспознанной. Взрослые никогда особенно не вникают в тонкости детского поведения. Они так давно не смотрели на мир глазами ребенка, что не помнят, как выглядит нормальное детское поведение. Иногда они совершенно не понимают детей, но сохраняют смутные воспоминания, что и их в детстве не понимали. Стремясь не повторить эту ошибку, взрослые проявляют большую терпимость и тоже совершают ошибку, если сталкиваются с поведением необычного, особенного ребенка. Если ребенок на перемене занят тем, что собирает по школьному двору червей, то взрослый, скорее всего, спишет это на некую эксцентричность, в то время как другие дети сразу распознают ненормальность.
Детская социопатия – состояние, неочевидное для взрослых, и именно поэтому ученые до сих пор спорят, существует ли она вообще. Редко можно услышать рассказы о детях-социопатах, срисованных со страниц «Дурного семени»[10]. В журнале New York Times Magazine была однажды опубликована статья под названием: «Можно ли называть социопатом девятилетнего ребенка?» Автор рассказал о мальчике по имени Майкл, который непрерывно терроризировал своих родителей, с тех пор как в семье родился второй ребенок. Майкл впадал в ярость от малейших посягательств на свою жизнь – например от требования надеть ботинки. Он принимался бить кулаками и ногами по стене и дико кричать на родителей. Когда мать попыталась урезонить его, напомнив, что они уже договорились, что он больше не будет этого делать, мальчик резко успокоился и холодно ответил: «Но ты просто плохо меня поняла». Еще одна страшная история – о другом девятилетнем мальчишке, бросившем маленького братика в бассейн мотеля. Потом он придвинул к краю стул, забрался на него и принялся наблюдать, как малыш тонет. Когда его спросили, зачем он это сделал, мальчик ответил, что из любопытства. Ребенка нисколько не тревожила перспектива наказания, но он был счастлив оказаться в центре внимания.
Конечно, поведение такого сорта – все же исключение. Во всяком случае, взрослые считают, что поведение ребенка-социопата чаще более тонко. Специалист по детской психологии из Университета Нового Орлеана Пол Фрик полагает, что чаще всего у маленького социопата, пойманного за руку, обнаруживается отсутствие раскаяния в проступке. Например, большинство детей испытывает неловкость, если их застают в то время, когда они лезут в вазу за печеньем. В душе ребенка возникает конфликт. С одной стороны, он хочет печенье. С другой – чувствует, что красть нехорошо. Маленький социопат не испытывает и тени раскаяния. Единственное, о чем пожалеет ребенок-социопат, – это о том, что его поймали. Даже репортер New York Times, интервьюировавший Майкла, удивился, насколько нормальным выглядел этот ребенок: «Входя в дом, я, естественно, представлял себе взрослых психопатов, десятилетиями ведущих преступный образ жизни, чем, собственно, они и привлекают наше внимание. Вероятно, я ожидал увидеть малолетнюю версию такого типа, но, конечно, такие ожидания смехотворны. Даже среди взрослых психопатов откровенно ненормальных – меньшинство».
Нет, обмануть взрослого, обвести его вокруг пальца никогда не становилось для меня проблемой; труднее было со сверстниками, которые хорошо понимали, что такое «нормальное» поведение, и требовали его придерживаться. Я вела себя хорошо, но не без изъяна, а они требовали совершенства. Приведу пример. Если человек собирается в первый раз посетить церковь мормонов, то ему стоит рассказать несколько вещей, которые он, не будучи мормоном, может и не знать. Не стоит мужчине надевать джинсы, а женщине – брюки, а не юбку или платье. Еще бо?льшая беда случится, если женщина наденет юбку выше колен. Мормоны могут просто не пустить в церковь человека в таком виде. Они требуют от людей «однородности» в поведении – такова культура мормонов, возможно, непонятная и странная для непосвященных. И стремление к одинаковости не только следствие внешнего давления и принуждения; на самом деле это отражение общей веры, общих убеждений и общего мировоззрения. Вы можете усвоить внешние признаки мормонской культуры, но если вы не будете ее тщательно изучать и практиковать, если вы не проникнетесь ею, то вам никогда не удастся стать настоящим мормоном и полноправным членом общины. Точно так же, поскольку я не разделяла убеждений и опыта сверстников, постольку бесплодными оказывались попытки притворяться такой же, как они. Дети мгновенно раскусывали меня, так как всегда наружу вырывались мелочи, выдававшие меня с головой.
Обычно, несмотря на мои ощутимые странности, у меня были друзья, но иногда я подвергалась настоящему остракизму. Другие дети начинали меня избегать. Я и в самом деле могу переутомлять людей, отпугивать их от себя. Возможно, я иногда веду себя слишком агрессивно, либо они чувствуют с моей стороны обман, либо подозревают, что я замышляю нечто нехорошее. Иногда харизма перевешивает силу отторжения, но иногда случается наоборот. Моя способность реагировать на тот факт, что я становлюсь социальной парией, отличается мозаичностью. Я очень хорошо чувствую, как в тот или иной момент ко мне относятся другие, но не всегда даю себе труд как-то на это реагировать. Я всегда была слишком импульсивна и охотно меняла нажитый трудом социальный капитал на удовольствие совершить что-нибудь опрометчивое.
Конечно, меня никогда не задирали и не дразнили. В любой ситуации сверстники меня боялись. К тому же и у меня хватало ума не нападать на кого попало. Обычно я не выбирала в жертвы детей, которых все любили. Дети любят героев, и я часто ополчалась на задир. Помню, у нас в классе учились близнецы из «белой швали»[11]. У одного из них было что-то с ногами, и он ходил в школу с ходунками и в специальной обуви. Такого отклонения от привычной нормы дети простить не могли. Вероятно, чтобы дистанцироваться от брата, на которого он был невероятно похож, второй близнец стал задирой. Он был небольшого роста, но вел себя агрессивно. Так как он не имел надежды стать настоящим альфой, он своей задиристостью, видимо, хотел завоевать положение бета. Его ненавидели все, но никто не решался навлечь на себя его гнев. Меня это нисколько не волновало. Думаю, он сам меня боялся. Но однажды он был вынужден вступить со мной в спор во время школьной игры в захват флага. Я схитрила по ходу игры, и его команда заставила его выступить против меня. Словесная перепалка перешла в драку, и вскоре он лежал на полу и не мог встать – не слишком долго, чтобы привлечь внимание учителей, но все же в течение нескольких минут. Все дети любили меня за это целых несколько месяцев. Я была счастлива, что побила его. Для меня обуздать хулигана стало попыткой спастись от пожара. Возможно, огонь еще не добрался до моего дома, но он непредсказуем, и таким же непредсказуемым становится поведение напуганных лесных обитателей. Этот пожар мог задеть и меня, поэтому мне пришлось принять экстренные профилактические меры. Побить задиру и хулигана – значит стать героем в глазах народа. По-моему, именно поэтому Бэтмен бьет злодеев.
Часто я думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я получала образование вне стен государственной школы или вообще не в США. Думаю, я бы меньше притворялась и, наверное, была бы менее искусна в этом деле. Но как бы то ни было, необходимость взаимодействовать с другими детьми сделала меня неплохим антропологом. Как чужаку, пытающемуся проникнуть в незнакомое племя, мне приходилось изучать окружающих, наблюдать за их поведением и вычленять его важные составляющие. Я стала очень восприимчивой к деталям и приобрела недюжинные актерские навыки. Я видела, что другие дети думают и действуют не так, как я, и часто реагируют на разные ситуации очень эмоционально, в то время как я сохраняю полное спокойствие. Я начала подражать другим. Думаю, мои первые старания подражать нормальному поведению были честными попытками и самой стать нормальной – так младенец подражает звукам человеческой речи не для того, чтобы кого-то обмануть, а честно желая вступить в общение. Тогда я не понимала, что мне не суждено стать нормальной. Точка бифуркации была мною достигнута в возрасте четырех лет. Возможно, так записано в коде моей ДНК. Как бы то ни было, начиная с этого возраста пути назад не осталось – если даже допустить, что раньше возможность нормального развития была. Однако с тех пор я стала необратимо отличаться от других, хотя степень своей обособленности мне еще предстояло осознать. В раннем детстве я, естественно, не могла выразить этого словами, но чувствовала нутром.
В годы моего созерцательного ученичества я с презрением ребенка, не терпевшего телячьих нежностей, относилась к детям, которым эти нежности были нужны как воздух. Я считала их слабаками и удивлялась, как они могут думать, что привязанность к близким стоит унижений. Я не могла даже представить себе человека или группу людей, ради которых я была бы согласна унижаться. После достаточно долгого периода наблюдений я научилась всему, что нужно, и начала пользоваться уважением взрослых. Но, даже когда я сплетничала с острословами, затейниками и классными петрушками, которых все любили, даже когда я видела, что в меня влюблены слабые дети, я все равно понимала, что я не одна из них. Я знала, что у меня никогда не будет настоящих привязанностей, независимо от того, сколько у меня приятелей, потому что та личность, которая им нравилась, для меня всего лишь личина, абсолютно непохожая на мое истинное «я».
Тем не менее игры доставляли мне удовольствие. Играя с друзьями, я открывала способы задевать их слабые места. Вам когда-нибудь приходилось сдирать с царапины корочку? Нажимать на больной зуб? Напрягать натруженную ноющую мышцу? В этих действиях есть некий искус, и так же сладостно было для меня ткнуть друга или подругу в больное место и посмотреть, что получится. У меня не было таких слабых мест, и поэтому игра доставляла мне истинное наслаждение. Утверждение об отсутствии у меня уязвимых мест звучит, конечно, абсурдно. Это не значит, что я считаю себя лучше других. Я вполне отчетливо сознаю, что у меня множество недостатков, но дело в том, что они меня совершенно не беспокоят, не вызывают таких сильных чувств, как у большинства других людей.
Очень часто отсутствие у меня слабых, уязвимых мест вызывало их появление у моих друзей и подруг. Например, одна девочка, с которой я дружила в средней школе, сильно стеснялась мальчиков. Она считала себя несимпатичной. Я же всегда была окружена ордами поклонников: я была барабанщицей, серфингисткой и вообще добивалась успехов в тех видах спорта, где традиционно доминировали мужчины. Почти все мои друзья были мальчики, и я никогда не переживала, нравлюсь им или нет; наверное, именно поэтому я их и привлекала. Я знала, что моя подруга очень хотела бы походить на меня. Понимала я и то, что в глубине души она ненавидит меня за мой успех. Я была уверена: настанет день, когда ей захочется доказать, что она привлекательнее меня. И решила поиграть с ней.
В нашей школе учился один мальчишка, который буквально втюрился в меня. Назовем его Дэйвом. Он не скрывал своей страсти, но его удерживало то, что он христианин, а я мормон. Это делало его идеальным товарищем во всех моих проделках и предприятиях. Мне нравилось поддразнивать его, пользуясь этой влюбленностью; я понимала, что он никогда не переступит границ из-за страха перед Богом (или еще перед чем-то). На прогулки с Дэйвом я часто брала и ту подругу (назовем ее Сарой), так как знала, что она влюблена в него и так поглощена своей любовью, что не замечает его влюбленности в меня (может быть, она и замечала, кто знает). Я не была на сто процентов уверена, но мне нравилась неловкость отношений в нашем трио.
Однажды в субботу, гуляя по городу, мы решили вместе пойти на вечеринку. По дороге мы зашли к Дэйву, так как ему надо было переодеться. Пока он переодевался, мы с Сарой, ожидая его, разговорились – точнее, я заставила ее разговориться. Я поняла, что она считает: предстоявший вечер должен показать ей, что кому-то она нравится больше, чем я. Наверное, так случилось потому, что Дэйв весь день отчаянно ухаживал за ней – вероятно, чтобы напоить меня моим собственным зельем. Как бы то ни было, Сара надела маску уверенности и преждевременно внушила себе, что ей предстоит восторжествовать надо мной.
– Почему ты улыбаешься? – спросила я.
– Так, без причины, – хихикнув, ответила Сара.
– Нет, серьезно. Ты вполне можешь мне сказать. В чем дело?
– Да ничего особенного. Вообще все это очень глупо.
– Хочешь заключить пари, кто из нас раньше поцелуется с Дэйвом?
– Откуда ты узнала?!
– Догадалась. Можем заключить такое пари, если хочешь.
Конечно, она захотела, потому что была на сто процентов уверена в победе. Она хотела хотя бы один раз увидеть мое унижение. Мы договорились об условиях пари и вознаграждении (я знала, что чем более сложными будут казаться эти условия, тем более честный вид примет предприятие, хотя на самом деле я просто хотела усилить ее смущение и усугубить слабость). Конечно, я выиграла, оттянув момент торжества настолько, насколько смогла: я дождалась, чтобы она бросилась ему на шею – и была отвергнута. Двойное наслаждение: мне удалось не только сокрушить самоуверенность Сары, но и поколебать религиозные устои Дэйва – для того лишь, чтобы на следующий день с презрением отвергнуть его домогательства.
Несмотря на мои дурные намерения, я все же в большинстве случаев умела себя обуздывать, особенно в сравнении со школьниками, расстреливающими своих одноклассников. Я никогда не считала себя хищницей, потому что никого не изнасиловала и не убила. Но, оглядываясь назад, я думаю, не является ли мое понимание своей отчужденности вкупе с инстинктивной потребностью наблюдать других людей, с целью выжить и преуспеть, характерной для поведения людей-хищников?
Если я хищник, то для чего я охочусь – ради удовольствия или выживания? Я научилась быть хищницей ради выживания, но так же верно, что играла эту роль и тогда, когда в этом не было никакой необходимости. Многие хищники ведут себя так, совершая «ненужные убийства» или атакуя жертву, не испытывая настоящей нужды. Вам не приходилось видеть ролики про китов-убийц, набрасывающихся на жертву, убивающих ее, а потом уплывающих прочь? Ученые уверяют, что это не убийства для удовольствия (откуда они знают?), а один из механизмов выживания: ненужные убийства требуют большей агрессивности, а наиболее агрессивные особи имеют больше шансов выживать и размножаться.
Хищники, занимающиеся ненужными убийствами, всегда готовы напасть, совершить убийство. Точно так же и я всегда готова играть ради победы, независимо от того, против кого ведется игра и насколько невинны и беззащитны потенциальные жертвы. Это имеет для меня большой смысл. Если бы я была беспощадной только когда это необходимо или если бы моя беспощадность была направлена только против тех, кто этого «заслуживает», то я не смогла бы стать эффективной хищницей. Я все время задавала бы себе неудобные вопросы: заслуживает ли конкретный человек жестокого обхождения? Действительно ли мне надо на него напасть? Наоборот, для меня естественна агрессивность, направленная на всех без исключения. Сейчас, став взрослой, я обуздываю свои наклонности. Я позволяю людям брать надо мной верх, чтобы сохранять нужные мне отношения, но животная страсть к разрушению все равно бурлит под обманчиво спокойной поверхностью. Многие считают меня красивым и экзотическим щенком, но щенком по-настоящему опасным, вроде белого тигра для моей семьи и семьи моих друзей, Зигфрида и Роя.
Природная агрессивность всегда мешала мне вести нормальную общественную жизнь. Будучи подростком, я употребляла все средства, чтобы скрыть свою истинную сущность, но она все равно прорывалась в форме неприкрытой агрессии. Если кто-то – болтливая одноклассница или воодушевленный учитель – вызывал у меня гнев, мои глаза превращались в две мерцающие точки, а в голове начинали роиться планы мести. Наклонив вперед голову, я сжимала кулаки и прищуривала глаза, сосредоточив всю свою злую энергию на одной цели – найти лучший способ сокрушить противника. Образ нормального человека, который с таким тщанием выстраивала, мгновенно разрушался, и я становилась похожей на киношного злодея. В социальном плане я вела себя очень непоследовательно, делая шаг вперед и тут же два шага назад.
Я училась в начальной школе, когда до меня начало доходить, как важно воспитать в себе привлекательные черты характера. Я внимательно присматривалась к сверстникам, чтобы понять, чем они привлекают друг друга, и старательно перенимала их поведение. Именно тогда я занялась серфингом, стала играть в рок-ансамблях и карабкаться вверх по социальной лестнице. Помимо того что я хорошо училась, я стала смотреть альтернативное кино и слушать музыку андерграунда, заниматься мотокроссом и санным спортом и носить одежду из магазинов для бедных. Я стала воплощением совершенства, обаяния и таланта. Люди гордились моей дружбой, меня любили (и боялись). Я не только обзавелась набором масок на все случаи жизни, но и, кроме того, научилась безупречно пользоваться этими масками.
Вела я себя подчас просто возмутительно, но в школе старалась быть паинькой, и на мои выходки смотрели как на несущественные капризы. От матери мне передалась любовь к музыке. Я играла на барабане в школьном оркестре и в городских рок-группах. Когда я училась в старших классах, музыка помогала мне маскировать асоциальное поведение. Музыкантов вообще считают самовлюбленными, эксцентричными нарциссами; зрители были бы разочарованы, если бы их любимцы вдруг начали вести себя как заурядные обыватели. Таким образом, мои выходки выглядели вполне естественно в контексте увлечения рок-музыкой. Когда держишь в руках гитару или бьешь в барабан, от тебя ждут, что ты будешь вопить и дергаться как одержимый, заводя публику в зале и притягивая к себе всю возможную зрительскую любовь и преданность.
Кроме того, мне повезло, что Джим продолжал водить меня в свои компании, хотя я была его младшей сестрой. В школе он дружил с ребятами старше себя – это были не то чтобы сорвиголовы, но очень энергичные мальчишки, поклонники музыки ска[12]. Они носили классические костюмы и узкие галстуки. Каждый выходной они ходили в клубы или собирались у кого-нибудь дома, чтобы послушать музыку, и мы с братом вместе с ними. Так я познакомилась с обстановкой на рок-концертах, с коллективным безумием, поножовщинами, разбитыми об головы бутылками и массовыми драками, после которых зрителей увозили на каретах «скорой помощи» и в полицейских автомобилях. Концерты приводили меня в состояние восторженного трепета.
В старших классах я занялась продуманной организацией междоусобных войн. Однажды я вступила в борьбу с одним из учителей за гегемонию в классе: я считала, что гегемоном должна быть я, но, как ни странно, преподаватель с этим не соглашался. Я купила десяток метров черной ткани, сшила из нее нарукавники и вовлекла половину школы (подростки любят бунтовать против любой власти, и я умело воспользовалась этим) в демонстрацию протеста против педагога. В другой раз я решила устроить конкурс рок-барабанщиков в Южной Калифорнии. Нам понадобились для этого инструменты, и я, считая, что лучше потом попросить прощения, чем заранее просить разрешения, подделала пропуск и забрала инструменты из школьной кладовой. Это было в выходной день, и я надеялась, что никто ничего не заметит. Я ввязывалась в драки с людьми, намного превосходившими меня весом и силой, но все это происходило в зрительных залах и на площадках концертов, где насилие и драки в порядке вещей. Хладнокровие и расчет позволяли мне всякий раз выходить сухой из воды.
Чтобы на мою драчливость не жаловались и просто потому, что мне это нравилось, я в детстве играла только с мальчиками. Они редко жаловались родителям на синяки и шишки. Мне нравилось носиться с ними, бороться и возвращаться домой потной и грязной. Когда я была совсем маленькой, мне нравилось бегать без рубашки, как мальчики. Я не понимала, как можно играть в куклы, когда можно играть в войну.
Я обожала контактные виды спорта. Мне нравилось в них все. Особенно хорош в этом отношении американский футбол – та его разновидность, где используются толчки, а не захваты. Мне нравилось играть под дождем, когда приходилось падать в грязь, получая синяки и царапины. Отталкивая друг друга, мы носились по площадке, вылетая за ее пределы, сталкиваясь друг с другом и падая на углах. Мне доставляло наслаждение на скорости наталкиваться на соперника, а уж какую радость я испытывала, когда соперник уходил к школьной медсестре с разбитым в кровь носом! Играя в софтбол в школе, я налетала на соперников чаще, чем кто-либо другой, хотя и не была лучшим игроком. Мне очень нравилось красть базы. Даже если мяч долетал до бейсмена в момент, когда я подбегала к базе, я продолжала бежать на него и сбивала с толку: он отпрыгивал в сторону. Однажды, когда я пыталась украсть домашнюю базу, я так напугала кетчера, что она попыталась меня остановить, хотя у нее еще не было мяча. Иногда игроков действительно пугал мой непомерный пыл, но это, я считаю, их личные проблемы.
Склонность к риску, агрессивность, пренебрежение к собственному и чужому здоровью – все это симптомы социопатии, и в детстве они проявлялись у меня очень отчетливо. Мне думается, что переживания близости смерти ярче воспринимаются в детстве, чем в зрелом возрасте. Эти моменты отпечатываются в мозгу и потом напоминают, что человек смертен. Когда мне было восемь лет, я едва не утонула, купаясь в океане. Я не помню всех подробностей моих тогдашних чувств, но помню ощущение непреодолимой силы, с какой невидимый, словно воздух, океан поглощал меня заживо. Мать рассказывала, что, когда спасатели вытащили меня из воды и сделали искусственное дыхание, я, придя в себя, первым делом рассмеялась. Это прекрасный опыт. Я поняла, что смерть может настигнуть меня в любой момент, но на самом деле это не так уж и страшно. Тот эпизод не внушил мне страха смерти, и с тех пор я часто играла с ней, балансируя на грани, хотя никогда не искала гибели целенаправленно.
Однажды я заболела. Это было в воскресенье, за пару месяцев до моего шестнадцатого дня рождения. Обычно я никому не рассказывала о недомоганиях. Даже тогда, в юности, не любила посвящать людей в свои неприятности, чтобы не давать им повода вмешиваться в мою жизнь. Однако в тот день я сдалась и сказала матери, что у меня сильно болит живот – непосредственно ниже грудины. Мать, по своему обыкновению, выказала недовольство, а потом дала мне какой-то травяной отвар, после которого к боли присоединилась еще и тошнота.
На следующий день я осталась дома и не пошла в школу. Это ничего для меня не значило, но я была недовольна, так как очень не любила праздности. Учеба, занятия музыкой и спортом, другие виды деятельности плюс игры с окружавшими людьми – с друзьями, учителями и знакомыми – постоянно занимали мое время. Скука была моим врагом номер один, а значит, таким врагом стала и болезнь. Поэтому на следующий день я, несмотря на боль, потащилась в школу. Через несколько дней я успешно играла в софтбол – а боль продолжалась.
Родители каждый день снабжали меня каким-нибудь новым снадобьем, и скоро я начала ходить в школу с целым мешком медикаментов. Главным образом это были антациды и ибупрофен, а также всякие домашние снадобья. Я чувствовала боль, но не могла определить ее силу и оценить угрозу для здоровья. Я понимала только, что боль – это помеха, мешавшая мне взаимодействовать с игроками на поле и видеть игру. Мне приходилось сильно напрягаться, чтобы отвлечься от боли, которая все время притягивала мое внимание, мешала телу двигаться и действовать.
Вся энергия, которую я прежде направляла на то, чтобы быть очаровательной и милой, теперь шла исключительно на подавление боли, на попытки не обращать на нее внимания. Через несколько дней я начала огрызаться на самые невинные замечания. Я перестала быть обходительной и забыла даже об элементарных правилах вежливости, прекратив даже отвечать на приветствия кивком головы. Теперь я не улыбалась, а смотрела на окружающих пустым взглядом, обычным для меня, когда я оставалась одна и меня никто не видел. Я уже не заставляла себя улыбаться – просто была не в состоянии это делать. Фильтр между мыслями и словами прохудился, и я начала говорить гадости друзьям. Не хватало интеллектуальных сил, чтобы сохранять обаяние и подавлять отрицательные эмоции. Не обладая ментальной стойкостью, позволяющей другим держать себя в руках, я дала волю злобности – смеси тупого садизма и тотальной неприязненности.
Я и сама не понимала, что делаю, так как не осознавала, каких умственных сил мне стоило просто поддерживать межличностные отношения, как много усилий требовалось, чтобы сдерживать свою естественную импульсивность. Только позже, когда от меня отвернулись все друзья, я поняла, что произошло. Какое-то время они оказывали мне снисхождение, но потом их терпение лопнуло. Они перестали терпеть мое хамство. У меня создалось впечатление, будто я долго носила под одеждой средневековую кольчугу и вдруг она внезапно упала с плеч. Освободившись от нее, мое тело стало совершать несоразмерные и странные движения.
Утром, днем и вечером я, рыча, терпела боль. Боль из живота постепенно переместилась в поясницу, в область почек. У меня появилась потливость, я позеленела. Отец предположил, что я растянула мышцы. Я снова пошла в школу и на следующий день поехала на музыкальный фестиваль в другой город, расположенный в 40 милях от нашего. В автобусе у меня поднялась температура, и весь обратный путь я пролежала на полу. Во вторник я пришла на уроки, но чувствовала себя настолько плохо, что не смогла сидеть и весь день проспала в машине старшего брата. Я не помню, какое это было время года, но помню, что погода стояла солнечная и теплая. Свет лился в машину, превращая ее в парник. Свернувшись калачиком на заднем сиденье, я с наслаждением ощущала тепло, смягчавшее пульсирующую, временами острую, временами тупую боль, разлившуюся, казалось, по всему телу. Приехав домой, я сразу же залезла в кровать. Когда мать пришла будить меня к обеду, она обнаружила под одеялом трясущегося в ознобе, потного, горящего в лихорадке ребенка. Вернувшийся с работы отец долго смотрел на меня, соображая, что делать дальше. Оценив наконец мое состояние и решив, что дело плохо, он сдался: «Завтра мы поедем к врачу».
В кабинете врача все проявляли ко мне трогательную заботу, были подчеркнуто спокойны и внимательны. Мне сделали анализы, и когда пришли результаты, то обстановка резко переменилась: все засуетились. Врач что-то возбужденно говорил о моих лейкоцитах, которых слишком много. Мать погрузилась в естественную для таких ситуаций кататонию, перестав воспринимать происходящее; обычно она впадала в такое состояние, когда отец начинал бить посуду и кричать. Врач сыпал вопросами как из рога изобилия: давно ли появилась боль, что я делала последние десять дней и почему не обратилась к врачу раньше? Он вел себя так, как будто я что-то сделала не так, как надо, и я перестала отвечать на его вопросы. Мне стало нестерпимо скучно, но внутри нарастало беспокойство. Мне захотелось уехать, заняться делами и перестать быть жертвой, отданной на милость человека, пусть даже исполненного лучших намерений. Кто-то спросил, не хочу ли я прилечь, но я ответила вежливым отказом, а через мгновение отключилась. Придя в себя, я услышала крик. Отец убеждал врача не вызывать «скорую помощь». Даже в бреду я понимала, что медики ему не доверяют.
Отец был готов на все, лишь бы не ощущать укоризненных взглядов. Из-под дрожащих, полузакрытых век я отчетливо видела панику в его глазах. Однако боялся он не за умирающую дочь. Хотя нет, он, конечно, боялся, что я умру, но его тревожила не моя судьба как таковая, а тот моральный остракизм, которому в этом случае его подвергли бы друзья и соседи. Они не простили бы ему, что он по небрежности дал дочери умереть. Они обвинили бы его и мать, что те больше недели не обращали внимания на мои страдания и не обратились за медицинской помощью. К тому же, как я узнала позже, он просрочил платеж за нашу медицинскую страховку. Вспоминая теперь тот день, я лишь удивляюсь, что он вообще не уехал и не предоставил нам с матерью выпутываться самим. Матери повезло больше. Она была до того подавлена, что не ощущала никакой ответственности; беспомощность искупила ее вину.
Очнувшись после наркоза, первым, кого я увидела, был склоненный надо мной отец. Вид у него был усталый и сердитый. Увидев, что я пришла в сознание, он сразу доложил мне, что произошло: аппендикс прорвался и инфекция растеклась по кишкам. Все мои внутренности воспалились, а мышцы спины частично омертвели. Хирургам пришлось вырезать куски омертвевшей плоти и оставить в ране пластиковую трубку, чтобы по ней оттекал наружу гной. Однако все пройдет, не оставив никаких следов.
– Ты могла умереть. Врачи очень рассержены.
По его тону можно было понять, что они рассержены на меня. Выходило, что мне надо еще и перед всеми извиняться.
Больница – место, конечно, абсолютно бесчеловечное. Самое плохое время – предрассветный час, когда в палате еще холодно, а сквозь жалюзи пробивается тусклый свет, хоть он и пробуждает надежду. На смену ночным сестрам приходят дневные, свежие и отдохнувшие, одетые в карикатурные робы и горящие желанием бодро применить на больных свои навыки. На обход приходят стада интернов и врачей; они открывают жалюзи и осматривают куски изуродованной плоти, соединенные с трубками и аппаратами, – киборгов, порожденных больничной фантасмагорией.
Лишившись своей брони, больной может под влиянием больничной обстановки превратиться в дикаря либо продолжать отчаянно цепляться за человечность. Для меня выбор был очевиден. Я хорошо знала притаившегося во мне дикаря – животное, которого в жизни не интересует ничто, кроме желания выжить и победить. Я без проблем отбросила чувство собственного достоинства и ощущение принадлежности к роду человеческому, так как понимала, что это самый лучший способ пережить несколько следующих дней. Кроме того, я испытывала огромное облегчение оттого, что теперь мне не надо носить маску цивилизованной девушки. Это позволило мне сэкономить уйму душевных сил. Жизнь свелась к нескольким простым и основополагающим вещам: сну, еде и дефекации, – а также к грубым физическим вмешательствам, к которым, однако, я могла подготовиться заранее. В этом отношении я была образцовым пациентом, делала все, что говорили, послушно выполняла дыхательные упражнения и ходила по коридору в развевающемся больничном халате. Одна из сестер назвала меня «храброй крошкой». Думаю, на нее произвели впечатление мои стальные глаза и неизменная улыбка. Не было ни слез, ни жалоб. Я воспринимала все страдания с полнейшим бесстрастием. Для жертвы это мужество, вызывающее восхищение; для хищника – отсутствие человечности, вызывающее страх.
Через неделю меня собрались выписывать, так как мое здоровье стремительно улучшалось. Та же сестра сказала мне, что задерживает выписку только тошнота, которая возникала всякий раз, когда я садилась завтракать. Я пыталась сделать вид, что ем, но к концу завтрака выяснялось, что я почти не притронулась к еде. На этот раз меня спас отец. Он приехал за мной в больницу на час раньше запланированного времени, чтобы не опоздать на встречу с клиентом. Одной рукой он отправил себе в рот блинчик, а другой сгреб яичницу в мусорный пакет и, отнеся ее в туалет, спустил в унитаз.
По дороге домой мы остановились возле музыкального магазина. У отца еще оставалось время, и мы решили купить компакт-диск, который мне давно хотелось иметь. Магазин был еще закрыт, и отец принялся барабанить кулаками в дверь. Показался сотрудник магазина, и отец начал жестами объяснять ему сквозь стекло, что нам нужно, время от времени энергично тыкая в меня рукой. В конечном счете мы получили что хотели. Да, порой люди могут удивлять.
Я не знаю, как семья справилась с оплатой больничных счетов, но уверена: отец как-то обошел вопрос об оплате огромного долга за счет той же способности, которая помогла ему получить компакт-диск в закрытом магазине. Когда мы приехали домой, он проводил меня по лестнице в спальню и помог лечь, сказав, что позаботится, чтобы мне меняли мокнувшие повязки. Он часто говорил подобное, обещая совершенно нереальные вещи.
В принципе родители относились к своей личной безопасности не намного лучше, чем я. Они постоянно попадали в дорожные аварии. Однажды, когда я еще была маленькая, мы поехали по горной дороге в гости к моему дяде и попали в очень серьезное происшествие: нам в зад въехал какой-то пьяный водитель. Нашу машину вытолкнуло на встречную полосу, мы пролетели четыре ряда и врезались в бетонное ограждение. Дети плотно сидели на заднем сиденье, и каждый из нас сильно ушибся. По какой-то причине мы не повернули назад, а доехали до родственников, хотя путь занял еще десять часов. Мне помнится, что на полученную страховку мы потом прожили несколько лет. Даже теперь, попав в аварию (обычно не по своей вине, так как я отменный водитель), я первым делом снимаю место происшествия и провоцирую другую сторону на грубости.
С самого раннего детства я любила забираться на движущиеся транспортные средства, перебегать дорогу перед движущимся транспортом и даже залезать под движущийся транспорт. Я всегда любила ездить в кузове грузовиков, свесившись за борт.
Когда мне было десять лет, один друг нашей семьи попросил моего брата Джима и меня развезти после вечеринки по случаю Хеллоуина гостей по домам на моторной тележке для гольфа, вмещавшей восемь пассажиров. Ехать надо было около полумили. Мы аккуратно довезли пассажиров до дома, но на обратном пути пустились во все тяжкие. Пока мы ехали, я попыталась перелезть по крыше экипажа с кормы на нос. Брат не обратил на это никакого внимания. Увидев, что меня нет в кабине, он решил, что я осталась в доме. В одном месте он резко развернулся, и я слетела с крыши и покатилась по дороге, как бочонок. Я на какое-то время потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что на меня надвигается задним ходом автомобиль, светя габаритными фонарями. Это был мой брат, который пытался в этот момент выполнить разворот в узком месте. Я едва успела откатиться в сторону, чтобы не попасть под колеса.
– Где ты была? – удивленно спросил Джим, когда я залезла в кабину.
– Не знаю, кажется, нигде, – ответила я.
Впрочем, я и сама водила машины очень рискованно. В один прекрасный день мать показала мне мою первую машину стоимостью в целых 1200 долларов. Это была очаровательная развалюха – «понтиак» 1972 г., восьмицилиндровое чудо с двумя глушителями. Машина меня просто очаровала. Она была очень похожа на другую модель «понтиака», на GTO, отличалась обтекаемостью и агрессивностью форм. Это была одна из последних машин, похожих на мускулистых хищных животных, чьи имена они часто и носили: мустанг, скакун, пума. Фары смотрели на меня, как два огромных глаза; решетка радиатора напоминала оскаленную звериную пасть. Крылья и шасси были тронуты ржавчиной, но ее не было на крыше, сделанной из винила. Однако, с точки зрения матери, самое большое достоинство машины – рама из детройтской стали: гарантия того, что при столкновении другая машина разлетится вдребезги, а я останусь цела. Интуиция не подвела маму, что я неоднократно доказывала в первые несколько лет эксплуатации автомобиля.
Двигатель моей машины оказался так прост, что я сама устраняла мелкие поломки и неисправности. Мне хотелось понять, как он работает, как устроен – на меньшее я не соглашалась. Когда я уже училась в колледже, у меня сломался стартер и я уговорила друга помочь мне заменить его, для чего мы поставили машину во дворе его дома. Я понятия не имела, как это делается, впрочем, как и мой друг, но мне всегда было интересно делать что-то новое, невзирая на трудности. Все шло хорошо до тех пор, пока мы не начали отсоединять стартер, не вытащив аккумулятор. Полетели искры, и шасси вспыхнуло ярким пламенем. Мы быстро выбрались из-под машины, и я затушила огонь снегом.
Я до неприличия увлеклась той машиной, но никогда не чувствовала в ней свою уязвимость; наоборот, я ощущала себя непобедимой. Я научилась ее укрощать, постепенно набирать скорость, участвовать в парных гонках с друзьями, тормозить во время ливней, которые, ввиду их редкости, превращали дороги Калифорнии в каток, залитый смесью воды, бензина и масла.
Мне нравилась уверенность, которую я испытывала, сидя за рулем, так как в эти моменты забывалось, что я беспомощная девушка-подросток. Такой чертовке, как я, братья были ближе, чем сестры с их играми в куклы и дочки-матери. Они, правда, ходили в бойскаутскую группу – стреляли из лука, рыскали по лесам с ножами. В мормонской церкви читали нудные проповеди о предназначении женщин, учили шить наволочки, делать лапшу и всякие прочие изделия с использованием шприца для теста. Вообще для меня женщины – люди не активные, а пассивные, привыкшие не действовать, а становиться объектом действия.
Когда мне сравнялось десять лет, многие стали говорить, что я очень похожа на мать. Я совершенно правильно истолковала эти слова: они означали, что в глазах мужчин я стала объектом сексуального вожделения. К десяти годам у меня уже выросли заметные груди, а бедра стали напоминать формой греческую вазу. Мужчины плотоядно пялились на меня, и я почти физически чувствовала агрессию. Взрослые женщины смотрели на меня как на юную распутницу, хотя я не имела понятия почему. Новое тело поначалу казалось мне обузой. Не прояви я осторожность, оно могло бы стать бомбой, превратив меня в объект презрения для женщин и домогательства – для мужчин.
Я понимаю, что все девочки-подростки переживают неприятный период перехода от детства к женской половой зрелости. Но мне кажется, что этот период для меня, расцветающей социопатки, прошел намного тяжелее. Единственное, чего я хотела по-настоящему, – это власти и еще раз власти. Будь я мальчиком, то стала бы, как мне казалось, большим мускулистым мужчиной с весьма внушительной внешностью. Я всегда занималась спортом и была всегда слишком агрессивной и напористой для девочки. Даже в обстановке, где обычно доминируют мужчины, ибо все вопросы решаются физической силой (например, на рок-концертах), я находила силы справляться с противниками. Но все же я девушка ростом 160 см и весом 56 кг. Я хотела, чтобы меня боялись и уважали, но дело обычно кончалось непристойными предложениями от подвыпивших верзил вдвое крупнее меня. Я выглядела не как хищник, а как привлекательная цель для необузданного и агрессивного мужского внимания. Я была сильной и крепко сбитой девушкой, но мужчины все равно сильнее. Я была умна и коварна, но зачастую недостаточно для того, чтобы противостоять авторитету взрослых, пусть и вполовину менее умных и коварных. Я, конечно, чувствовала себя женщиной, но была не такой слабой, как выглядела.
Я никогда не отождествляла себя со своим полом или по меньшей мере всегда испытывала двойственные чувства в отношении своей половой принадлежности. Многие девушки проходят через попытки отказа от половых стереотипов, через бунт. Когда девочка подрастает, вокруг нее как будто проводят мелом круг радиусом в метр. Круг проводит общество, религия, семья, но особенно часто другие женщины, которые почему-то воображают себя вправе определять поведение девочки, как будто оно может запятнать всю женскую половину человечества. Внутри невидимой линии – модель взаимодействия девочки с окружающим миром, эталон «девичества», дающий право любому сказать, например: «Ты слишком жесткая для девочки». Хочется размахивать руками, пинать ногами, размазать по стенке всех знатоков и советчиков, но круг прочно держит девочку в границах, оставляя лишь несколько сантиметров свободного пространства. Я чувствовала, что ярлык «девочка» слишком сильно ограничивал мое представление о себе, и поэтому практически всегда его игнорировала.
Несомненно, в принадлежности к женскому полу есть и кое-что хорошее. Моя мать, как правило, была очень пассивна в отношениях с отцом, но если ей чего-то очень хотелось, то стоило лишь ласково прикоснуться к нему и взглядом пообещать физическое наслаждение, и она тотчас получала требуемое. Сотни раз мужчины говорили, что у меня очень красивая мать. Это была не констатация объективного факта, а надежда на удовольствие. Иногда я слышала жалобы мужчин, что сила женщин в том, что именно они решают, заниматься сексом или нет. Однако в то время я еще не умела пользоваться этим мощным оружием. В старших классах, когда иные девочки уже вовсю экспериментировали со своей сексуальностью, я была совершенно бесполой. Тогда я еще не понимала, что секс может доставлять удовольствие. Я не понимала также, что секс связывает людей, соединяет их и поэтому становится орудием власти. Я не знала, что секс – это проявление любви, а ради любви люди обычно готовы на все.
Тем не менее я очень успешно пользовалась своей половой принадлежностью в борьбе с противными учителями-извращенцами. Особенно ненавистным был один. В старших классах учитель английского языка однажды поставил мне неудовлетворительную оценку за задание, потому что мама сдала его за меня, так как меня в тот день не было в городе – я уезжала на соревнования по софтболу (или на конкурс барабанщиков, точно не помню). Учитель выставил меня на посмешище перед классом, заявив, что «мамочка сдает за нее работу». Старый, мелочный и мстительный, он решил посмеяться надо мной при всех. Мне он никогда не нравился. Я видела, как он ополчался на других девочек в классе, и поэтому никогда не давала ему поводов для придирок. Однако он, видимо, замечал мое молчаливое сопротивление, и оно сильно действовало ему на нервы, и вот теперь он нашел повод открыто на меня напасть.
– Томас, вы, вероятно, заметили, что я поставил вам низший балл. Да, это так. Я даже не стал читать вашу работу, поэтому в следующий раз пощадите вашу маму и либо сами сдавайте работу, либо не сдавайте вообще.
Я почувствовала, как во мне вспыхнул гнев, но быстро взяла себя в руки.
– Плевать я на тебя хотела, старый толстяк, – ответила я безмятежно и спустя несколько минут уже сидела в приемной кабинета директора.
С этого момента между нами началась тайная война за авторитет и власть. Я хотела его уничтожить, а так как в глазах учеников он пользовался дурной репутацией, то самым легким способом это сделать было составить письменное досье его высказываний и поступков, записывая все его неудачные и спорные высказывания. Я подружилась со многими девочками в классе и внушила им, что даже самые безобидные его поступки невозможно больше терпеть. На самом деле, конечно, он был далеко не так уж плох – просто пожилой человек и, подобно большинству мужчин, родившихся до 1950 г., мужской шовинист. Когда в классе начинался опрос, он проецировал вопросы на экран, висевший на стене за его столом, и всегда просил придвинуть парты ближе к его столу под тем предлогом, что так лучше видно тем, кто сидит на задних рядах. Но как раз на одном из задних рядов сидела девочка, обыкновенно носившая обтягивающие платья с очень смелым вырезом. Я пустила слух, что он заставляет нас придвигать парты к столу, чтобы ему было удобнее заглядывать ей в вырез платья. История получилась в целом вполне правдоподобной, так как иногда его лицо и в самом деле искажалось сладострастным, похотливым выражением. Так что, возможно, мое измышление было и правдой. Как бы то ни было, сплетни начались и их очень скоро стали воспринимать как вполне правдивые рассказы.
Но одних слухов, конечно, недоставало. Как и того, что однажды я вынудила его непристойно отозваться о моих грудях. В тот день в классе шло обсуждение танцевальных постановок в музыкальном отделении школы.
– Как вам понравилось мое соло? – осклабившись, спросила я после того, как он отозвался обо всех остальных.
– Томас, у вас нет вкуса! На сцене вы беспорядочно дергаетесь, трясете своими прелестями, и совсем не так красиво, как остальные девочки. – Он повернул голову и обвел рукой остальных.
Думаю, он пытался настроить класс против меня, но я уже успела настроить всех против него. Он не смог задеть мои чувства, но явно переступил границы, дозволенные в отношениях между учителем и учеником, да еще в присутствии свидетелей.
После урока я спросила одну из танцовщиц, не испытывала ли она неловкости от такого плохо прикрытого сексуального домогательства. Я изо всех сил разыгрывала сочувствие и озабоченность. Мои усилия не пропали даром: девочка была тронута моей искренностью. Да, она знала: ходят слухи, будто у них с учителем особые отношения (правда, не знала, что автор этих слухов – я). Да, это очень ей не нравилось. Я внимательно и сочувственно ее слушала. Она призналась, что ей стыдно, а я усердно подливала масла в огонь.
Я воспользовалась поводом, чтобы представить его потерявшим самоконтроль старым развратником. Мне надо было, чтобы девочка его боялась. Мне надо было, чтобы она присоединила свой голос к обвинениям. Я сказала ей, что его надо остановить, пока не случилось чего-то худшего, что, по моему мнению, нам надо подать официальную жалобу на сексуальные домогательства, и спросила, подтвердит ли она эту историю, если потребуется. Я представила дело так, что ее участие совершенно не обязательно, но на всякий случай хотела заручиться ее поддержкой. Девочка согласилась. Скоро ей предстояло узнать, что ей отводилась роль моей главной свидетельницы.
Придя домой, я рассказала матери, что произошло в школе – только факты, не упомянув о нашем противостоянии и о моих планах убрать неугодного мне учителя. Я рассказала, какой «притесненной» себя чувствую и что я не единственная девочка, по отношению к которой он так себя ведет. Я знала, что мать мучают угрызения совести из-за того, что она многое упустила в моем воспитании, и понимала, что в этом деле она с радостью мне поможет. Я сказала, что заявления о сексуальных домогательствах учителей надо подавать непосредственно в окружное управление образования. Не пойдет ли она завтра со мной в управление, чтобы составить соответствующее заявление и дать делу законный ход? Отец был резко против, но я понимала, что это только усилит рвение матери.
Я подала заявление и перечислила верных мне девочек как свидетелей. В заявлении я постаралась представить учителя в самом невыгодном свете. Несколько недель управление наблюдало за его поведением. Я с удовольствием отметила, что в школе рядом с ним все время находился какой-нибудь посторонний человек. Это было официальное «предупреждение», официальное недоверие; неофициально, как мне кажется, ему посоветовали написать заявление по собственному желанию, и он ушел с должности заведующего отделением английского языка и литературы, что я расценивала как большой успех. Я никогда не была жадной и никогда не шла на принцип. Я пыталась его уволить не потому, что опасалась за будущее психическое здоровье девочек; мне просто надо было показать ему, что и он уязвим, даже если его противник – слабая маленькая девочка.
Для меня это, кроме того, был урок, показавший ограниченность нашей юстиции, в чем я очень скоро убедилась, поступив на юридический факультет. Это был не единственный случай, когда я ввязалась в борьбу с учителем. Однако, что бы я ни делала, ни один из них не был уволен или понижен в должности по приказу вышестоящей инстанции. Я, конечно, получила удовлетворение от того, что смогла принести им неприятности, но при этом безнадежно испортила свою репутацию, прослыв возмутителем спокойствия. Да, я лгала, хитрила и дерзила, чтобы испортить педагогам карьеру, но они и правда были плохими учителями, которым нельзя доверять работу с детьми. Один был просто идиот, выбиравший себе любимчиков и занимавшийся только ими, не обращая внимания на остальных детей: так он пытался компенсировать отсутствие социальной значимости, от которой страдал, когда сам учился в школе. Другой учитель – одержимый сексуальный маньяк, похотливо смотревший на девочек с большими грудями (включая меня) и низкой самооценкой (исключая меня). Я не собиралась оправдывать свои действия общественным благом. Я просто не могла допустить, чтобы такие никуда не годные люди обладали властью надо мной. Кроме того, меня донимала двойная несправедливость: мало того что я не такая, как все, так я еще и девочка.