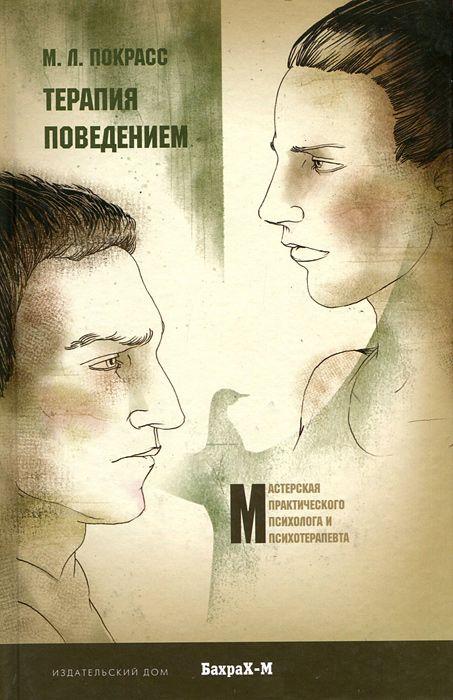Манипуляции психиатрическим диагнозом
В психологии существует понятие «манипулятивные техники общения». Эти приемы коммуникативного поведения сродни инструментальным формам активности человека, в которых партнер по взаимодействию (как и любой другой человек вообще) выступает обычным средством достижения желаемого результата, поставленной цели. Иначе говоря, другого человека могут просто использовать — как, например, используют молоток, чтобы забить гвоздь, или забивают, как гвоздь, который причиняет неудобства и, понятно, может быть опасным, создавая лишние проблемы, постоянно «остро» напоминая о себе, указывая на что- то нелицеприятное.
Через инструментальную активность манипулятивные техники в действиях человека тесно связаны с так называемой инструментальной агрессией. С ее помощью любая проблемная ситуация разрешается рассудочно, как абстрактно-логическая задача, без учета того, что «условием» этой задачи могут являться или являются живые люди. При этом косвенное или прямое ущемление интересов и прав другого человека обосновывается целесообразностью применения подавляющих (насильственных) санкций (вплоть до убийства) исходя из особенностей ситуации, которая якобы уполномочивает принимать такие решения.
Сопротивление или попытка сопротивления навязываемым манипулятивным техникам, царственно дарующим человеку статус марионетки, отличает каждого диссидента, в том числе и многих из тех, кому выпала участь испытать злоупотребления психиатрическим диагнозом в политических целях. Рискну напомнить известную фразу: «нет человека — нет проблемы». И добавить, что с помощью циничной политической манипуляции психиатрическим диагнозом от человека избавлялись психическим ингалированием, т. е. психологическим убийством, гражданской смертью.
Не секрет, что к психиатрическому диагнозу давно прибегали и все еще прибегают как… к средству спасения. И от законных санкций, и от беззакония. При этом в очень мирных и гуманных целях и по многим причинам.
Об этом не боятся писать психиатры, сумевшие отказаться от защитной позиции нивелирования, отрицания и замалчивания наболевших проблем психиатрического диагноза, связанных с его функцией социальных санкций. К сожалению, и сами они не избежали запрета на свою точку зрения — санкции, неконструктивной для устранения названных ими социально-психиатрических проблем.
Получается, что время диссидентских рукописей, которые пишутся «в стол», не везде и не для всех прошло окончательно. Однако авторы цитируемой ниже работы относятся к этому обстоятельству с достойным уважения терпением. Они, проявляя целесообразную осмотрительность, состоящую в желании скрыть свои имена, дабы избежать обещанных санкций профессионального подавления со стороны их начальственных коллег (А как же иначе?! Отступники ведь (диссиденты!), сор из избы метут и т. д.), предоставили возможность привести выдержки из своей книги.
«…один только факт обращения в психиатрическое учреждение или поставленный когда-либо диагноз (а диагноз не отражает и не может отразить всех особенностей состояния больного) мог исключить возможность заниматься некоторыми видами профессиональной деятельности, водить автомобиль, лечиться в санатории, купить охотничье ружье, поехать в заграничную командировку или туристическую поездку и т. д…». Однако такие «…социальные ограничения… становились бессмысленными по отношению…» к пациентам с пограничными, непсихотическими состояниями, «…что было ясно и им самим, и врачам… Инструктивные материалы этого не учитывали… Ряд социальных санкций (а их становилось все больше) по-прежнему касался всех лиц, состоящих на психиатрическом учете, или всех тех, кому поставлен определенный диагноз… Выйти из положения было трудно; к чести психиатров, это все-таки иногда делалось».
«Если, например, оказывалось, что пациент ограничен в своих правах в связи с определенным диагнозом, а врач видел, что его состояние не требует такого ограничения, можно было обойти инструкцию единственным способом: пересмотреть диагноз. При этом могло случиться, что врач вообще-то с диагнозом был согласен, а могло быть и так, что он действительно считал его неверным. В первом случае возникала следующая проблема. С одной стороны, для того, чтобы помочь больному, психиатр должен „симулировать“ профессиональную ошибку — поставить заведомо неверный диагноз. Для врача, обладающего высоким нравственным уровнем, это просто невозможно. С другой стороны, в первую очередь именно такие врачи ощущали, что нельзя ограничивать пациента в его правах по чисто формальному признаку, и с этой точки зрения неверный диагноз поставить необходимо. Этот нравственный конфликт разрешился путем формирования своеобразной этической нормы: можно записать в историю болезни заведомо неверный диагноз, если назвать его в кругу коллег „социальным“, „реабилитационным“ или как-нибудь еще в этом роде. Истинный диагноз стали называть „научным“, „академическим“ и т. п.; он был известен в учреждении, где наблюдали больного, лечение проводилось в соответствии с ним, но в историю болезни его не записывали. Такая практика получила довольно широкое распространение и обозначалась множеством жаргонных словечек („двойная бухгалтерия“, „один пишем, два в уме“ и т. п.)».
Ну что ж, остается констатировать хорошо известное: атомная энергия используется и в мирных, и в разрушительных целях. А манипуляция психиатрическим диагнозом — и во благо, и во вред…
Вообще, если человеком манипулируют, психологическая сторона его жизни, мягко говоря, очень проблемна. Если человека при этом стремятся политически подчинить, подавить или уничтожить, используя психиатрический диагноз, его жизнь превращается в испытание унижением, в духовную пытку. Психологические краски исчезают, вокруг сгущается мрак безысходного отчаяния…
Мир воспоминаний этих людей заставляет ощутить действие какой-то бесстрастной, неумолимо и безжалостно уничтожающей силы. Я помню, что это ощущение и удивило, и насторожило меня. Оно даже вызвало сомнения в пользу эмоциональных нарушений, которые могли соответствовать проявлениям вялотекущей шизофрении. В то время это был «главный» психиатрический диагноз. Он был облечен важной политической миссией «охраны государственной безопасности».
Рассказывая о периоде политико-психиатрических репрессий в своей жизни, люди перечисляли какие-то формальные детали (где было окно, где стояла кровать, как открывалась дверь), называли запомнившееся имена следователей, врачей, сопалатников, санитаров. О своих чувствах и переживаниях того времени они ничего не говорили, — по крайней мере, спонтанно и самопроизвольно. Это казалось неестественным. Ведь если много пережил, бесстрастность рассказа трудно сохранить — даже очень волевому и скрытному человеку. Тем более трудно не заметить прорывающиеся чувства, если внимание к такого рода нюансам давно стало профессиональной привычкой.
Вопрос о возможной болезни и возможных болезненных изменениях вследствие лечения в так называемых исправительных целях оставался до некоторого времени открытым. Ответ на него нашелся после того, как в процессе бесед, которые имели определенную психодиагностическую ориентацию, прояснилось множество важных психологических обстоятельств и деталей.
Люди воспринимали будущее как практически не существующую для них реальность. Они не надеялись. Они эмоционально отрешились от будущего. Жить надо было их настоящим, реальным. А в настоящей, реальной жизни был просто стул, окно, скрип двери, стоны и крики по ночам, кровать соседа, сам сосед, действительно страдающий тяжелым психическим заболеванием, грубый или, если повезло, добрый санитар и такой же врач, прием лекарств, действие которых укрепляло уверенность в том, что скоро придет твой конец. Конец казался желанным, смерть избавляла от страданий. Душевная боль и маленький огонек надежды прятались за внешней атрибутикой, находя за ней защиту в те страшные дни и оставаясь за ней и в воспоминаниях.
На собственные переживания человек не имел права. Он даже сознательно отказывал в этом праве самому себе. Он понимал или интуитивно чувствовал и угадывал, что собственным эмоциям сейчас нельзя давать волю, иначе ослабеешь, не выдержишь. Поэтому таил свои чувства даже от самого себя.
Формальное перечисление несущественных деталей в рассказах-исповедях свидетельствовало о действии психологических защитных механизмов, когда главное глубоко прячут внутри, а о второстепенном, которое когда-то заменяло под давлением обстоятельств главное, рассказывают. Этот факт становился отчетливо ясным и неоспоримым. Когда же рассказывали о главном — плакали, а многие, чтобы не плакать, старались о главном говорить вскользь или вообще не говорили…
Здесь совсем не лишним будет вспомнить о научной объективности «субъективных» данных психологии и заметить, что глубинная, индивидуальная, объясняющая и понимающая психология является условием создания действительно объективно-научных диагностических стандартов для психиатрии, увеличивая объем представлений о вариативности индивидуальных психологических проявлений человека.
Вот только скептики от психиатрии упускают это из виду. Но почему? Может, бессознательно, подчиняясь грубо вытесненной в подсознание психологической личной проблематике? Или сознательно? Кто знает? Ведь недаром говорят, что чужая душа потемки… Но в психологических потемках своей души, да и потом в реальной жизни легко создать ситуацию, выгодную для циничных манипуляций психиатрией. Об этом скептики также забывают, что уж совсем непозволительно.
Наверно, это досталось им по наследству от того времени, когда психология из психиатрии была изгнана. Произошло это, как известно, в октябре 1951 г. на объединенном заседании Президиума АМН СССР и пленума правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров. Психологическому направлению в психиатрии тогда инкриминировались псевдонаучность и пропаганда буржуазно-идеалистических воззрений на природу поведения человека, признававших объективную роль внутренних (субъективных, индивидуальных) факторов в детерминации его мотивов. Профессора А.В. Снежневского, возглавившего вскоре после этого НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, «психологическое направление в психиатрии… не интересовало».
«В практике судебно-психиатрической экспертизы… наиболее частый вопрос, который ставится перед экспертом-психиатром, состоит в том, вменяем ли испытуемый, то есть можно ли применить при разборе того нарушения закона, которое он совершил, категорию вины… правильно решить этот вопрос можно только в том случае, если соблюдены два обязательных условия: если доказано, что испытуемый в самом деле нарушил закон; если есть возможность принять решение строго индивидуально» и индивидуализировано по отношению к состоянию и особенностям подэкспертного. «И первое, и второе условие в практике советской судебно-психиатрической экспертизы нарушалось».
Мне кажется, что эта объемная цитата совсем не лишняя. Когда в работе над проектом «Диссиденты» мы анализировали случаи злоупотребления (и, естественно, их причины) психиатрическим диагнозом в политических целях, этот вывод напрашивался сам собой.
Вина, болезнь, наказание. Индивидуальная мера вины, соразмерность наказания и ответственность. Индивидуальная норма и психические отклонения. Это далеко не полный ряд вопросов, объективные ответы на которые не могут быть даны без психологии, т. е. без наполнения психологическим содержанием категорий юридической и медицинских наук, которые тесно соприкасаются друг с другом в проблеме судебных экспертных оценок при определении медико-социального и правового статуса личности.
Временами (не высказанная, но явно ощущаемая) нехватка психологического знания проступает в недостаточно корректных психиатрических оценках типа «психическим заболеванием не страдает, но обнаруживает особенности характера». Звучит так, как будто особенности характера — уже признак болезненных отклонений от психической нормы. Еще пример столь же психологически некорректных формулировок, но уже из серии вопросов, которые ставятся перед судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизой: «Имеются ли у обвиняемого какие-либо индивидуальные особенности?». Как будто бывают люди без индивидуальных особенностей! Справедливости ради следует отметить, что и некоторые психологи вряд ли отдают себе отчет в том, что делают непозволительную для их профессионального звания грубейшую ошибку, когда на вопрос такого рода отвечают: «Обвиняемый не имеет каких-либо индивидуальных особенностей, которые могли повлиять на его поведение».
Встречаясь в своей работе с такими диагнозами, с такими вопросами и с такими ответами, мало сказать, что крайне неприятно удивляешься. Возмущение долго не дает успокоиться. Потом становится просто очень горько от сознания того, что люди, в силу своей профессии, или, как говорится, по определению обязанные учитывать человеческий (индивидуальный) фактор, игнорируют его или не умеют справиться с такой повседневной для их профессионального труда задачей. Впрочем, это закономерно для сегодняшнего уровня психологической культуры и психологической подготовки специалистов: как тех, которые назначают и проводят психиатрические и психологические экспертизы, так и тех, которые учитывают их результаты в суде. Однако эта тема — предмет отдельного разговора. Тема очень серьезная и опять же с очень болезненными последствиями для Homo Individualis — человека индивидуального.
Между тем, психологические особенности «инакомыслящих» не всегда оставались без внимания. Ими активно интересовались стражи государственной безопасности. Если не «сомнения» в психическом здоровье диссидента, не подтвержденные когда-то уже проводимой в отношении него (и тоже по политическим мотивам) судебно-психиатрической экспертизой, то хотя бы черты его характера, отраженные в ее тексте, могли послужить поводом к тому, чтобы проблемная для государства, т. е. по тем временам политически небезопасная личность (как часто оказывалось, более проблемная для себя и не столько политически, сколько психологически), была направлена следствием на повторную судебно-психиатрическую экспертизу.
Во время работы над проектом «Диссиденты» в архивных материалах (акт судебно-психиатрической экспертизы на обвиняемого по ст. 62, ч. 1 УК УССР — распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй) нашлось постановление следователя УКГБ УССР по г. Киеву и Киевской области, завизированное его вышестоящим начальством, со следующей мотивировкой назначения судебно-психиатрической экспертизы: «В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении Я.В.И. (фамилия, имя, отчество — Н.А.) отрицает, на допросах ведет себя неискренне. Ранее Я.В.И. подвергался…судебно-психиатрической экспертизе… был признан вменяемым. В настоящее время в поведении Я.В.И. отмечается фиксация внимания на своем внутреннем мире, переоценка собственной личности. На основании изложенного… для установления психического состояния Я.В.И. назначить судебно-психиатрическую экспертизу…».
К настоящему времени (т. е. ко времени назначения второй судебно-психиатрической экспертизы) фраза, начинающаяся со слов «В настоящее время…», никакого отношения не имела. Ее просто позаимствовали из акта (трехлетней давности!) прежней судебно-психиатрической экспертизы. Тогда обвиняемый привлекался к уголовной ответственности по ст. 194 УК УССР (предоставление подложного документа и получение оплачиваемого отпуска) со следующей (малоубедительной) мотивировкой назначения судебно-психиатрического освидетельствования: «При допросе Я.В.И. возникло сомнение в том, что у него нормальное здоровое состояние психики, а поэтому он нуждается в судебно-психиатрическом обследовании». Инкриминируемые ему действия и статья обвинения, как выяснилось позже, маскировали политические мотивы попыток «приобщить» его к психиатрии или как бы намекали и предупреждали о необходимости незамедлительно изменить свое поведение и отказаться от намерений покинуть СССР.
Показавшиеся следователю «странными» сосредоточенность Я.В.И. на своем внутреннем мире и переоценивание собственной личности были, что явствовало из текста экспертного заключения, далеко не единственными признаками, которые характеризовали его индивидуальные особенности. Среди таких признаков, например, отмечались следующие: «свободно оперирует абстрактными понятиями»; «к исследованию относится с интересом»; «проявляет активное внимание к тестовым вопросам методик диагностики личностных особенностей, охотно анализирует их в совместном обсуждении, соотносит их содержание с присущими ему поступками, индивидуальными особенностями, своим образом жизни»; «внешне стремится проявить удовлетворенность собой, нивелируя внутреннюю напряженность и неуверенность с помощью психологически защитного поведения по типу избегания критического самооценивания с некоторой переоценкой собственной личности». Заметим, что с точки зрения психического здоровья, в наличии которого психиатры ему не отказывали, разница между «некоторой переоценкой личности» и «переоценкой личности» несущественна, но фраза, вырванная из контекста, всегда может иметь тот смысл, который ей хотят придать. Чтобы найти такую фразу, следствие проявило высокопрофессиональную избирательность внимания.
Но и Я.В.И. не отступил от своей цели. Сейчас он с семьей живет в Америке, работает и, по рассказам друзей, уровень его притязаний вполне удовлетворен. Возможно, поэтому в его поведении психологические защиты будут проявляться реже. Если, конечно, он также удовлетворен и тем, что его «шизоидные ассоциации, без которых не было бы гениев» оцениваются не только им, но и окружающими как «оригинальные идеи», а ему самому хватает профессионализма, чтобы их реализовывать.
Психиатрический «компромат» использовался не только по отношению к «инакомыслящим» диссидентам. Дьявольская «удачная» находка — манипуляция психиатрическим диагнозом — могла, как политический шлагбаум, преградить путь сотрудникам системы правопорядка, если решение профессиональных задач, служебный долг и профессиональную честь кто-то из них представлял иначе, не так, как предписывалось сверху.
Такие истории стали всплывать, когда психиатрии пришлось реабилитировать себя из-за собственных и политически навязанных ей злоупотреблений диагнозом. Еще до создания независимой Ассоциации психиатров Украины, примерно в начале 1991 г., инициативная группа киевских психиатров организовала работу консультативно-экспертного совета по психиатрии при главном психиатре Министерства здравоохранения УССР. Царившая тогда, активно и пассивно созданная, психиатрическая диагностическая неразбериха заставляла людей обращаться в Совет за помощью, и они рассказывали…
Для одного из посетителей, пытавшегося преодолеть препятствия на пути борьбы с преступностью, это закончилось серьезным служебным конфликтом и направлением на медицинское освидетельствование с участием психиатра из-за того, что он, как было сказано в документе, «несмотря на умение оперативно выполнять поставленные перед ним задачи, в последнее время стал обнаруживать изменения в характере: вспыльчив, позволяет себе высказывать самостоятельное мнение». Когда уволить правдоискателя по служебному несоответствию и по состоянию здоровья «через психиатрию» не удалось, а желания добраться до коррумпированных небожителей у него (несмотря на разнообразные многочисленные намеки быть разумным и оставить свои намерения) не поубавилось, была применена очередная мера воздействия: фабрикация статьи уголовного обвинения.
Находясь под следствием, он был уволен из системы внутренних дел, а тогдашнюю психологически понятную утрату равновесия, т. е. стрессогенный эмоциональный срыв, очень быстро соединили с упомянутыми выше «изменениями в характере». В итоге диагноз: «Шизофрения, параноидная форма». Вскоре после этого уголовное дело прекратили по отсутствию события и состава преступления. Психиатрический диагноз остался {«В зоне, как обещали, не сгноили. Спасибо, что не убили, но сумасшедшим все же сделали. Осталось писать мемуары, но кто поверит бреду сумасшедшего о мафии советского периода?!»)
И хотя психическая полноценность автора будущих мемуаров все же была удостоверена, однако к их написанию он еще долго, наверно, не приступит, так как не исключено, что его служебный сейф пополняют материалы о мафии современного, постсоветского, периода.
Сложившаяся государственная система давила не только тех, кто ее якобы разрушал, распространяя сведения, порочащие государственный строй. Она давила и тех, кто действительно охранял ее безопасность, загоняя людей в тупик неразрешимых нравственных противоречий. Как-то мне доверили сокровенное: «Я разочаровался в жизни. Я плакал, когда понял, кто есть кто, и во имя чьих интересов я боролся совсем не с теми преступниками». Для некоторых оставался только один выход из нравственного тупика — самоубийство.
Человек, полностью (и рационально, и эмоционально) идентифицирующий себя с кем-либо или с чем-либо, не выдерживает, когда подвергается критике или терпит крах предмет его идентификации. Например, система, которой он беззаветно служил, не догадываясь о порочных сторонах ее политики. В силу этого человек может вынести себе смертный приговор, так как считает себя виновным в преступных действиях организации, которой отдал всю жизнь, не осознавая страшного смысла своего дела, и привести этот приговор в исполнение.
Объяснять такие суициды низкой стрессоустойчивостью или психическим заболеванием нелепо. Самоубийство, имеющее нравственную основу — это один из видов надситуативной активности, которой руководит совесть и которая свидетельствует о том, что моральную ответственность за происходившее человек возлагает на себя…
Злоупотребление психиатрией в политических целях — явление масштабное, проблемное и очень разнообразное в своей конкретике… Психологические аспекты — лишь малая его часть. Но особенности даже этой малой части можно перечислять очень долго. Их трудно разделить на главные и второстепенные: пожалуй, любая и каждая частность будет главной, так как непосредственно соприкасается с уникальным феноменом — с жизнью человека, с его судьбой.
Если смириться с тем, что проблема борьбы добра со злом является вечной для человека, хочется сказать, что на наш век этой вечной проблемы, то есть ее психиатрической метаморфозы, хватило с избытком. Очень хочется надеяться, что, благодаря общим усилиям, бесследно растворившись в вечности, в будущем она вновь не возникнет.