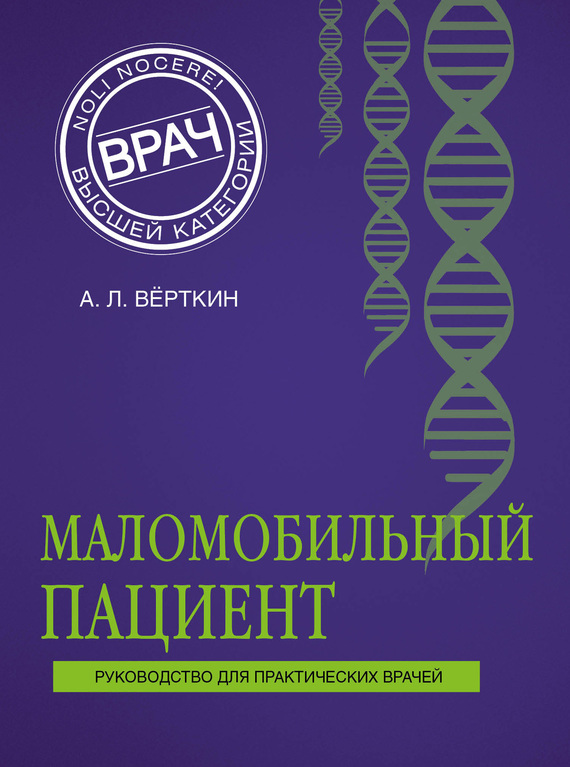5. Неуниверсальные способы обоснования
Неуниверсальная аргументация эффективна лишь в некоторых, но не всех аудиториях. Ее эффективность зависит от ситуации, или контекста, поэтому ее можно назвать также ситуативной или контекстуальной. Неуниверсальные способы аргументации охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.
Универсальная аргументация иногда характеризуется как «рациональная», а неуниверсальная — как «нерациональная» или даже как «иррациональная». Такое различение не является, конечно, оправданным. Оно резко сужает сферу «рационального», исключая из нее большую часть гуманитарных и практических рассуждений, немыслимых без использования «классики» (авторитетов), продолжения традиции, апелляции к здравому смыслу, вкусу и т. п. Неуниверсальная аргументация должна быть принята как необходимый составной элемент рациональной аргументации. Этого требует правильное понимание той конечности, которая господствует над человеческим бытием и историческим сознанием: человек погружен в историю, особенности его мышления и сам горизонт его мышления определяются эпохой. Каждый конкретный человек живет в своем настоящем, которое определяется не только универсальными закономерностями, но и своими собственными традициями, авторитетами, здравым смыслом, вкусом и т. д.
Особую роль контекстуальное обоснование играет в социально-гуманитарных науках. Причина этого — включенность данных наук в человеческую историю, особая роль в них понятия «настоящего».
Размышление о том, чем является истина в науках о духе, пишет современный немецкий философ Х. — Г. Гадамер о рациональности контекстуального обоснования, не должно стремиться к мыслительному выделению самого себя из исторического предания, связанность которым сделалась для него очевидной. Такое размышление должно, следовательно, поставить себе самому требование, добиться от себя наиболее возможной исторической ясности своих собственных посылок. Оно должно ясно сознавать, что его собственное понимание и истолкование не является чистым построением из принципов, но продолжением и развитием издалека идущего свершения. Оно не может поэтому просто и безотчетно пользоваться своими понятиями, но должно воспринять то, что дошло до него из их первоначального значения.
В случае контекстуальных способов обоснования речь нужно вести, однако, не столько о «науках о духе» (науках о культуре), как это делает Гадамер, сколько о науках, истолковывающих мир не как бытие (постоянное повторение одного и того же), а как становление, т. е непрерывное возникновение чего-то нового. Именно в последних науках всегда фигурирует «настоящее», от которого исследователь не в состоянии избавиться. Как раз они учитывают «стрелу времени», делающую контекстуальные аргументы необходимой составной частью всякого процесса обоснования. Что касается наук о культуре, то контекстуальное обоснование необходимо в них потому, что они предполагают не только «стрелу времени», но и оценки.
Традиция
Из всех контекстуальных аргументов наиболее употребляемым и наиболее значимым является аргумент к традиции. В сущности, все контекстуальные аргументы содержат в свернутом, имплицитном виде ссылку на традицию. Признаваемые авторитеты, интуиция, вера, здравый смысл, вкус и т. п. формируются исторической традицией и не могут существовать независимо от нее.
Традиция представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образцов, норм, правил и т. п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей.
Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее популярные традиции, как правило, не осознаются теми, кто следует им. Особенно наглядно это проявляется в так называемом «традиционном» обществе, где традициями определяются все сколько-нибудь существенные стороны социальной жизни.
Традиция является формой передачи социальных ценностей и способом воздействия прошлого на настоящее.
Взаимодействие, говорит Г. Зиммель, сплетающее индивидов в их совместном бытии, постоянно пересекается с традицией, где определенное содержание переносится одним индивидом на другого, но не вызывает его противодействия. Это превращает общество в подлинно историческое образование: оно уже не только предмет истории, но прошлое еще обладает в нем действенной реальностью, в форме общественной традиции прошедшее становится основанием для определения настоящего. «Традиция, — пишет Зиммель, — поразительное и создающее, собственно говоря, всю культуру и духовную жизнь человечества явление, посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя — даже если этот продукт чисто духовен, если он состоит только в учениях, в религиозных идеях, в возможности распространения чувства или в выражениях чувства, — есть подлинное условие роста культуры. Ибо культура прежде всего создает возможность суммирования достижений человечества, ведет … к тому, что человек — не только потомок, но и наследник».
Чуткость аудитории к приводимым аргументам в значительной мере определяется теми традициями, которые она разделяет. Традиция закрепляет те наиболее общие допущения, в которые нужно верить, чтобы аргумент казался правдоподобным, создает ту предварительную установку, без которой он утрачивает свою силу.
«… Один и тот же аргумент, выражающий одно и то же отношение между понятиями и опирающийся на хорошо известные допущения, — отмечает П. Фейерабенд, — в одно время может быть признан и даже прославляться, в другое — не произвести никакого впечатления».
В качестве примера Фейерабенд приводит спор между сторонниками и противниками гипотезы Коперника. Стремление Коперника разработать такую систему мироздания, в которой каждая часть вполне соответствовала бы всем другим частям и в которой ничего нельзя было бы изменить, не разрушая целого, не могло найти отклика у тех, кто был убежден, что фундаментальные законы природы открываются нам в повседневном опыте, и кто, следовательно, рассматривал полемику между Аристотелем и Коперником как решающий аргумент против идей последнего. Из анализа индивидуальных реакций на учение Коперника следует, заключает Фейерабенд, что «аргумент становится эффективным только в том случае, если он подкреплен соответствующей предварительной установкой, и лишается силы, если такая установка отсутствует… Чисто формальных аргументов не существует».
Традиции имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. В них аккумулируется предшествующий опыт успешной деятельности и они оказываются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой проект и предписание будущего поведения. Традиции являются тем, что выражает пребывание человека в историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяем прошлое и будущее.
То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом. Все наше историческое, постоянно меняющееся и конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами.
В значительной степени благодаря обычаям и преданию существуют нравы и этические установления. Все попытки основать систему морали на одном разуме, остаются абстрактными. Философы, начиная с Декарта, много раз обращались к проблеме рационально обоснованной системы морали, но, в сущности, ничего не достигли.
Безусловной противоположности между традицией и разумом не существует. Традиция завоевывает свое признание, опираясь, прежде всего, на познание и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающем критического обсуждения. Традиция — это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории.
У каждой традиции имеются свои способы привлечения сторонников. Традиция действительно способна усиливать или ослаблять значение аргументов и даже производить определенную их селекцию. В первую очередь это касается контекстуальной аргументации. Но возможности традиции являются ограниченными. Она может снизить воздействие универсальной аргументации, но не способна отменить ее полностью. Точно так же она не способна превращать любой аргумент в простую пропагандистскую уловку.
Авторитет
Аргументу к традиции близок аргумент к авторитету — ссылка на мнение или действие лица, прекрасно зарекомендовавшего себя в данной области своими суждениями или поступками. Традиция складывается стихийно и не имеет автора, авторитетом же является конкретное лицо.
Нужно различать авторитет эпистемический — авторитет знатока, специалиста в своей области, и авторитет деонтический — авторитет вышестоящего лица, имеющего право наказывать за непослушание. Мы верим прогнозу гидрометцентра потому, что считаем этот центр более сведущим в вопросах погоды, чем мы сами. Команда судна слушается своего капитана, поскольку он имеет деонтический авторитет: у него есть право наказывать за ослушание. Если судно тонет, капитан приобретает и эпистемический авторитет: команда осознает, что он самый опытный и знающий из всех членов экипажа.
Как известно, суть догматизма в стремлении всегда идти от затверженной доктрины к реальности, к практике и ни в коем случае не в обратном направлении. Догматик не способен заметить несовпадения идеи с изменившимися обстоятельствами. Он не останавливается даже перед тем, чтобы препарировать последние так, чтобы они оказались — или хотя бы казались — соответствующими идее.
Порождением и продолжением догматизма является авторитарное мышление. Оно усиливает и конкретизирует догматизм за счет поиска и комбинирования цитат, высказываний, изречений, принадлежащих признанным авторитетам. При этом последние канонизируются, превращаются в кумиров, не способных ошибаться и гарантирующих от ошибок тех, кто следует за ними.
Мышления беспредпосылочного, опирающегося только на себя, не существует. Всякое мышление исходит из определенных, явных или неявных, анализируемых или принимаемых без анализа предпосылок, ибо оно всегда опирается на прошлый опыт и его осмысление. Но предпосылочность теоретического мышления и его авторитарность не тождественны. Авторитарность — это особый, крайний, так сказать, вырожденный случай предпосылочности, когда функцию самого исследования и размышления пытаются почти полностью переложить на авторитет.
Авторитарное мышление еще до начала изучения конкретных проблем ограничивает себя определенной совокупностью «основополагающих» утверждений, тем образцом, который определяет основную линию исследования и во многом задает его результат. Изначальный образец не подлежит никакому сомнению и никакой модификации, во всяком случае в своей основе. Предполагается, что он содержит в зародыше решение каждой возникающей проблемы, или по крайней мере ключ к такому решению. Система идей, принимаемых в качестве образца, считается внутренне последовательной. Если образцов несколько, они признаются вполне согласующимися друг с другом.
Если все основное уже сказано авторитетом, на долю его последователя остается лишь интерпретация и комментарий известного. Мышление, плетущееся по проложенной другими колее, лишено творческого импульса не открывает новых путей.
Разумеется, авторитеты нужны, в том числе в теоретической сфере. Возможности отдельного человека ограничены, далеко не все они в состоянии самостоятельно проанализировать и проверить. Во многом он вынужден полагаться на мнения и суждения других.
Но полагаться следует не потому, что это сказано «тем-то», а потому, что сказанное представляется правильным. Слепая вера во всегдашнюю правоту авторитета, а тем более суеверное преклонение перед ним — плохо совместимы с поисками истины, добра и красоты, требующими непредвзятого, критичного ума. Как говорил Б. Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе».
Авторитарное мышление осуждается едва ли не всеми. И тем не менее такое «зашоренное мышление» далеко не редкость. Причин этому несколько. Одна из них уже упоминалась: человек не способен не только жить, но и мыслить в одиночку. Он остается «общественным существом» и в сфере мышления: рассуждения каждого индивида опираются на открытия и опыт других людей. Нередко бывает трудно уловить ту грань, где критическое, взвешенное восприятие переходит в неоправданное доверие к написанному и сказанному другими.
Американский предприниматель и организатор производства Г. Форд как-то заметил: «Для большинства людей наказанием является необходимость мыслить». Вряд ли это справедливо в отношении большинства, но определенно есть люди, больше склонные положиться на чужое мнение, чем искать самостоятельное решение. Намного легче плыть по течению, чем пытаться грести против него.
Некий дофин Франции никак не мог понять из объяснении своего преподавателя, почему сумма углов треугольника равна двум прямым углам. Наконец преподаватель воскликнул: «Я клянусь Вам, Ваше высочество, что она им равна!» «Почему же Вы мне сразу не объяснили столь убедительно?» — спросил дофин.
«Мы все ленивы и не любопытны», — сказал поэт, имея в виду, наверное, и нередкое нежелание размышлять самостоятельно. Случай с дофином, больше доверяющим клятве, чем геометрическому доказательству, — концентрированное выражение «лени и не любопытства», которые, случается, склоняют к пассивному следованию за авторитетом.
Однажды норвежская полиция, обеспокоенная распространением самодельных лекарств, поместила в газете объявление о недопустимости использовать лекарство, имеющее следующую рекламу: «Новое лекарственное средство Луризм-300х: спасает от облысения, излечивает все хронические болезни, экономит бензин, делает ткань пуленепробиваемой. Цена — всего 15 крон». Обещания, раздаваемые этой рекламой, абсурдны, к тому же слово «луризм» на местном жаргоне означало «недоумок». И тем не менее газета, опубликовавшая объявление, в ближайшие дни получила триста запросов на это лекарство с приложением нужной суммы.
Определенную роль в таком неожиданном повороте событий сыграли, конечно, вера и надежда на чудо, свойственные даже современному человеку, а также и характерное для многих доверие к авторитету печатного слова. Раз напечатано, значит верно, — такова одна из предпосылок авторитарного мышления. А ведь стоит только представить, сколько всякого рода небылиц и несуразностей печаталось в прошлом, чтобы не смотреть на напечатанное некритично.
Проблема авторитета сложна, у нее много аспектов. Здесь затронута только одна ее сторона — использование мнений, считаемых достаточно авторитетными, для целей обоснования новых положений. Закончить же этот раздел лучше всего, пожалуй, цитатой из «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева. Она убедительно говорит о том, как в молодости важно иметь наставника и каким должен быть подлинный авторитет: «Авторитет авторитету — рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он богат или важен, или очень большой чин имел; это обаяние на нас не действовало — напротив… Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был вождь, и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойственен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице-наставнике… Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее добиться надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а начать это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя».
Интуиция
Интуицию обычно определяют как прямое усмотрение истины, постижение ее без всякого рассуждения и доказательства. Для интуиции типичны неожиданность, невероятность, непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути.
Интуитивное обоснование представляет собой ссылку на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого положения.
Интуитивное обоснование в чистом виде является редкостью. В «непосредственном схватывании», внезапном озарении и прозрении много неясного и спорного. Философ науки М. Бунге говорит даже, что «интуиция — это коллекция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых мы не знаем, как их проанализировать, или даже как точно их назвать, либо такие, анализ которых нас не интересует. Поэтому, как правило, для результата, найденного интуитивно, задним числом подыскиваются основания, кажущиеся более убедительными, чем простая ссылка на интуитивную очевидность.
Тем не менее интуиция существует и играет заметную роль в познании. Далеко не всегда процесс научного постижения мира осуществляется в развернутом, расчлененном на этапы виде. Нередко человек охватывает мыслью сложную ситуацию, не отдавая отчета во всех ее деталях, да и просто не обращая внимания на них. Особенно наглядно это проявляется в принятии новых научных теорий, в военных сражениях, при постановке диагноза, при установлении виновности и невиновности и т. п.
Роль интуиции и, соответственно, интуитивной аргументации в математике и логике трудно переоценить. Существенное значение имеет интуиция в социальном и гуманитарном познании.
Слово «интуиция» вошло в философию в качестве аналога древнегреческого термина, означающего познание предмета не по частям, а сразу, одним движением. В позднее средневековье интуиция означала по преимуществу познание того, что конкретно и единично, в противовес абстрактному познанию.
Некоторые средневековые философы противопоставляли интуицию и обычное мышления. Интуиция — это якобы божественный способ познания чего-нибудь одним лишь взглядом, в один миг, вне времени. Обычное же мышление — человеческий способ познания, состоящий в том, что в ходе некоторого рассуждения последовательно, шаг за шагом развертывается обоснование.
Голландским математиком Л. Э. Я. Брауэром в начале прошлого века была выдвинута интересная концепция интуиционизма. Математика, по Брауэру, — это деятельность мысленного конструирования математических объектов на основе чистой интуиции времени. Математика — автономный, находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она совершенно свободна от языка. Слова используются в математике лишь для передачи открытых истин. Последние не зависят от словесного одеяния, в которое их облекает язык, и не могут быть полностью выражены даже на особом математическом языке.
Общим для всех истолкований интуиции является признание непосредственного характера интуитивного знания — оно представляет собой знание без осознания путей и условий его получения.
Существует давняя традиция противопоставлять интуицию логике. Нередко интуиция ставится выше логики даже в математике, где роль строгих доказательств особенно велика.
Чтобы усовершенствовать метод в математике, говорил немецкий философ А. Шопенгауэр, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превыше интуитивного знания. Паскаль проводил различие между «духом геометрии» и «духом проницательности». Первый выражает силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений, второй — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке «дух проницательности» независим от логики и стоит неизмеримо выше ее. Еще раньше некоторые математики утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику, подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны.
Вряд ли такое неумеренное возвеличение интуиции в ущерб строгому логическому доказательству оправдано. Ближе к истине был, скорее, великий французский математик А. Пуанкаре, считавший, что логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, способная дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.
Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплетаются, поддерживая и дополняя друг друга. Доказательство санкционирует и узаконивает завоевания интуиции оно сводит к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми всегда чревато интуитивное озарение.
Логика, по выражению математика Г. Вейля, — это своего рода гигиена, позволяющая сохранять идеи здоровыми и сильными. Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, пишет другой математик М. Клайн, то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям с множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции.
Уточняя и закрепляя завоевания интуиции, логика вместе с тем сама обращается к ней в поисках поддержки и помощи. Логические принципы не являются чем-то заданным раз и навсегда. Они формируются в многовековой практике познания и преобразования мира и представляют собой очищение и систематизацию стихийно складывающихся «мыслительных привычек». Вырастая из аморфной и изменчивой дологической интуиции, из непосредственного, хотя и неясного «видения логического», эти принципы всегда остаются интимно связанными с изначальным, интуитивным «чувством логического». Не случайно строгое доказательство ничего не значит даже для математика, если результат остается непонятным ему интуитивно. Как заметил математик Л. Лебег, логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство.
Логику и интуицию не следует, таким образом, направлять друг против друга. Каждая из них необходима на своем месте и в свое время. Внезапное интуитивное озарение способно открыть истины, вряд ли доступные строгому логическому рассуждению. Однако ссылка на интуицию не может служить твердым и тем более окончательным основанием для принятия каких-то утверждений. Интуиция дает интересные новые идеи, но нередко порождает также ошибки, вводит в заблуждение. Интуитивные догадки субъективны и неустойчивы, они нуждаются в логическом обосновании. Чтобы убедить в интуитивно схваченной истине не только других, но и самого себя, требуется развернутое рассуждение, доказательство.
С интуицией связан ряд явно ошибочных идей. Такова, в частности, идея, что без интуиции, во всяком случае, без интуиции интеллектуальной, можно обойтись. Человек способен познавать, только рассуждая, выводя заключения, и не может что-то знать непосредственно. Хорошими контрпримерами этому убеждению являются математика и логика, опирающиеся, в конечном счете, на интеллектуальную интуицию.
Ошибочно и представление, будто интуиция лежит в основе всего нашего знания, а разум играет только вспомогательную роль. Интуиция не может заменить разум даже в тех областях, где ее роль особенно существенна. Она не является непогрешимой, ее прозрения всегда нуждаются в критической проверке и обосновании, даже если речь идет о фундаментальных видах интуиции.
Интуиция никогда не является окончательной и ее результат обязательно подлежит критическому анализу. Даже в математике интуиция не всегда ясна. Как пишет представитель интуиционизма в математике А. Гейтинг, понятие интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным. Можно даже построить нисходящую шкалу степеней очевидности. Высшую степень имеют такие утверждения, как 2 + 2 = 4. Однако 1002 + 2 = 1004 имеет более низкую степень; мы доказываем это утверждение не фактическим подсчетом, а с помощью рассуждения.
Интуиция может просто обманывать. На протяжении большей части XIX в. математики были интуитивно убеждены, что любая непрерывная функция имеет производную. Но К. Вейерштрасс доказал существование непрерывной функции, ни в одной точке не имеющей производной. Такая функция явно противоречила математической интуиции. Математическое рассуждение «исправило» интуицию и «дополнило» ее.
Интуиция меняется со временем и в значительной степени является продуктом культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении. Интуиция Эйнштейна, касающаяся пространства и времени, явно отлична от соответствующих интуиций Ньютона или Канта. Интуиция специалиста, как правило, превосходит интуицию дилетанта.
Интуитивная аргументация обычна в математике и логике, хотя и здесь она редко является эксплицитной. Вместо оборота «Интуитивно очевидно, что …» изложение ведется так, как если бы апеллирующие к интуиции утверждения выделялись сами собой, уже одним тем, что в их поддержку не приводится никаких аргументов. Кроме того ссылка на чужие или ранее полученные результаты обычно является также неявным признанием того, что в их основе лежит интуиция.
Еще более замаскирована интуитивная аргументация в других областях. Интуитивно очевидное нередко выдается за бесспорное и доказательное и не ставится в ясную связь с интуицией.
Вера
Интуиции близка вера — глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости какого-то положения или концепции.
Вера заставляет принимать какие-то положения за достоверные и доказанные без критики и обсуждения. Как и интуиция, вера субъективна. В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные воззрения. То, во что когда-то свято верили все, спустя время большинству представлялось уже наивным предрассудком.
В отличие от интуиции вера затрагивает не только разум, но и эмоции. Нередко она захватывает всю душу и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую расположенность. Интуиция же, даже когда она является наглядно содержательной, затрагивает только разум. Если интуиция — это непосредственное усмотрение истины и добра, то вера — непосредственное тяготение к тому, что представляется истиной или добром.
Вера противоположна сомнению и отлична от знания. Если человек верит в какое-либо утверждение, он считает его истинным на основании соображений, которые представляются ему достаточными.
В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают рациональную и нерациональную веру. Последняя служит оправданием самой себе: сам факт веры считается достаточным для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепой». Например, религиозная вера в чудо не требует какого-либо обоснования чуда, помимо самого акта веры в него. Рациональная вера предполагает некоторые основания для своего принятия. Ни рациональная, ни тем более нерациональная вера не гарантируют истины. Из того, что кто-то твердо верит, что на Луне тоже есть жизнь, не вытекает, что она там действительно имеется. Рациональная вера может быть названа убеждением.
Соотношение знания и веры во многом является неясным. Очевидно только, что они существенно переплетены, нередко взаимно поддерживают друг друга и разделение их и отнесение к разным, не соприкасающимся друг с другое сторонам действительности может быть только временным и условным. Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта. Предположения не становятся частью науки до тех пор, пока их кто-нибудь не выскажет и не заставит в них поверить.
Как всякое интеллектуальное действие, искреннее убеждение всегда несет в себе также эмоциональную нагрузку, пишет М. Полани. С его помощью мы стараемся уверить, убедить тех, кому мы адресуем свою речь. Нам памятны крики безумного ликования, дошедшие до нас благодаря записям Кеплера, которые он сделал в предвкушении открытия; мы знаем много других подобных проявлений в ситуациях, когда людям только казалось, что они приблизились к открытию; нам известно также с какой силой великие пионеры науки, такие как Пастер, отстаивали свои взгляды перед лицом критики. Врач, который ставит серьезный диагноз в сложном случае, или член суда, выносящий приговор в сомнительном деле, чувствуют тяжелейший груз личной ответственности. В обычных ситуациях, когда нет ни оппонентов, ни сомнений, такие страсти спят, но не отсутствуют вовсе; всякая искренняя констатация факта сопровождается чувством интеллектуального удовлетворения или стремлением постичь что-то, а также ощущением личной ответственности.
Ссылка на твердую веру, решительную убежденность в правильности какого-либо положения может использоваться в качестве аргумента в пользу принятия этого положения.
Однако аргумент к вере кажется убедительным и веским, как правило, лишь тем, кто разделяет эту веру или склоняется к ее принятию. Другим аргумент от веры может казаться субъективным или почти что пустым: верить можно и в самые нелепые утверждения.
Тем не менее, встречаются, как замечает Л. Витгенштейн, ситуации, когда аргумент к вере оказывается едва ли не единственным. Это — ситуации радикального инакомыслия, непримиримого «разноверия». Обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таком случае остается только крепко держаться за свою веру и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т. п. Там, где рассуждения и доводы бессильны, выражение твердой, неотступной убежденности может сыграть со временем какую-то роль. Если аргумент к вере заставит все-таки инакомыслящего присоединиться к противоположным убеждениям, это не будет означать, конечно, что данные убеждения по каким-то межсубъективным основаниям предпочтительнее.
Аргумент к вере только в редких случаях выступает в явном виде. Обычно он только подразумевается и только слабость или неотчетливость приводимых прямо аргументов косвенно показывает, что за их спиной стоит неявный аргумент к вере.
Средневековый комментатор Д. Картузианец так раскрывает идею, что мрак — это сокровеннейшая сущность бога: «Чем более дух близится к сверхблистающему божественному твоему свету, тем полнее обнаруживаются для него твоя неприступность и непостижимость, и когда он вступает во тьму, то вскоре и совсем исчезают все имена и все знания. Но ведь это и значит для духа узнать тебя: узреть вовсе незримого; и чем яснее зрит он сие, тем более светлым он тебя прозревает. Сподобиться стать этой сверхсветлою тьмою — о том тебя молим, о, преблагословенная Троица, и дабы через незримость и неведение узреть и познать тебя, ибо пребываешь сверх всякого облика и всякого знания. И взору тех лишь являешься, кои, все ощутимое и все постижимое и все сотворенное, равно как и себя самих, преодолев и отринув, во тьму вступили, в ней же истинно пребываешь».
Здесь только один явный аргумент, понятный средневековой аудитории — ссылка на авторитет. В Библии сказано: «И содеял мрак покровом Своим». Другим, подразумеваемым доводом является аргумент к вере: тому, кто уже верит, что бог непредставим и невыразим, могут показаться убедительными и свет, обращающийся во мрак («сверхсветлая тьма»), и отказ от всякого знания («узрение и познание через незримость и неведение»).
Иногда аргумент к вере маскируется специально, чтобы создать впечатление, будто убедительность рассуждения зависит только от него самого, а не от убеждений аудитории.
Фома Аквинский пытался строго разделить то, что может быть доказано при помощи разума, и то, что требует для своего доказательства авторитета Священного писания. Б. Рассел упрекает св. Фому в неискренности: вывод к которому тот должен прийти, определен им заранее. Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: потому что он разумнее матери; потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщины, и что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают серьезное участие в воспитании детей.
Таким образом, аргумент к вере не так редок и не так предосудителен, как это может показаться. Он встречается и в науке, особенно в периоды ее кризисов. Он неизбежен при обсуждении многих общих вопросов, таких, как скажем, вопрос о будущем человечества. Аргумент к вере обычен в общении людей, придерживающихся какой-либо общей системы веры. Как и все контекстуальные аргументы, он нуждается в определенной, сочувственно воспринимающей его аудитории. В другой аудитории он может оказаться не только неубедительным, но и попросту неуместным.
Французский социолог Э. Дюркгейм высказывал убеждение, что вся наука держится на коллективной вере, или коллективном мнении. Социальная жизнь порождает коллективное мышление, совершенно отличное по своей природе от индивидуального мышления. Коллективное мышление включает определенные коллективные взгляды, или представления. Они навязываются индивидам в качестве концептов, определяющих приемлемый для общества способ формирования знания о мире. Власть науки становится реальностью только тогда, когда этого хочет общество. Далеко не все научные положения, даже когда они построены по всем правилам науки, пользуются влиянием исключительно благодаря своей объективной ценности. Положениям недостаточно быть истинными, чтобы пользоваться доверием. Если они не находятся в согласии с другими верованиями, мнениями, словом, с совокупностью коллективных представлений, они будут отвергнуты; умы для них будут закрыты; следовательно, будет так, как если бы их не было, если сегодня, в общем, им достаточно нести на себе печать науки, чтобы пользоваться доверием, значит, мы верим в науку. Но эта вера, по существу, сродни религиозной. Ценность, придаваемая нами науке, в общем и целом зависит от коллективно вырабатываемого нами представления о ее природе и роли в жизни. Это значит, что она выражает состояние мнения. В самом деле, как и все в общественной жизни, наука держится на мнении. Мнение можно рассматривать в качестве объекта науки, к этому в основном и сводится социология. Однако наука о мнении не создает мнения, она может лишь его прояснить. На этом пути она действительно может быть причиной его изменения. Но наука продолжает зависеть от мнения и в то время, когда она, как кажется, повелевает им, — ибо мнение снабжает ее силой, необходимой для воздействия на мнение.
Дюркгейм прав, что если в каком-то обществе нет веры в науку и в эффективность ее методов, все научные доказательства теряют свою силу. Однако вера в науку только внешне напоминает религиозную веру. Вера в существование особого небесного мира основывается на совершенно ином фундаменте, чем вера в науку. Научные способы обоснования инородны для религии. Наука, в отличие от религии, ориентируется на истину и объективность. Если в некотором обществе ослабевает или вообще исчезает вера в науку, установленные ею результаты тем не менее сохраняют свое значение, хотя и не в этом обществе. Отсутствие веры в науку способно ослабить или даже лишить силы научную аргументацию, но наука держится вовсе не на коллективной вере в нее. Аргумент к вере, центральный в религии, в науке всегда имеет вспомогательный и преходящий характер. Аргумент к коллективной вере саму науку вообще может быть элективным, пожалуй, только за пределами научного сообщества.
Аргумент к вере был в свое время основательно скомпрометирован противопоставлением веры и, прежде всего, религиозной веры, разуму, тем, что «конкретная реальность» веры ставилась выше «абстрактным истин умозрения».
«Верую, чтобы понимать», — заявляли в средние века Августин и Ансельм Кентерберийский. Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью ее с разумом: легко верить в то, что подтверждается и рассуждением; но нужна особенно сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только вера способна заставить, по Тертуллиану принять логически недоказуемое и нелепое: «Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Но уже в начале XII в. философ и теолог П. Абеляр поставил разум и опирающееся на него понимание перед верой. Выдвинутая им максима «Понимаю, чтобы верить» — ключ к истолкованию соотношения разума и веры.
Бездоказательная вера является антиподом знания, к которому она обычно относится с недоверием, а то и с неприязнью. Отстаивающие такую веру усматривают ее преимущество в том, что она крепка и активна, ибо идет из глубин души, охватывает и выражает ее всю, в то время как теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустойчив. Но этот довод малоубедителен. Прежде всего, самые надежные истины, подобные истинам математики и физики, открываются именно разумом, а не верой; не следует, далее, путать веру, требующую, скажем признания чудес, с верой как глубокой убежденностью, являющейся следствием исторического или жизненного опыта.
Аргумент к вере достаточно обычен в естественнонаучных теориях в период их зарождения и укрепления. Однако, как только находят более надежные основания, чем вера, они легко расстаются с апелляцией к вере. Сложнее обстоит дело в случае социальных теорий, особенно тех теорий, которые касаются острых проблем социальной жизни. Объем и формы равенства людей, их свободы, необходимые в конкретном обществе формы справедливости, способы распределения богатства, степень эксплуатации одними людьми других и т. п. — все это те проблемы, которые даже в случае, казалось бы, хорошо обоснованных социальных концепций во многом остаются предметом веры.
Здравый смысл
Здравый смысл можно примерным способом охарактеризовать как общее, присущее каждому человеку чувство истины к справедливости, приобретаемое с жизненным опытом.
Здравый смысл в основе своей не столько знание, сколько способ отбора знания, то общее освещение, благодаря которому в знании различаются главное и второстепенное и обрисовываются крайности.
Здравый смысл играет особую роль в социальной и гуманитарной аргументации и при обсуждении всех проблем, касающихся жизни и деятельности человека.
Аргумент к здравому смыслу — это обращение с целью поддержки выдвигаемого положения к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории.
Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противопоставления мудрости («софии») и практического знания («фронесис»). Это противопоставление было теоретически разработано Аристотелем и развито его последователями до уровня критики теоретического жизненного идеала.
Практическое знание, руководящее поступками человека, — это особый, самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную ситуацию и требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь не строится, исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого смысла.
В схоластике, например, у Ф. Аквинского, здравый смысл — это общая основа внешних чувств, а также опирающейся на них способности судить о данном, присущей всем людям.
Важную роль отводил здравому смыслу Д. Вико, истолковывавший его как общее чувство истины и права. На этом чувстве Вико основывал значение красноречия и его право на самостоятельность. Воспитание не может идти путем критического исследования и нуждается в образах для развития фантазии. Изучение наук не способно дать этого и нуждается в дополнении искусством находить аргументы. Это искусство служит для развития чувства убежденности, функционирующего инстинктивно и мгновенно и не заменяемого наукой. Здравый смысл, по Вико, — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но в еще большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. Здравый смысл направлен против теоретических спекуляций философов и определяет своеобразие исследования в социальных и гуманитарных науках. Их предмет — моральное и историческое существование человека, обнаруживающееся в его деяниях. Само это существование решающим образом определяется здравым смыслом.
Моральные мотивы в понятии здравого смысла подчеркивал А. Бергсон. В его определении указывается, что, хотя здравый смысл и связан и чувствами, но реализуется на социальном уровне. Чувства ставят нас в какое-то отношение к вещам, здравый смысл руководит отношениями с людьми. Он не столько дар, сколько постоянная корректировка вечно новых ситуаций, работа по приспособлению к действительности общих принципов.
Существенное значение придает здравому смыслу современная философская герменевтика, выступающая против его интеллектуализации и сведения его до уровня простой поправки: то, что в чувствах, суждениях и выводах противоречит здравому смыслу, не может быть правильным.
Здравый смысл — одно из ведущих начал человеческой жизни. Она разворачивается не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под решающим воздействием здравого смысла. Именно поэтому он необходим представителям социальных и гуманитарных наук, исследующим моральное и историческое существование человека.
Здравый смысл проявляется в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом.
Обладатель здравого суждения не просто способен определять особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно относится, то есть видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее не является носителем здравого суждения в полном смысле слова.
Приложим здравый смысл, прежде всего, в общественных, практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания разума, а скорее на убедительные примеры. Поэтому решающее значение для него имеет история и опыт жизни.
Здравому смыслу нельзя выучить, в нем можно только упражняться. Он имеет двойственный, описательно-оценочный характер: с одной стороны, опирается на прошлые события, а с другой, является наброском, проектом будущего.
С изменением общественной жизни и человека меняется и здравый смысл. Так в древности сны представлялись обычному человеку одним из важнейших выражений его души, материалом для предсказания будущего. В эпоху Просвещения идея о том, что сны могут быть вещими, уже казалась предрассудком: в них видели преимущественно отражение соматических факторов и избыток душевных страстей. Позднее снова начала усматриваться связь между характером человека и его сновидениями: в сновидениях отражается характер и особенно те его стороны, которые не проявляются наяву: во сне человеком осознаются скрытые мотивы его действий, и потому, толкуя сновидения, можно предсказать его будущие действия. Как говорил З. Фрейд, «сновидения — это царская дорога к бессознательному».
Здравый смысл способен впадать в заблуждение, но это, как правило, своеобразное заблуждение: оно является ошибкой не столько с точки зрения того контекста, в котором сформировался здравый смысл, сколько с точки зрения последующего периода, порождающего новые представления здравого смысла. Так обстоит, в частности, дело с пренебрежительным отношением античного и средневекового человека к науке и ученым.
«Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли, — жалуется Ф. Ницше, — тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение; ученый не допускался в общество «приличных» людей — считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым»… Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, — все было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали эти слова против нас… Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам… Все казалось совершенно недостойным, презренным… В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Скромность шла вразрез со вкусом…».
Дело здесь, конечно, не в грубом эстетическом вкусе, требующем от ученых и науки «истин-картин», а в отдаленности античной и средневековой науки от основного потока социальной жизни, в скудости результатов этой науки и их несущественности с точки зрения реальной практической деятельности. Наука должна была обнаружить себя как важное измерение повседневной жизни, чтобы здравый смысл смог изменить о ней свое мнение. Здравый смысл служит своей эпохе, и значимость его суждений не выходит за пределы этой эпохи.
Хотя здравый смысл касается в первую очередь социальной жизни, по своей природе он более универсален, так как способен судить о любой деятельности и ее результатах, включая теоретическую деятельность и ее результаты — сменяющие друг друга теории и концепции.
Однако в естественнонаучной области здравый смысл является, как правило, ненадежным советчиком: от современных естественнонаучных теорий резоннее требовать парадоксальности, разрыва с ортодоксальным, чем соответствия устоявшимся представлениям о мире. Аргумент к здравому смыслу применим здесь только на первых этапах развития научных теорий. Дальнейшее обсуждение здравого смысла и вкуса существенно опирается на эту работу. В достаточно зрелой естественнонаучной теории апелляция к здравому смыслу является редкой и ненадежной. Такие теории всегда стремятся абстрагироваться от своей истории и вынести ее за скобки. Для суждений здравого смысла, непосредственно связанных с историей и меняющихся вместе с нею, не остается тем самым места.
Вкус
Аргументация к вкусу — это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудитории и способному склонить ее к принятию выдвинутого положения.
Понятие вкуса существенно уже понятия здравого смысла. Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредственное чувство, а не на рассуждение. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и видел в нем основание своей критики способности суждения.
Понятие вкуса первоначально было моральным и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности».
Идея человека, обладающего вкусом, пришла в ХVII в. на смену христианскому идеалу придворного и была идеалом так называемого «образованного общества».
Вкус — это не только идеал, провозглашенный новым обществом, пишет Гадамер, это в первую очередь образующийся под знаком этого идеала «хороший вкус», то, что отныне отличает «хорошее общество». Оно узнается и узаконивается теперь не по рождению и рангу, а в основном благодаря общности суждений или, вернее, благодаря тому, что вообще умеет возвыситься над ограниченностью интересов и частностью пристрастий до уровня потребности в суждении.
Хороший вкус не является субъективным, он предполагает способность дистанциироваться от себя самого и групповых пристрастий.
Вкус по самой сокровенной своей сущности не есть нечто приватное. Это общественный феномен первого ранга. Он в состоянии даже выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной инстанции по имени «всеобщность», которую он представляет и мнение которой он выражает. Можно отдавать чему-то предпочтение несмотря на неприятие этого собственным вкусом.
Вкус — это не простое своеобразие подхода индивида к оцениваемому им явлению. Вкус всегда стремится к тому, чтобы стать хорошим и реализовать свое притязание на всеобщность.
Хороший вкус уверен в своем суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не оглядываясь на других и не подыскивая оснований. Вкус в чем-то приближается к чувству. Он не располагает познанием, на чем-то основанном. Если в делах вкуса что-то негативно, он не в состоянии сказать почему. Но узнает он это с величайшей уверенностью. Следовательно, уверенность вкуса — это уверенность в безвкусице. Определение вкуса состоит, прежде всего, в том, что его уязвляет все ему противоречащее, и он уходит от этого, как избегают всего, что грозит травмой.
Понятию хорошего вкуса противостоит понятие отсутствия вкуса, а не понятие плохого вкуса. Хороший вкус — это такой тип восприятия, при котором все утрированное избегается так естественно, что эта реакция, по меньшей мере, непонятна тем, у кого нет вкуса.
Широко распространено мнение, что о вкусах не спорят: приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью. Кант полагал, что в этой сфере возможен спор, но не диспут. Причину того, что в вопросах вкуса нет возможности аргументировать, Гадамер видит в непосредственности вкуса и несводимости его к каким-то другим и в особенности понятийным основаниям: это происходит не потому, что невозможно найти понятийно всеобщие масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а потому, что их даже не ищут, и ведь их невозможно правильно отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус, его невозможно преподать путем демонстрации и нельзя заменить простым подражанием.
Принцип «о вкусах не спорят» не кажется верным в своей общей формулировке. Споры о вкусах достаточно обычны, эстетика и художественная критика состоят по преимуществу из таких споров. Когда выражается сомнение в их возможности или эффективности, имеются в виду, скорее, лишь особые случаи спора, не приложимые к суждениям вкуса.
Действительно, о вкусах невозможно вести дискуссию — спор, направленный на поиски истины и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах невозможен также эклектический спор, тоже ориентирующийся на истину, но использующий и некорректные приемы. Суждения вкуса являются оценками: они определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как и всякие оценки, эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об оценках возможна полемика — спор, цель которого — победа над другой стороной и который пользуется только корректными приемами аргументации. Оценки и, в частности, суждения вкуса могут быть также предметом софистического спора, тоже ориентированного на победу, но использующего и некорректные приемы.
Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, нуждается, таким образом, в серьезной оговорке. О вкусах можно спорить, но лишь с намерением добиться победы, утверждения своей системы оценок, примем спорить не только некорректно, но и вполне корректно.
Мода
Вкус всегда претендует на общую значимость. Это особенно наглядно проявляется в феномене моды, тесно связанной со вкусом. Мода касается быстро меняющихся вещей и воплощает в себе не только вкус, но и определенный, общий для многих способ поведения.
Мода управляет лишь такими вещами, которые в равной степени могут быть такими или иными. Фактически ее составляющей является эмпирическая общность, оглядка на других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения.
Будучи формой общественной деятельности, мода создает общественную зависимость, от которой трудно уклониться. В частности, Кант считал, что лучше быть модным дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур всерьез. А. Пушкин писал: «Быть можно модным человеком и спорить о красе ногтей… К чему бесплодно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей…»
Хороший вкус характеризуется тем, что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего «стиля», то есть согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются.
Аргумент к моде является, таким образом, частным случаем аргумента к вкусу и представляет собой ссылку на согласие выдвинутого положения с господствующей в данное время модой.
Обоснование путем ссылки на соответствие моде встречается даже в науке, чаще всего в период становления новых идей и теорий. Формирующаяся теория оценивается с многих точек зрения и, в частности, — в эстетическом отношении. Теория, как и все произведения ума и рук человека, может быть «красивой» или «некрасивой». Позитивное эстетическое впечатление, производимое новой теорией, может оказываться одним из аргументов в ее поддержку.
Как и другие области человеческой жизни, наука не стоит в стороне от моды. В определенные периоды модными являются одни научные построения или их типы, в другие периоды современными, отвечающими духу времени и т. п. оказываются другие построения и их виды.
Например, в 30–40-е гг. прошлого века из всех философских концепций наиболее модным и влиятельным был неопозитивизм, в 50-е гг. — экзистенциализм, в 60-е — философская герменевтика.
Модными могут быть как определенные идеи, так и способы исследования и обоснования. Мода в науке не так заметна, однако, как в других областях и изменяется относительно медленно. Аргумент к моде, как и вообще аргумент к вкусу, только в редких случаях предстает здесь в открытой форме.
Мода — явление социальное и она проявляется в каждом обществе по-своему. Все общества и цивилизации движутся между двумя постоянными полюсами: индивидуалистическим устройством общества и коллективистическим его устройством. Общества, ориентирующиеся на полюс индивидуализма, не ставят перед собой никакой глобальной цели и предоставляют широкую автономию своим индивидам. Общества, движущиеся к полюсу коллективизма, выдвигают такую цель и требуют от своих граждан максимальных усилий для ее реализации. Примерами индивидуалистических обществ могут служить древнегреческие античные демократии и современные западноевропейское и американское общества; коллективистическими являлись средневековое общество и существовавшие в прошлом веке коммунистическое и национал-социалистическое общества. Мода существует во всяком обществе, но в индивидуалистическом и коллективистическом обществе она проявляется по-разному. Иногда говорят, что мода — феномен только индивидуалистического общества, но это не так. В сдержанных формах мода проявляется и в коллективистическом обществе.
Такое общество стремится унифицировать не только мысли, чувства и поступки людей, но и их вкусы и даже внешний вид. Для него почти чуждо понятие вкуса, разделяющее людей на тех, кто обладает хорошим вкусом, и тех, кто его не имеет. Мода, вовлекающая людей в постоянную погоню за ее веяниями и выделяющая тех, кто модно одет, причесан и т. д., из всей остальной массы, тоже почти незаметна в коллективистическом обществе. Его индивид, как правило, не стремится отличаться ни особо отточенным вкусом, ни своим следованием капризной моде.
Социальные императивы вкуса и моды существуют в этом обществе в чрезвычайно ослабленной форме.
В своих мечтаниях некоторые социалисты-утописты шли еще дальше: они хотели, чтобы не только вкусы и одежда всех людей были одинаковыми, а чтобы даже их лица не имели существенных различий. В частности, Л. М. Дешан, описывая будущее социалистическое общество, высказывал пожелание, чтобы «почти все лица имели бы почти один и тот же вид». Сходную идею выражает в подготовительных материалах Ф. М. Достоевского к роману «Бесы» один из его героев (социалист Нечаев, в романе названный Петром Верховенским): «По-моему, даже красивые очень лицом мужчины или женщины не должны быть допускаемы». Эту мысль Достоевский почерпнул из идеологии современных ему нигилистических и социалистических движений. Реальные коллективистические общества, к счастью, воздерживались от такой далеко идущей унификации своих индивидов, хотя коммунизм и стремился к единообразию их тел, достигаемому благодаря физкультуре и здоровому образу жизни, а нацизм — даже к сходству их лиц, являющемуся естественным результатом борьбы за «расовую чистоту».
Активное проявление феноменов вкуса и моды в жизни коллективистического общества свидетельствует о начинающихся в его недрах брожении и разложении.
Вкус и мода постоянно взаимодействуют. Человек, обладающий хорошим вкусом, умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. «Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего „стиля“, т. е. согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются». В стабильном коллективистическом обществе представления о вкусе и моде неразвиты и вкус слабо корректирует моду, приспосабливая ее к требованиям индивидуальности. В прошлом веке в коммунистических странах, когда стала обнаруживаться их очевидная слабость и в их жизнь начала активно вторгаться мода, большинство тех, кто стал одеваться «по моде», оказались одеты совершенно одинаково.
Средневековое общество является умеренно коллективистическим, в нем сохраняются имущественные различия и важные различия в статусе. В силу этого единообразие вкусов и стандартизация моды не проявляются в нем с той отчетливостью, с какой они выступают в жизни коммунистического общества. Тем не менее и в средние века излишества и разнообразие в одежде строго осуждаются как нечто греховное.
В коммунистическом обществе нет сословий, различие между которыми должна была бы подчеркивать мода, и в нем царит гораздо большее однообразие одежды, чем в средние века. Кроме того, большинство его членов чрезвычайно бедны, им зачастую просто не до моды. Если у кого-то и появится возможность следовать моде, он не рискнет этого сделать: в условиях всеобщей бедности это будет несомненным вызовом. Но, что важнее, сама атмосфера этого общества отвращает от моды, расцениваемой как «буржуазное понятие» и несовместимой с основными ценностями, прокламируемыми обществом. Даже коммунистическая номенклатура, чувствующая необходимость отграничения от всех остальных граждан, никогда не прибегает к дорогой, и тем более модной одежде. Представители номенклатуры одеваются иначе, чем все иные, но опять-таки чрезвычайно однообразно: добротно, но без всякой претензии на роскошь. Обычно они конструируют себе нечто полувоенное: френчи, кителя, военного образца фуражки, пальто, похожие на шинели, и т. п. Эта одежда должна подчеркнуть, что они относятся к особой касте, главная черта которой — строгая, может быть, даже не в пример армейской, дисциплина.
Однообразие, царящее в одежде коммунистического общества, и связь этого однообразия с идеологией данного общества хорошо показывает А. А. Зиновьев. В его романе «Зияющие высоты» описывается жизнь вымышленной страны со столицей в городе Ибанск. Эта страна строит «изм» — совершенный во всех отношениях социальный строй, подобный строившемуся в России коммунизму: «Во времена Хозяина (Сталина) был установлен единый общеибанский стандарт штанов. Один тип штанов на все возрасты и росты. На все полности и должности. Широкие в поясе, в коленях и внизу. С мотней до колен. С четко обозначенной ширинкой и карманами до пят. Идеологически выдержанные штаны. По этим штанам ибанцев безошибочно узнавали во всем мире. И сейчас еще на улицах Ибанска можно увидеть эти живые памятники славной эпохи Хозяина. Их демонстративно донашивают пенсионеры — соратники Хозяина. Донашивают ли? Однажды Журналист спросил обладателя таких штанов, как он ухитрился их сохранить до сих пор. Пенсионер потребовал предъявить документ. Потом сказал, что он эти штаны сшил совсем недавно. Когда Журналист уходил, пенсионер прошипел ему вслед: мерзавцы, к стенке давно вас не ставили». История создания всеибанского типа штанов — это, конечно же, замечает Зиновьев, история ожесточенной борьбы с уклонами в партии и борьбы с классовыми врагами. «Левые уклонисты хотели сделать штаны шире в поясе, а мотню спереди опустить до пят. Они рассчитывали построить полный изм в ближайшие полгода и накормить изголодавшихся трудящихся до отвала. Своевременно выступил Хозяин и поправил их… Левых уклонистов ликвидировали правые уклонисты. Те, напротив, хотели расширить штаны в коленках и ликвидировать ширинку. Они не верили в творческие потенции масс и все надежды возложили на буржуазию. Опять своевременно выступил Хозяин и поправил их… Правых уклонистов ликвидировали левые».
Появление после хрущевской «оттепели» первых отступлений от общепринятого стиля одежды — узких брюк, ярких галстуков, туфель на толстой подошве — было почти единодушно воспринято советским обществом резко отрицательно.
В 60-е гг. прошлого века ситуация начала меняться: мода и эстетика начали все более активно вторгаться в жизнь. Поверхностно это объяснялось предстоящим в ближайшие десятилетия вступлением в коммунизм, реально это было внешним проявлением ослабления коммунистического общества и его идеологии.
Слово «эстетика» перекочевало из философских трактатов в популярные издания и никого уже не шокировал заголовок «Эстетика колхозного рынка». Выяснилось, что советская женщина не всегда изящно выглядит. В популярных журналах писали: «Неприлично, когда из-под юбки торчат штаны, неприлично, когда женщина, одетая в юбку, взбирается на леса, и не только вполне прилично, но и необходимо надевать брюки женщине-строителю, крановщице, сварщице…». Не возникло еще сомнения, что женщине следует варить сталь и месить бетон, но делать это она должна изящно и эстетично.
Майор с Дальнего Востока открыл широкую дискуссию: «Достойное ли занятие для женщины — манекенщица?» Мнения разделились, но большинство уверенно отвечало: вполне, но с условием, что внешность не будет затенять суть. Советская манекенщица выступила на ЭКСПО-67, а стюардесса Аэрофлота выиграла в Монреале конкурс красоты 15 авиакомпаний. Гордясь этими победами, неизменно подчеркивали: «И все говорят не столько о белизне зубов, длине ног, объеме талии и бедер, сколько об образе советской женщины». «Переворот произошел и в цветовой гамме страны, — отмечают писатели П. Вайль и А. Генис. — Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески. Граждане одинаково, на манер Китая, наряженные в китайские же синие плащи, вдруг накрутили яркие шарфы, надели светлые пальто и вышли на пляж в пестрых ситцевых халатах. Никого уже не смущали безумные сочетания ярко-красного с ярко-зеленым: „рязанская гамма“… Яркость эпохи отразилась на лице народа буквально: в косметике. Прежде применение косметики носило корпоративный характер: красились женщины из мира искусства, или зрительницы в театре, или, наконец, женщины легкого поведения. Массовое употребление косметики стало протестом против мещанского ханжества и закреплением права на красоту в индивидуальном порядке».
Коммунизм, считавший себя «естественным» состоянием общества, не любил косметику, как и все другое, порывающее, как ему кажется, с «естественным».
В заключение можно отметить, что не только коллективистические общества, но и коллективистические сообщества, подобные армии и церкви, явственно тяготеют к единообразию в одежде. Не только военные, но и служители церкви одеваются одинаково, хотя в этом случае одежда с большей выразительностью подчеркивает различие в ранге и даже может быть богатой. Члены тоталитарной партии обычно похожи друг на друга не только своими убеждениями и поведением, но и одеждой. Корпоративная психология, господствующая в коллективистическом сообществе, диктует его членам не только исполнительность и полную лояльность сообществу, но и внешнее сходство и в первую очередь — сходство в одежде.