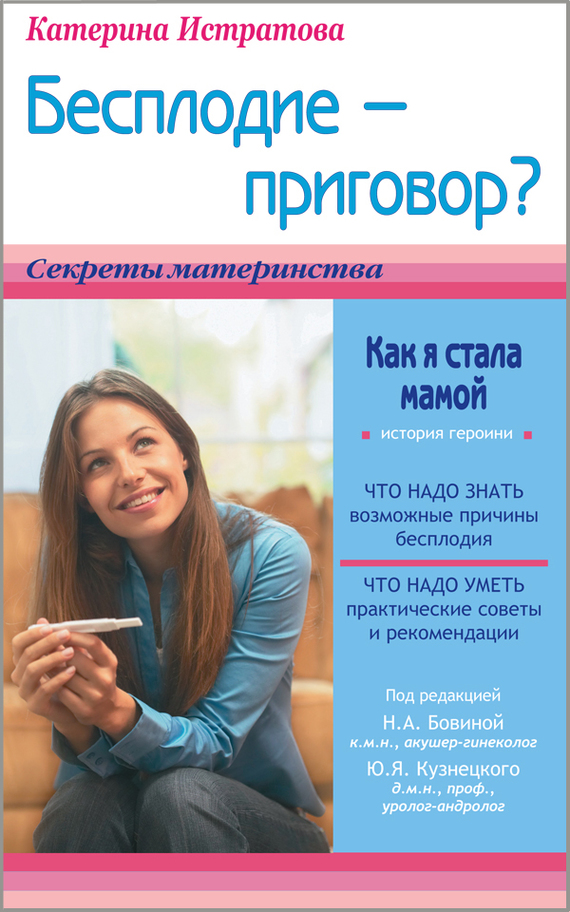Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм
Мы живем в эпоху специалистов, и они предлагают нам частные точки зрения и аспекты реальности. За деревьями научных достижений исследователь уже не видит леса реальности. И научные достижения оказываются не только разделенными, но даже противоречивыми, трудно свести их в единую картину мира и человека. Но колесо прогресса в обратную сторону не прокрутишь. В наше время, когда научные исследования стали преимущественно командной работой, без специалистов никак не обойтись. Но опасность не в том, что исследователи специализируются, а в том, что специалисты склонны к обобщениям. Нам всем известны terribles simplificateurs[5], но теперь наряду с ними появляются, я бы сказал, terribles g?n?ralisateurs[6]. «Ужасные упростители» все низводят к минимуму, стригут под одну гребенку, но «ужасные обобщатели» не только держатся за свою единую мерку, а склонны распространять собственные открытия абсолютно на все. Будучи неврологом, я считаю вполне законным рассматривать компьютерную программу как модель центральной нервной системы, например, но утверждение, будто человек всего лишь компьютер, остается ошибочным. Да, человек в чем-то – компьютер, и в то же время он бесконечно больше любого компьютера. Нигилизм ныне проявляет себя не понятием nihil – «ничто», но маскируется за выраженьицем «всего лишь».
Под влиянием спровоцированной психоанализом (и разоблаченной Боссом) тенденции персонифицировать интрапсихические инстанции наметилась склонность всюду чуять какие-то уловки и финты и бросаться их дезавуировать. Этот furor analysandi[7], как выразился на 5-м Международном конгрессе по психотерапии (Вена, 1961) Рамон Сарро, неистовство, пренебрегающее и смыслом, и ценностями, подрывает психотерапию у самых корней. Американцы называют это явление редукционизмом. Я бы определил редукционизм как псевдонаучный подход, сводящий свойственные именно человеку феномены к более низкому уровню или же выводящий эти человеческие явления из «недочеловеческих» причин. Редукционизм – это субгуманизм. Любовь – это всего лишь не достигшие цели импульсы, совесть – всего лишь «сверх-Я» (подлинный современный психоанализ уже не постулирует тождество совести и «сверх-Я», но признал и утвердил различие между ними). Одним словом, такие сугубо человеческие явления, как совесть и любовь, редукционизм сводит к эпифеноменам. Тогда и дух – всего лишь высшая нервная деятельность (и это – намек на известный труд знаменитого исследователя. Такая вот эпифеменология духа).
Ученому нигилизму, который вылился в редукционизм, соответствует нигилизм жизненный, который и выражается в форме экзистенциального вакуума. Редукционизм с его тенденцией опредметить и обезличить человека играет на руку экзистенциальному вакууму. Это может показаться преувеличением, но это вовсе не так. Вот что пишет молодой американский социолог Уильям Ирвинг Томпсон: «Humans are not objects that exist as chairs or tables; they live, and if they find that their lives are reduced to the mere existence of chairs and tables, they commit suicide»[8]. (Main Currents in Modern Thought 19, 1962). И это действительно происходит: когда я делал доклад в Университете Анн-Арбора и в том числе говорил об экзистенциальном вакууме, в последовавшем обсуждении замдекана по работе со студентами сказал, что с экзистенциальным вакуумом он по работе сталкивается ежедневно, и готов был представить целый список студентов, которых сомнение в смысле жизни довело до отчаяния, а в итоге – до самоубийства. Американские авторы первыми критически присмотрелись к так называемому редукционизму и потребовали признать подлинное подлинным, at face value[9], как они выражаются, и таким образом присоединились к европейскому феноменологическому направлению. Это не мешает им признавать достижения Зигмунда Фрейда, однако они видят в нем специалиста по мотивам, подлинность которых не всегда готовы признавать. Так, самый выдающийся из современных американских психологов – Гордон Олпорт (Гарвардский университет) – именует Фрейда «a specialist in precisely those motives that cannot be taken at their face value»[10] (Personality and Social Encounter, Beacon Press, Boston 1960, P. 103). В качестве примера Олпорт ссылается на отношение Фрейда к религии: «To him religion is essentially a neurosis in the individual, a formula for personal escape. The father image lies at the root of the matter. One cannot therefore take the religious sentiment, when it exists in a personality, at its face»[11] (p. 104). Олпорт совершенно справедливо замечает, что такого рода подход уже устаревает: «In a communication to the American Psychoanalytic Association, Kris points out that the attempt to restrict interpretations of motivation to the id aspect only „represents the older procedure“. Modern concern with the ego does not confine itself to an analysis of defense mechanisms alone. Rather, it gives more respect to what he calls the „psychic surface“»[12] (p. 103).
Затронутая проблематика имеет не только предметную, но и человеческую сторону. Ведь нужно спросить себя, к чему мы придем, если в рамках психотерапии смысл и ценности, которыми живет пациент, не будут приниматься как подлинные. Тогда и пациента как личность мы перестаем воспринимать всерьез. Мы можем повернуть дело так, что выйдет: в его веру никто не верит. Или, говоря опять-таки словами Олпорта, «The individual loses his right to be believed»[13] (p. 96). Как в таких обстоятельствах строить доверительную связь, едва ли возможно себе представить.
Опираясь на свидетельство Людвига Бинсвангера, мы понимаем, что Фрейд видел в философии «не более» чем «самую приличную форму сублимации подавленной сексуальности». («Воспоминания о Зигмунде Фрейде», Erinnerungen an Sigmund Freud, Bern 1956, S. 19). Насколько же подозрительными должно казаться эпигонам психоанализа частное, личное мировоззрение невротика! В такой оптике философия превращается в не что иное, как теоретизацию или даже теологизацию скрытого невроза. Вопрос, не является ли, наоборот, невроз практическим проявлением несостоятельной философии, остается без внимания.
Редукционизм не избегает крайностей даже тогда, когда ограничивается генетическим и аналитическим истолкованием не творений человека, но препятствий к этим творениям, например, когда утрата веры полностью выводится из воспитания и окружающей среды. Вновь и вновь будет повторено, что так проявляется влияние отцовского образа: в данном конкретном случае оно понудило к искажению образа Бога и тем самым к отказу от религии.
Мои сотрудники взяли без отбора все случаи, встретившиеся им в практике за один день, и распределили их по корреляции между образом отца и религиозной жизнью. В этом статистическом обзоре было выявлено 23 человека с позитивными, в целом, чертами образа отца и 13, которые ничего хорошего о нем сказать не могли. И вот что примечательно: из 23, выросших в благоприятном семейном климате, лишь 16 сохранили хорошие отношения также и с Богом, а семеро впоследствии ушли от религии; среди тех 13, что росли с негативным образом отца, лишь двое позиционировали себя как атеистов, а не менее 11 ощущали призвание к вере. Итак, среди 27 взрослых верующих отнюдь не 100 % получили положительный импульс к вере в своем детстве, и, наоборот, далеко не все девять атеистов могли увязать свое неверие с негативным образом отца. Даже если в тех случаях, где обнаруживается корреляция между образом отца и образом Бога, мы предположим прямой результат воспитания, там, где образы отца и Бога отнюдь не совпадают, нам придется все же признать последствия личного решения. Способный к самостоятельному решению человек может также откинуть предполагаемые детерминанты, и одна из существенных задач психотерапии – вопреки «всемогущей обусловленности» провоцировать именно такую свободу бытия. И философия, высмеиваемая как «всего лишь сублимация подавленной сексуальности» (см. выше), и есть та, которая способна указать пациенту путь к свободе. Если бы мы начали применять философию как форму лечения, мы лишь исполнили бы завет Канта. Недопустимо заведомо отвергать Бога – и ведь вполне законно призывать на помощь медицине химию, например!
Мы бы не стали спорить против здравого детерминизма, но мы выступаем против того, что я назову «пандетерминизмом»{20}. Человек, разумеется, во многом детерминирован, то есть определяется предпосылками – биологическими, психологическими или социальными, и в этом смысле он отнюдь не свободен, не свободен от этих предпосылок и вообще не свободен от чего-либо, существует лишь свобода «для», а не «от», свобода занять определенную позицию по отношению ко всем предпосылкам, и об этой особой человеческой возможности пандетерминизм забывает, в упор ее не видит.
И не надо напоминать мне о том, насколько обусловлено бытие человека, – в конце концов, я врач с двумя специальностями, невролога и психиатра, и очень неплохо разбираюсь в биопсихологическом устройстве человека, однако я не только медик-специалист, но и человек, переживший четыре концентрационных лагеря, а потому я знаю также, что человек обладает свободой выйти за пределы всех предпосылок и противопоставить даже самым тяжелым и страшным обстоятельствам ту силу, которую я решил назвать упрямством духа.