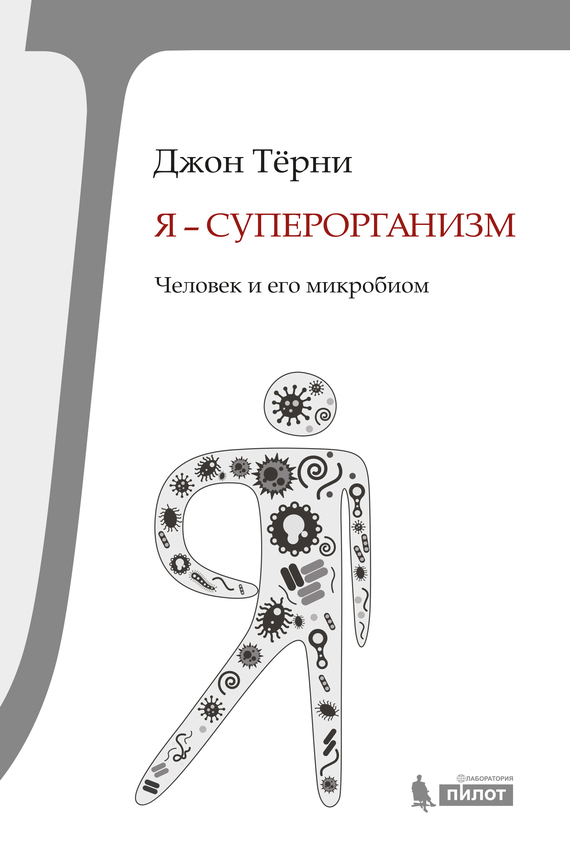4. Робер Кастель: эпистемология психиатрического попечительства
Эпистемологическую линию Фуко продолжает Робер Кастель (1933–2013). Кастель всегда характеризовал себя как единомышленника итальянской антипсихиатрии и настаивал на том, что ему ближе проблема законодательной, социальной заботы о психически больных. В 1969 г. вместе с Базальей и другими коллегами он организует группу, сосредоточившую свою активность на борьбе с психиатрическим принуждением и беззаконием, из которой впоследствии вырастает Международная сеть альтернатив в психиатрии. Поэтому Кастель одновременно и близок к французской критическо-эпистемологической традиции, и стоит по отношению к ней особняком. Большое влияние в теоретическом отношении оказал на него Гофман с его социологией психиатрии, можно даже сказать, что Кастель отталкивался от идей Гофмана: его первым текстом было предисловие к французскому переводу «Приютов»[679].
Фуко же оказал на Кастеля достаточно противоречивое влияние: прочитав «Историю безумия» сразу же после ее выхода, он воспринял ее как философское исследование, а не как работу по психиатрии, поэтому всегда несколько дистанцировался от него, повторяя: «…Я не рассматриваю себя как ортодоксального последователя Фуко»[680], «…я никогда не был “фукианцем” (как не являюсь им и сейчас) – т. е. я не старался работать на основе понятий, предложенных Мишелем Фуко, и не задавался вопросом, что я пытаюсь делать, в рамках фукианской ортодоксии»[681]. Однако в пространстве психиатрии Кастель всегда признавал фундаментальный вклад Фуко и Гофмана, сравнивая их подходы и подчеркивая общность методологии. «Идя совершенно другой дорогой, – указывает он, – Фуко смещает акценты, подобно Ирвингу Гофману в “Приютах”. Каждый из них открывает исследовательское направление, позволяющее рассматривать в совокупности институциональные практики и профессиональные идеологии, ориентированные на терапевтические цели медицинского лечения душевных болезней»[682].
На основании социологических и эпистемологических подходов своих великих предшественников – Фуко, Гофмана, Бурдье (учеником которого он был), благодаря творческому продолжению этих идей, благодаря тому, что он сам называет «правильным использованием выдающихся людей», Кастель развивает проект «истории настоящего» в отношении различных социальных практик современности, и одной из таких практик становится, как и у великих предшественников, психиатрия. Правда, его эпистемологические исследования психиатрии отличаются от таковых у Фуко. Если раннего Фуко интересует безумие само по себе и отношение к его истине в различные исторические эпохи, а позднего – дисциплинарные практики и диспозитивы власти, в рамках которых функционирует психиатрическая больница, то Кастель направляет свое внимание в первую очередь на социальный уход за безумными, выстраивая своеобразную социологию попечительства.
Ключевой датой этой истории Кастель называет 27 марта 1790 г. В этот день во Франции декретом Учредительного собрания (ст. 9) было закреплены обязательное медицинское освидетельствование и медицинская опека для безумцев. Именно тогда впервые сошлись воедино социальная ответственность за безумие и его антропологический статус, конституировав современное пространство восприятия безумия и социальное пространство для его функционирования. Кастель отмечает, что первоначально это, тогда еще не совсем единое, пространство предполагало четыре элемента, заложивших основание института психиатрии: 1) политический контекст юридического посредничества; 2) появление новых властных агентов; 3) закрепление за безумцем статуса пациента; 4) конституирование новой институциональной структуры.
Исходя из этих аспектов Кастель разъясняет специфику современной трактовки проблемы безумия и ее историю. Толчком к ее развитию выступает распад прежних оснований политической легитимности с последующим разделением контроля за поведенческими девиациями между королевской администрацией, судебным аппаратом и семьей. Необходимость решения проблемы безумия приводит к необходимости заполнения властного по отношению к нему пространства и развития институтов правосудия, местной власти и медицины, устойчивые отношения в этом новом пространстве будут установлены только тогда, когда функции исходного основания этого проблемного пространства возьмет на себя медицина. Поскольку безумец в новом властном пространстве начинает рассматриваться по аналогии с другими девиантами: преступниками, нищими, бродягами и др., возникает потребность отделить его как отличного от других социальных маргиналов; постепенно с нарастанием мощи медицины за ним закрепляется статус пациента. Необходимость нейтрализации безумцев как нежелательных элементов общества привносит новую специфику в уже сформированный корпус больницы, которая начинает совмещать функции специализированной институции (приюта) и институции, поддерживающей терапевтическую среду, так формируется пространство психиатрических институций[683].
За всеми этими элементами и изменениями, по Кастелю, стоит специфическая «политика психического здоровья», включающая теоретический стандарт (классическое понятие болезни, как это было в XIX в.), технологию воздействия (моральное лечение), институциональную организацию (приют), корпус профессионалов (врачи, старшие консультанты, надзиратели и проч.), законодательно определенный статус безумца (несовершеннолетний, преступник, больной и др.). «Таким образом, – подчеркивает он, – мы увидим, что синтетическое единство элементов, группирующихся вокруг приюта, являет собой весьма странную последовательность, поскольку каждая из этих частей конституируется только в отношении ко всем остальным, на основании общего для них паттерна интернирования»[684].
Для более точного определения процессов, происходящих в социальном пространстве опеки над психически больными, Кастель предлагает использовать понятие «метаморфоза». Метаморфоза, противостоя обычным изменениям отдельных элементов, отмечает трансформацию всех элементов системы и переход к новой форме единства и связи, выражающей принципиально другую политику. Для него это не просто внутреннее реструктурирование, но принципиальное перераспределение властных связей внутри системы. Причем это не революционные изменения, как отмечает Кастель, психиатрия уже пережила свою революцию, это обновление, aggiornamento, которое все еще продолжается.
Кастель настаивает на том, что современная психиатрия с ее более гуманными теориями и либеральными методами – всего лишь продолжение той психиатрии, которая сформировалась в середине XIX в., все ее элементы имеют свои аналоги в истории, и суть таких, казалось бы, противоположных элементов едина. Он следующим образом описывает современность психиатрии: «Многочисленные профессионалы продолжают работать в институциях, которые перевернули теоретические стандарты, и те теперь стали более мягкими; разнообразные технологии встречают контингент, который только разросся и чьи особенности теперь определяются более тонко. Появляется много новшеств, но все это еще не опровергает гипотезу, что в этом процессе модернизации все тот же аппарат доминирования скорее обновляет свой авторитет, закрепляет свою власть и умножает свою силу»[685]. В этом обновленном дискурсе больничные оковы и смирительные рубашки оборачиваются практикой открытых дверей, изоляция – лечением в заживляющем повседневном окружении, дуализм нормального и патологического – зыбкостью современных психопатологических категорий, авторитаризм, патернализм и директивность – терпимостью, принятием и внимательностью, индивидуальная направленность власти – циркуляцией информации в команде и обратимостью ролей врача и пациента, но настоящей революции, на взгляд Кастеля, не происходит. Все это лишь обновление в новых образах старых сюжетов.
Период aggiornamento психиатрии длится и по сей день. Перераспределение властных отношений, о котором говорит Кастель, начало происходить во второй половине XIX в., и эти процессы по интенсивности и отчетливости он сравнивает с процессами, которые уже в XX в. запустили антипсихиатрические критики. Так он стремится осмыслить не только ситуацию возникновения современной психиатрии, но и современную ситуацию ее развития. Он говорит о том, что сегодня исследователи меньше связаны понятиями XIX столетия, одновременно эти понятия и связи между ними, образующие сеть теории и практики психиатрической помощи, настолько истончились, что без труда можно показать их последовательность. Ситуация обновления только способствует тому, чтобы использовать результаты этих исследований для толкования современных процессов в психоанализе и психиатрии. Это длинный путь, но, по Кастелю, он сегодня является наиболее верным: он смотрит на вторую половину XX в. через век XIX. Теоретические стандарты и стандарты практики, институциональные процессы, профессиональные и политические фигуры, особенности статуса безумцев – все это, как он считает, соткет сеть связей и отношений между двумя эпохами психиатрии, и все это поможет понять истоки и современность психиатрической помощи. При этом для Кастеля «психиатрия является действительно политической наукой, поскольку отвечает на проблему управления. Благодаря ей безумие стало “управляемым”»[686]. Именно психиатрия, по его мнению, включила безумие в общество. До ее развития безумец был абсолютно маргинальным элементом, он не мог нести наказания, поскольку признавался недееспособным, не мог быть вылечен и исправлен, поскольку признавался неизлечимым.
Вокруг потребности управления безумием и безумцами структурируются сферы интернирования: система государственных указов и делегированное государством местным властям и семье право управления безум цами. Репрессия при этом носит как общественный, так и частный (в случае семьи) характер. В этом пространстве наблюдается двойное движение, двойное делегирование. С одной стороны, государство, разрабатывая стандартные процедуры и законы контроля и управления, делегирует свои функции специализированным институциям: тюрьмам, общим больницам, исправительно-трудовым лагерям и проч. вплоть до появления специализированной институции психиатрической лечебницы. С другой – семья, изначально обладающая правом частного контроля своих членов, начинает делегировать заботу о тех из них, которые становятся безумными, внешней – административной или судебной – власти. Этому сопутствуют многообразные процедуры отчуждения от семьи: лишение права наследования, имущества, отречение от безумцев и проч.
Кастель указывает, что именно на пересечении двух этих векторов делегирования власти и формируется институт психиатрической помощи, становясь превентивным институтом попечения. Психиатрическая лечебница занимает пространство между социальной репрессией и семейной, стремясь как бы перехватить больного до того, как семья откажется от него и передаст в ведение репрессивным государственным институциям.
Рассматривая безумца в одной группе с нищими и бедняками, зарождающаяся психиатрия становится, по Кастелю, одной из разновидностей, авангардом, филантропии. Безумец входит в масштабную группу людей, исключенных из производства, и представляется как обобщенный образ асоциальности и маргинальности: «Безумец оживляет образ кочевника, скитающегося по необжитым землям, подрывая все те правила, по которым организуется общество»[687]. Он уподобляется даже дикому животному, которое, будучи на свободе, в возбужденном состоянии может напасть на поселян. Утративший разум безумец уподобляется бродяге и нищему, преступнику и ребенку, поэтому, по Кастелю, всегда вызывает двойственное чувство – ужас и жалость. Эта двойственность закладывает фундамент института психиатрической помощи. Как отмечает Кастель, это только после О. Мореля и теории дегенерации психиатрия впадает в своеобразный расизм, первоначально же она несет печать филантропического гуманизма и патернализма.
Однако статус безумца отличался от статуса других маргинальных персонажей. Подобно преступнику, безумец рассматривался как нарушитель общественных норм. Он подлежал изоляции и исправлению, но объективного основания для репрессии, в отличие от юридического основания в случае преступника, для безумца в XIX в. не существовало. Последующее развитие психиатрии только акцентировало это различие: в ряде случаев психически больные могут быть признаны невменяемыми и недееспособными, поэтому основанием для изоляции не могут служить юридические нормы. Этим жестом они исключаются из юридического порядка. Поэтому, как справедливо отмечает Кастель, «договорная система для репрессии безумца должна будет выстроить медицинский фундамент, в то время как для репрессии преступника изначально уже имеются юридические основания»[688].
Кастель отмечает и еще один интересный момент. Психиатрия, ставя в основу репрессии медицинский фундамент, развивает институт психиатрической лечебницы, который, как по своей структуре, так и по своим методам, будет напоминать тюремные институции. В силу совершенно иных оснований (психическая болезнь – это не намеренный проступок, а часто не зависящая от человека болезнь), которые она превратит в принцип организации своих институций, центральным противоречием психиатрической практики станет противоречие «между правом наказывать и обязанностью помочь». Уже в XX в. это противоречие станет двигателем развития антипсихиатрии.
Столь же любопытные нюансы обнаруживаются и при сопоставлении статуса безумца со статусом ребенка. Ответственность за безумца так же, как и за ребенка, делегируется семье, но когда безумец отчуждается от семьи и передается психиатрической институции, «арбитром решений» для него становится врач. Это право передается врачу вместе с опекунством. Такая ломка традиционного института опеки и «вторжение врача в интимное пространство семьи», по мнению Кастеля, становится своеобразным фундаментом для развития в будущем семейной терапии в психоанализе и психиатрии XX в. Пока безумец подобен ребенку, заключает он, пока он еще не обрел юридического опекуна, вместо него будет принимать решения врач. Отождествление безумца и ребенка станет для зарождающейся практики психиатрической помощи основной аналогией. По Кастелю, сравнение безумного с ребенком есть «великая педагогическая аналогия медицины психического здоровья, в рамках которой развивается вся ее история»[689]. В сложной сети судейского аппарата и тюремных институций, семьи и муниципальных властей и развивается психиатрия как практика опеки безумцев, как наследница всех противоречий этой педагогической аналогии.
Кастель указывает, что в процессе формирования психиатрического пространства на поверхность одновременно с тенденцией госпитализации и медикализации выходило множество различных тенденций, одновременное сосуществование которых в чем-то напоминает развитие антипсихиатрии. Процессы конституирования психиатрии как практики заботы ни в коем случае, на его взгляд, не были однозначными. Параллельно с этими процессами развивалась практика домашней опеки и тенденции дегоспитализации и профилактической работы, разрабатывался проект помощи на местах в пределах амбулаторного сектора. И долгое время эти две парадигмы – интернирования и помощи на местах – сосуществовали. Однако, несмотря на все дискуссии, медицина сдалась под натиском старой тоталитарной традиции всеобщего интернирования безумцев.
Кастель связывает этот шаг назад не только с медицинской, но и с политической ситуацией. Только что свершившаяся во Франции революция, ратовавшая за братство и счастье граждан, не могла признать и открыто показать, что достаточно большая их группа так этого счастья и не обрела. Безумцы и другие асоциальные элементы угрожали признанию успешности революционного проекта и образовавшегося государства. Одновременно необходимость помощи безумцам была заменена сочувствием и опекой. Так формирующийся институт психиатрической помощи обрел свое лицо: «Либеральное общество и тоталитарное учреждение на самом деле функционировали как диалектическая пара. <…> Помощь становилась все более и более контролируемой»[690].
Современная Пинелю и постпинелевская практика заботы о безумцах демонстрирует несколько черт, отчетливо проступающих, по Кастелю, и в психиатрии XX в. Во-первых, требование изолировать безумца от внешнего мира, от тех факторов, которые вызвали и усугубляли болезнь. Такое оправдание изоляции способствовало ее терапевтической трактовке, и госпитализация стала основной терапевтической стратегией, аннулировав ранее предлагавшиеся де-госпитальные меры помощи.
Во-вторых, конституирование порядка психиатрической лечебницы как совокупности пространств, режима, специфической деятельности, иерархии и структуры, которые определяли повседневную жизнь пациента, и правила, по которым она проходила. Безумец изымался из внешнего мира и погружался в искусственную реальность, как ее называет Кастель, «социальную лабораторию, в которой все человеческое существование могло быть запрограммировано»[691]. В-третьих, отношения власти, связывающие невзаимными связями врача и пациента. Врач нес порядок рациональности, которому должен был подчиниться пациент, выражением этого подчинения стало моральное лечение.
Опекунство в такой структуре и в таких отношениях имело не только терапевтический, но и политический смысл. Больной признавался утратившим разум, и потому не мог вновь обрести его сам. Он мог возвратить свою человечность, свое человеческое лицо только в акте подчинения воплощенной во враче верховной власти. Опекунство выступило своеобразной моделью всеобщего контроля за социальными отношениями, и институт психиатрической помощи и опеки стал наследником политического абсолютизма. В тех слоях населения, которые он опекал, в своих дисциплинарных методах и политических целях институт психиатрии представлял обновленную прежнюю политику опеки.
Однако институт опеки безумцев столкнулся с многочисленными проблемами: необходимо было оправдание для интернирования безумцев, жестких дисциплинарных мер и объяснения случаев исправления и неисправления. В попытках разрешить эти противоречия и появилась психиатрия не просто как пространство опеки, но и как медицинское пространство.
Безумие не просто окружается медицинской практикой, а посредством конституирования медицинской институции происходит очерчивание нового юридического, социального и гражданского статуса безумца. Появляются многочисленные работы о безумии, начинают предлагаться авторские классификации, и в последних посредством сравнения и сопоставления различных форм уточняется новое определение статуса безумия. Центральной фигурой в формировании института психиатрической помощи Кастель, как и большинство историков медицины, называет Филиппа Пинеля, воплотившего в своей деятельности основные тенденции зарождающейся госпитальной психиатрии.
Статус безумца формируется, по Кастелю, на основании разрабатываемой в рамках практики психиатрической помощи картины безумия и программы его коррекции. Первым элементом этой картины становится симптомология, образующая теоретический корпус медицины психического здоровья, как называет это пространство Кастель. В рамках нозографических классификаций очерчивается преимущественно антропологически-психологический портрет безумца. Его описывают как эгоцентричного и необщительного, погруженного в нереальный мир, лишенного самообладания и не контролирующего свои эмоции и поступки. Вторым элементом выступает социальное понимание расстройства, описание безумия как социального нарушения. Проводятся многочисленные исследования взаимосвязи безумия и общества, безумия и цивилизации, безумия и периодов социальной и политической нестабильности, и Кастель отмечает, что в этом смысле ошибочно говорить, будто медицина до XX в. двигалась лишь в направлении органической гипотезы. На его взгляд, в историческом отношении медицина психического здоровья является первой формой социальной психиатрии, представившей социальный портрет безумного человека.
Третий элемент выступал связующим звеном между первым и вторым элементами, между антропологическим и социальным уровнями учения о безумии, и описывал этический компонент – доминирование моральных причин в происхождении безумия. В те времена безумие признается порожденным моралью, а не какими-то внешними физическими причинами. И этот третий элемент упрочивал связь нарождающейся теории и устоявшейся практики. Четвертый элемент представлял саму практику морального лечения. Закономерно, что если моральные причины доминируют в происхождении безумия, то инструментом избавления от него должно стать моральное лечение. Оно к тому же связывает безумца нерушимыми связями с врачом, который этим исправлением руководит и подкрепляет необходимость института контроля.
Пятый элемент очерчивал пространство практики и предполагал лечебницу, в которой под руководством врача осуществляется моральное лечение и перевоспитание. Считалось, что в лечебнице безумец ограждается от тех губительных факторов внешней среды, которые привели к развитию расстройства. Эта пятичленная структура психиатрической помощи, как отмечает Кастель, воплощенная в практике морального лечения, предполагает возможность обновления, однако обновление это ставит весьма важный вопрос, оказавшийся, как мы показали, решающим для практики антипсихиатрии: «Существенным вопросом для будущего, поскольку с ним связана возможность aggiornamento психиатрии в моделях сообщества, секторной модели и проч., становится вопрос о том, обречена ли такая политика всегда пользоваться инструментом замкнутого пространства»[692]. И Кастель отмечает, что все, кто развивал революционную практику вне стен больницы и лечебницы, так или иначе вновь возвратились к институциональной практике.
Кроме того, при вскрытии этой структуры психиатрической помощи и психиатрии, как подчеркивает Кастель, становится понятно, что «вопрос о “научной природе” психиатрии поэтому является лишь псевдопроблемой»[693]. Психиатрия не привнесла ничего нового в медицинское знание, она первоначально не связана с медицинскими открытиями, а, используя медицинские достижения, просто-напросто упорядочила традиционные дисциплинарные методы и дисциплинарную практику. На своих первых этапах психиатрия была чрезвычайно уязвима теоретически и развивалась преимущественно как практика.
По Кастелю, медицина психического здоровья никогда не соответствовала современной ей медицине: во время своего рождения как нового пространства социальной помощи она взяла в качестве основания уже устаревающую тогда систему нозографических классификаций. В пространстве практики она очертила терапевтическую область в терминах авторитарной педагогики вне связи с лечебной работой, таким образом обозначив разрыв как с современной медицинской теорией, так и с современной медицинской практикой. Эту печать двойного разрыва психиатрия несет до сих пор.
Медицинское обоснование интернирования запускает не только развитие теории, но и нарастание мощи практики, которая становится не просто практикой помощи, но также практикой управления безумцами, политической практикой. Формирование обособленного пространства интернирования безумцев приводит, по Кастелю, к появлению трех феноменов, особенно остро обсуждавшихся уже в психиатрии XX в. Во-первых, безумие становится стигмой, она закрепляется за человеком на всю его жизнь и от нее невозможно избавиться. Во-вторых, наступает эра всеобщей подозрительности: поскольку практика помощи сопутствует теперь практике поддержания психического здоровья, обычным для нее становится отслеживание и интернирование лиц с асоциальным поведением, безумцев. Поскольку начинают появляться специализированные учреждения для интернирования безумцев и профессионалы, которые отвечают за эти цели, формируется практика поиска безумцев как выслеживания. В-третьих, лечебница утрачивает надежду стать лучшим пространством для исправления безумцев[694].
Но любопытно в этом развитии и еще одно: практика психиатрической помощи становится политической практикой. Развивающиеся психиатрические институции налаживают тесный контакт с государством и с местной администрацией, и как наследники старых дисциплинарных учреждений, развивают в своих стенах и за их пределами практику управления безумием и контроля безумцев. В рамках практики интернирования переплетаются между собой две своеобразные стратегии обращения с безумцем: полицейская и медицинская. Причем, если первая выражается в последовательности «охрана общественного порядка – арест – конфискация имущества», вторая выражается в последовательности «забота о больном человеке – изоляция – направление в специализированное учреждение – уход – возможно, лечение»[695]. Эти два вектора сливаются воедино в психиатрических институциях.
Для Кастеля нововведения психиатрии XX в. являются закономерными попытками преодолеть противоречия, оформившиеся в ее предшествующей истории и бурно дискутировавшиеся в XX в.[696]
Во-первых, это противоречие между законодательством и проблемой природы психического заболевания, которое приводило к излишне ограниченному определению психического расстройства и, как следствие, постоянно усиливало путаницу между юридическим и медицинским векторами психиатрической помощи. Как мы помним, итальянская антипсихиатрия и ее радикальная реформа стали попыткой преодоления этого противоречия там, где оно было выражено более, чем в других странах.
Во-вторых, институциональная природа психиатрических лечебниц входила в противоречие с целями лечения и реабилитации и находила отражение в повседневной практике психиатрической помощи. Первые дискуссии об институциональном порядке в психиатрических лечебницах, как отмечает Кастель, поднялись еще в 1860-е годы в связи с полемикой по поводу бельгийского сельскохозяйственного поселения в Гиле, где безумцы еще со времен Средневековья находились только под присмотром крестьян и вели обычную крестьянскую жизнь. Корнями в эти дискуссии уходят и антипсихиатрические дискуссии 1960-х.
В-третьих, по причине теоретической слабости психиатрии в ней всегда конфликтовали между собой учения о моральных и органических причинах безумия. Развитие учения об органических причинах подталкивалось стремлением приблизить это пространство к медицине, учение о моральных причинах связывало его с практикой. Это противоречие нашло свое отражение и в формировании психиатрической этиологии, и в разработке методов лечения.
В-четвертых, в практике и технологии психиатрической помощи образовался непреодолимый разрыв между филантропическими стратегиями и технологиями психиатрической лечебницы. Моральное лечение сформировало своеобразный дисциплинарный треугольник, включающий врача, пациента и институцию, поддерживаемый режимом и порядком психиатрической лечебницы, но сама институциональная установка и концепция болезни подрывала такую стройную систему. С развитием органической гипотезы и признанием неизлечимости психического заболевания отпадала необходимость в лечении, и акценты психиатрической помощи сместились с лечения и перевоспитания на профилактику, а врач перестал быть постоянным элементом терапевтического треугольника.
Мы видим, что все эти противоречия вновь всплывают в психиатрии XX в. и приводят к развитию антипсихиатрии, а эпистемологическое исследование Кастеля показывает нам их исторические истоки. Несмотря на то что его эпистемология сформирована без прямого влияния Фуко, по своей мировоззренческой направленности их взгляд очень похож. Стремясь вскрыть противоречия современной психиатрической практики, оба они обращаются к исходной ситуации ее формирования. В «Истории безумия» Фуко обращается к истории появления психиатрической больницы как пространства изоляции и следит за отношениями разума и неразумия, в «Психиатрической власти» он обращает свое внимание на властные отношения и связи и рассматривает историю отношений врача и больного. Кастель в «Управлении безумием» пытается вернуться к истокам попечения и заботы о безумцах, обозначить грани этой заботы, обоснование ее необходимости, ее противоречия и ее подводные камни. Хотя антипсихиатрия в этих эпистемологиях редко становится предметом рефлексии, в них отчетливо заметна ситуация современности и постсовременности антипсихиатрии.
Этим и примечательно постструктуралистское развитие антипсихиатрии. Постструктурализм в своем психиатрическом дискурсе не то что бы мыслит в унисон антипсихиатрии или мыслит по-другому, не то что бы продолжает антипсихиатрический проект или предлагает что-то новое – здесь невозможно оперировать линейными понятиями и связями. Постструктуралисты в своих психиатрических штудиях идут вслед за открытой антипсихиатрами перспективой. Указания на антипсихиатрию не всегда присутствуют в соответствующих текстах, и мы не всегда можем увидеть четкие маркеры, свидетельствующие о влиянии идей и методов, но образы антипсихиатров имплицитно просматриваются во всех постструктуралистских «психиатрических» работах. Психиатрический дискурс постструктурализма ведет непрекращающийся диалог с антипсихиатрией.
Темами этого диалога оказываются семья и личность безумца, властные механизмы общества и властные отношения, институциональные особенности психиатрической практики и ее история. В критическом психиатрическом дискурсе постструктурализма практически ни слова не говорится о теории психиатрии, она неизменно понимается не как наука со своей теорией, а как институция и как институциональная практика. Среди постструктуралистов не было ни психиатров-теоретиков, ни психиатров-практиков, поэтому дисциплинарную связь с психиатрией постструктурализм разрывает окончательно. Если антипсихиатрия подпадала под определение движения профессионалов, то в плане психиатрического дискурса постструктурализм становится исключительно критическим движением.
В философском отношении антипсихиатрия и постструктурализм – это течения из различных философских эпох. Антипсихиатрия ближе к модерну – к экзистенциализму и марксизму, постструктурализм знаменует постмодерное мироощущение и постмодерную философию, поэтому закономерно, что он критически осмысляет и антипсихиатрию. Так или иначе практически все постструктуралисты указывают на излишнюю персоналистичность антипсихиатрии, ее центрированность на семье. Если для постструктурализма во вскрываемой им игре власти нет истины, нет правды и нет подлинности, то антипсихиатрия, будучи еще экзистенциально ориентированным движением, всегда оставляет право на свободу, на подлинность, на теплоту домашнего и семейного очага, она оставляет возможность на обращение движения и восстановление имевшегося, но утраченного равновесия, гармонии, «я».
Антипсихиатрия персоналистична в силу своего психологизма, в силу своей практической психотерапевтической направленности и преданности традиции. Постструктурализм, разумеется, а-персоналистичен, и здесь он ближе к социологии Гофмана, чем к социальной феноменологии Лэйнга. Однако следует признать, что без антипсихиатрии психиатрический дискурс постструктурализма был бы другим. Антипсихиатрия для него – критическая точка, критический этап, посредством которого он намечает стратегии продуктивной критики и возможного движения. Любопытно, что практически такой же статус антипсихиатрия играет и для самой психиатрии.