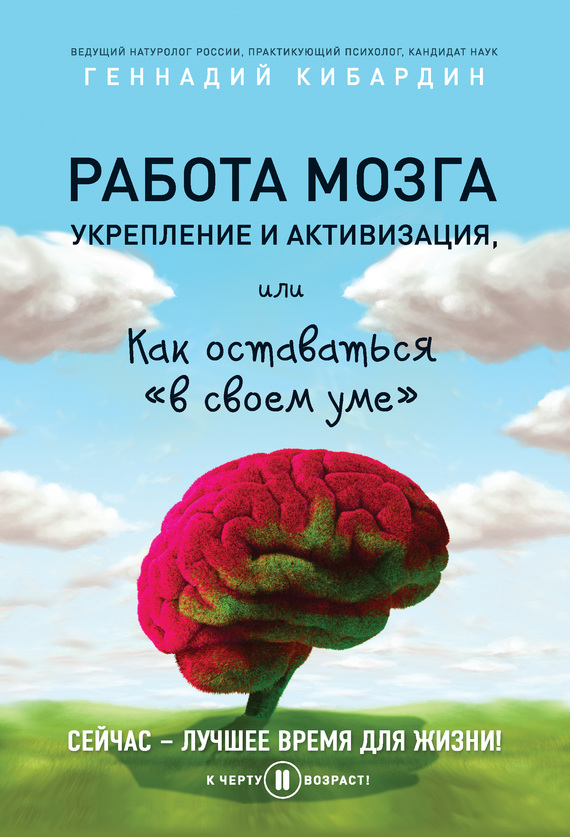3.2. Может ли наука хоть чем-то нас удивить?
Отвечая на поставленный вопрос, сразу же хочется сказать — нет, не может. Но что-то не позволяет мне это сделать. Что же?
Наука
Науку изобрели аутисты и шизофреники, такие как Архимед. Наука стала их виртуальной крепостью, иллюзорным убежищем, в котором они спасались и до сих пор спасаются от своего вечного врага, от социума. Социум ненавидит неистовство. Он не выносит молчания аутиста, его раздражает власть мании, сосредоточенность человека на чем-то одном, что не помещается в мире сущего. Аутисты и шизофреники, ускользая от объятий социума, создали великий симулякр. И этот симулякр они назвали истиной. Люди не от мира сего всегда будут опасны для общества, ибо общество построено на лжи.
Наука — это не способ деятельности человека, не социальный институт. Это воображаемый экскурс в то, что может оказаться истиной, путешествие туда, где грезы становятся объектами, а заблуждения — практически оправданными истинами. Для того чтобы быть ученым, нужно в глубине своей души быть немного шаманом, немного колдуном или, как Ньютон, алхимиком. И всегда фантазером.
Создавая свой параллельный мир, шизофреник наделяет его тем, что никогда не было и, возможно, никогда не будет. Для него фантазм, призрак реальнее реального. В его мире то, что уже умерло, может быть живее живых.
Современная наука
Наука уже немолода. Она, разучившись аллюцинировать, незаметно для себя состарилась. Современная наука, как, впрочем, и современное искусство, возникает в тот момент, когда аутистов и шизофреников силы реального выдавили из их убежища, когда в науку пришли нормальные люди так называемые реалисты. Наука без аутистической сосредоточенности, без шизофренических параллельных миров быстро скукожилась, сдулась. Наука стала массовой профессией, и ученый перестал чем-либо отличаться от обычного клерка. В современной науке нет места феноменам, подобным Эйнштейновским озарениям. Ее оставило любопытство к тому, что только воображается. Современная наука — это теперь бизнес, пространство доминирования менеджера, а не мыслителя. В лучшем случае это рутинная работа с 9 до 5 разного рода научных сотрудников, которых перестали посещать безумные идеи. И поэтому они принуждены донашивать те интеллектуальные лохмотья, которые остались им в наследство от фантазмов отцов — основателей науки. Современная наука сама стала неотъемлемым элементом социальной реальности, утратив напряжение разрыва между воображаемым миром и реальным. Хочу заметить, что без этого напряжения не может существовать сознание не только ученых, но и у любого человека вообще. Современна наука — это наука, в которой на место сознания встал язык. Социум раздавил в ней хрупкую энтелехию аутистов и шизофреников.
От физики к неврологии
Науки о природе теперь мало кому интересны, в них немного сознания и много языка. Физика перестала быть местом встречи сумасшедших. Философия, кажется, навсегда покинула дом науки. Жалкие попытки представителей синергетики хоть как-то расшевелить научное сообщество ни к чему не привели. Практика стала теперь самой популярной теорией в науках о природе.
В науке, представленной физиками и молекулярными биологами, все уже случилось, все высказалось. Гора современной науки родила мышь под названием нанотехнологии. Эти технологии взяли в свои руки бюрократы власти, социальные инженеры. Наука больше не привлекательна для тех, кто еще только начинает что-то делать, у кого все еще впереди. Науку оставила надежда.
Не природа, а человек пока еще представляет хоть какой-то интерес для тех, кто привык воображать. Не физика, а неврология интересует сегодня шизофреников в науке. Но и мозг интересен нам не потому, что в нем число связей между нейронами превышает количество элементарных частиц во вселенной, а потому, что он, видимо, как-то связан с сознанием. Понятно, что человек — тайна, а сознание — это тайна этой тайны, удвоенная непостижимость человека. Сделать непрозрачное в человеке прозрачным, непостижимое постижимым хотят нейрофизиологи.
Проблемы неврологии
Нейрофизиологи хотят понять, каким образом деятельность нервных клеток мозга дает жизнь нашему сознанию. При этом они делают вид, что уже знают, что такое сознание. Но свое знание о сознании они вычитывают не из действия нервных клеток, не из неврологии, а из того факта, что они живут, сознавая свою жизнь. И это их сознание является неразделимо соединенным с жизнью, то есть продуктивным синтезом реального и воображаемого. Результатом этого синтеза являются грезы, то, что не имеет пространственной локализации в мозгу.
Заранее зная о сознании, конечно, можно что-то вычитать из действия нервных клеток мозга. Но заранее зная устройство мозга, ничего нельзя сказать о сознании. Действиями мозга уже нельзя будет объяснить сознание, не впадая в порочный круг, не удваивая сущностей, при котором сознание понимает мозг, который понимает сознание. Нейрофизиологи хотят иметь дело с реальным, с мозгом. Они не хотят иметь дело с воображаемым, но, отделяя реальное от воображаемого, они теряют из вида сознание. В материи нет такого места, которое самим собой указывало бы на сознание. Материя не нуждается в сознании. Сознание никогда не отсылает к материи, отсылая только к самому себе. Нейрофизиологическое знание не входит в сознательный опыт человека, оно находится вне синтеза субъективирующего мышления, в основе которого лежит воздействие человека на самого себя. Следовательно, неврология — это наука о мозге вне его связи с сознанием. Тогда же как нейрофизиологи хотят создать такую науку о мозге, которая была бы одновременно и наукой о сознании. А это уже интересно.
Рамачандран
Иными словами, может ли, например, нейрофизиолог Рамачандран объяснить в терминах неврологии то, что он думает о себе самом. Рамачандран пишет: «Наука была моим «уходом» от социального мира с его произволом и парализующими устоями»7.
Ничего не понимая в неврологии, я могу сказать, что Рамачандран — аутист, который очень хочет стать реалистом. Но он не реалист. «Помню себя, — рассказывает Рамачандран, — довольно одиноким и необщительным ребенком»8. Что это значит? А это значит, что Рамачандран когда-то оказывал сопротивление социуму, множеству поименованных других. Социум хотел воспитать в нем ум, для того чтобы сделать его послушным. А Рамачандран не хотел быть послушным и поэтому противопоставил социуму свое одиночество, необщительность, сохранив свободу воображения.
Может ли Рамачандран объяснить свой «уход из мира» на языке неврологии? Думаю, что нет, ибо это событие развертывается в пространстве воображаемого, которое полагает себя как реальное. Мозг — это не причина, а функциональный орган этого полагания. Если Сократ сам идет в тюрьму, то не потому, что у него есть ноги, хотя они у него есть, и не потому, что мышцы этих ног сокращаются, хотя они и сокращаются, а потому, что его действия опосредованы его грезами. Он как бы спит наяву. Так и Рамачандран когда-то заснул, чтобы потом проснуться нейрофизиологом. И его мозг имеет к этому такое же отношение, которое имеют ноги Сократа к его готовности умереть.
Одиночество — «не событие мозга». В нейронах мозга нет ни сознания, ни одиночества, ни радости, ни грусти, но Рамачандран так не думает.
Он рассказывает трогательную историю о своем первом пациенте, который то бесконтрольно плакал, то бесконтрольно смеялся каждые несколько секунд. Рамачандрану оставалось выяснить, чувствовал ли пациент радость, когда смеялся, и был ли он печален, когда плакал. Хотя что же тут выяснять? Если он бесконтрольно плакал, то это значит его плач не вытаскивался на свет сознания, а оставался во тьме физиологии. Нет таких законов природы, которые бы не позволяли человеку плакать без сознания плача. Плакать — это не слезы лить, а терзать самого себя своими видениями. Рамачандран, глядя на своего пациента, не мог понять, льет ли он слезы или терзает себя видениями.
Рамачандран сделал иной, нежели я, вывод: «Наши настроения, эмоции, мысли, драгоценные жизни, религиозные чувства и даже то, что каждый из нас считает «собственным я», — все это просто активность маленьких желеобразных крупинок в наших головах, в нашем мозгу»9.