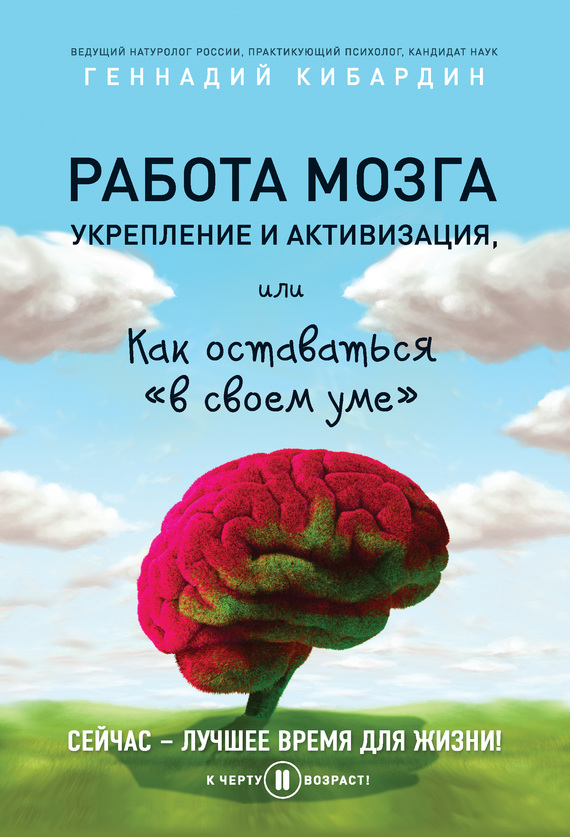3.5. Горизонты русской философии хозяйства
Цивилизационный кризис, случившийся в самом начале XXI в., некоторые ученые связывают с исчерпанием возможностей цивилизации, основанной на замещении сил человека силами природы, и формированием нового технологического уклада, который выводит человека за пределы не только материального производства, но и за пределы духовного производства. А это значит — за пределы производства вообще, которое начинает мыслиться вне связи с человеком. Новый технологический уклад объективирует интеллектуальные способности человека и в существовании человека уже не нуждается. В экономическую деятельность встраивается виртуальная реальность. Попытка объяснить происходящие изменения приводит нас к необходимости понимания той рефлексии, которая сопровождала переход России от традиционного общества к индустриальному. Я имею в виду сочинения Стебута, Чаянова и Кондратьева. Теория длинных волн Кондратьева сегодня хорошо известна. Менее известны так называемые «кривые Чаянова». И совсем не известны идеи И.Стебута.
Соприкасаясь с духовным наследием России второй половины XIX в., не перестаешь удивляться подвижничеству тогда еще небольшой группы образованных людей — русской интеллигенции. В русской интеллигенции выкристаллизовывался особый тип человека, постоянно готового к самообновлению. Эта интеллигенция училась испытывать мир не «миллиметром рассудка», а своей собственной жизнью. У нее слова переставали быть словами, а мысли — мыслями. Ведь слово как Логос, а мысль как личностный акт жизни перестают быть словами и мыслью о жизни. Они становятся частью самой жизни, и поэтому для тех, кто причислял себя к интеллигенции во второй половине XIX в., было далеко не безразлично, окажутся ли их слова пустыми, а мысли — ложными. Иными словами, это было время слов, не бросаемых интеллигенцией на ветер.
Люди с лоскутным миросозерцанием, сшитым из обрезков газетных и журнальных статей, не готовы к состраданию и бескорыстию. Но именно эти человеческие качества определяли космос души русской интеллигенции, целостность ее мировоззрения. Это было время, когда профессора не брали взяток, а амбиции и аппетиты литераторов не заменяли им мысли и честь.
К этому времени принадлежит и профессор И.А. Стебут (1833–1923). К его трудам восходят истоки русской классической аграрной мысли. В течение 50 лет Стебут был ведущей фигурой в развитии агрономической и аграрной мысли в России [1, 3].
Идеалы крестьянской цивилизации
Наиболее ценные работы Стебута, в которых он излагает свою «социальную философию», — «Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовершенствованию» (1883), «Сборник статей о русском сельском хозяйстве» (1897), «Несколько мыслей и соображений по поводу аграрного вопроса» (1906). Оригинальность взглядов И.А. Стебута на проблемы развития деревни легко установить, сопоставив их, например, с «Азбукой социальных наук» В.B. Берви-Флеровского, которая появилась в 1871 г. Это с одной стороны, а с другой — сопоставив их с мировоззрением А. Чаянова, описанном во время путешествия «в страну крестьянской утопии». А. Чаянов (1887–1929), на наш взгляд, развил некоторые идеи И.А. Стебута [2].
В чем суть этих идей? Стебут различает сельскохозяйственный промысел и сельскохозяйственное производство. Последнее есть всякое производство сельскохозяйственных продуктов. Старушка, выращивая укроп, занята сельскохозяйственным производством. Под сельскохозяйственным промыслом Стебут понимает прежде всего доходное занятие им. От чего зависит поход? Конечно, от спроса и предложения, от цен на сельхозпродукты и цен на промышленные товары, от стоимости рабочей силы, от умения вести хозяйство и т. д. «Но есть еще одно весьма важное условие, которое наичаще упускается из виду, — эго, — пишет Стебут, — размер хозяйства…» [18, 7]. Определение наиболее оптимальной величины хозяйственной единицы решается следующим образом. Согласно Стебуту сельские хозяева бывают или исключительно, или преимущественно, или побочно сельскими хозяевами. В соответствии с этим величина хозяйственной единицы при условии ее доходности может быть наименьшей у последнего рода хозяев, больше у сельских хозяев второй категории, наибольшей у хозяев первой категории. На величину хозяйственной единицы оказывает влияние применение машинной техники и технологии.
Составляет хозяйственную единицу союз семей на экономической основе. Этот союз нельзя людям навязывать помимо их сознательного в нем участия. Парадоксальность ситуации, в которой находился русский крестьянин, заключалась в том, что он занимался сельским хозяйством лишь побочно, в лучшем случае преимущественно. Но вынужден был вести образ жизни исключительно как сельский хозяин, т. е. сельское хозяйство не приносило доход и не покрывало расходов на жизнь крестьянина. «Крестьянин наш, — писал Стебут, — когда-то с любовью занимающийся сельским хозяйством, теперь, видя, насколько другие занятия выгоднее для тех из его собратьев, которые находят их, готов бросить землю» [18, 21]. И далее: «Неудивительно поэтому, что крестьянин, отдавая своего сына в школу, делает это в надежде, что школьное образование даст сыну возможность заняться чем-либо другим и тем создаст ему лучшее положение, чем положение его родителя; поэтому же он отдает сына и в сельскохозяйственную школу не для того, чтобы сын вернулся снова в крестьянское хозяйство, создающее для отца такое тяжелое положение. Справедливо ли после этого ставить в вину сельскохозяйственным школам, как это делают многие, то, что выпускники или ученики из крестьянских детей возвращаются к занятиям своих родителей лишь в виде редкого исключения» [18, 22].
Размеры хозяйства лимитируются и личным трудом хозяина или хозяев. Стебут выступал против общинного землепользования, но за развитие общинного землевладения. В решении аграрных проблем он видел две стороны: экономическую и социальную. Достижение доходности хозяйства — это экономический вопрос, а вот положение рабочего в хозяйстве — социальный. «Аграрный вопрос, который есть вопрос не только экономический, но в еще большей степени социальный, может разрешаться, да и разрешается часто удовлетворительно частновладельческим хозяйством как экономический вопрос, но не разрешается им как социальный вопрос; крестьянским хозяйством он не разрешается… ни как социальный, ни как экономический вопрос. Не могу не высказать попутно моего убеждения в том, что едва ли… этот вопрос разрешается или может считаться разрешенным удовлетворительно где бы то ни было как социальный вопрос; как экономический же, полагаю, он разрешен наиболее удовлетворительно в Северо-Американских штатах, где соответствующая величина хозяйственной единицы (при ведении хозяйства почти исключительно самими хозяевами) вполне обеспечивает доходное сельское хозяйство…» [18, 29].
Поиски образа такого хозяйства, которым разрешались бы оба вопроса, составляют смысл жизни Стебута. Это хозяйство должно быть общественным. В этом Стебут не сомневался. Его прообраз — община. По отношению к государству оно должно рассматриваться как кооперативный частный землевладелец. Словами «частная собственность» указывается лишь на ту сферу отношений, которые складываются вне зависимости от государства. Больше ничего в этих словах нет. А вот будет ли она трудовой или нетрудовой — это уже другой вопрос, социальный, а не экономический. В общественном хозяйстве выполняются работы по переработке и сбыту сельхозпродуктов. Оно берет на себя расходы по содержанию общественных учреждений и т. д. Члены земельной общественной единицы, где бы потом они ни работали, сохраняют связь с этой единицей не только как со своей родиной, но и (что Стебут считал особенно важным) как с организацией, обеспечивающей своему члену приют и помощь в случае надобности, Стебут часто говорил, что при частном землевладении далеко не все люди связаны с землей, при государственной все связаны с ней, но все стоят очень далеко от нее и поэтому не заинтересованы в ее производительности.
Однажды И.А. Стебут с грустью заметил: «Если бы крестьяне не были так темны, то, конечно, они сохранили бы разваливающуюся теперь большую крестьянскую семью, существующую в виде союза семей на экономическом начале» [18, 69]. Позднее и более резко о необходимости сохранения семейного хозяйства высказался А. В. Чаянов: «Хозяйство крестьянское есть прежде всего хозяйство семейное, весь строй которого определяется размером и составом хозйствующей семьи, соотношением ее потребительских запросов и ее рабочих рук» [21, 2].
Но семья эта распадалась, и ничего с этим нельзя было поделать. На горизонте хозяйствующей души замаячили призраки социализма и фермерства. Еще в 70-е годы прошлого века Стебут попытался было приучить крестьян к артельному способу обработки арендуемой земли, сдал в аренду часть земель своего имения «Кроткое», оговорив условия. Спустя какое-то время он заметил, что вместо 40 арендаторов-крестьян появляются два-три крепких мужика, т. е. хозяина-кулака. А эго было уже не интересно. «Я нанимал рабочего за цену, — вспоминал Стебут, — которую он требовал за свой труд, если эта цена не превышала лучшей обычной в местности и я имел основания считать нанимающегося подходящим для себя работником. Если он оказывался таким и не прочь был остаться у меня, то он ежегодно получал надбавки к жалованию… пока ежемесячное жалование не достигало недопустимой по доходности хозяйства величины. Кроме того, рабочие получали у меня премии за выдающееся исполнение некоторых работ» [1, 133]. Но одно дело самому вести свое хозяйство, а другое — наниматься, т. е. продавать свою рабочую силу, если даже за нее и хорошо платят. И вот эта разница не могла не сказаться на отношении крестьян к тому хозяйству, в котором они выступали как наемная рабочая сила. Крестьянин должен быть хозяином. Это хорошо понимал Стебут. Эти же идеи определили и отношение A.В. Чаянова к крестьянскому трудовому хозяйству.
Стебут и Чаянов не были, по всей вероятности, знакомы, но Чаянов оканчивал Московский сельскохозяйственный институт по кафедре А. Ф. Фортунатова — ученика Стебута. Если Чаянов делает упор на семейный состав крестьянского хозяйства, то Стебут — на доходность этого хозяйства. Согласно Чаянову, «трудовое крестьянское хозяйство будет работать и при пониженной оплате труда, в условиях явно убыточных для капиталистического хозяйства» [21, 3]. Стебут же называет такое хозяйство производственным, т. е. при таком производстве крестьянская семья может заниматься сельским хозяйством лишь побочно и самое большее преимущественно. Если десятина дает 10 руб. дохода при прочих равных условиях, а годовой бюджет хозяйственной единицы — 300 руб., то эта хозяйственная единица не может быть меньше 30 десятин. Крестьянин, отмечает Стебут, «силой условий, при которых приходится вести хозяйство, вынуждается быть сельским хозяином исключительно» [18, 11]. Оптимальный размер хозяйства определяется, согласно Чаянову, размером крестьянской семьи. Согласно Стебуту — доходностью хозяйства.
Пока, по словам Стебута, существует разделение труда на сельскохозяйственный и промышленный, пока существуют потребители и производители, пока есть рынок, до тех пор немыслимо бездоходное сельскохозяйственное производство. Любительское сельскохозяйственное производство является вредным, если в земле, которую оно использует, нуждается доходное хозяйство. Конечно, мечтал Стебут, настанет время, когда люди не будут беспокоиться о своем пропитании. Это «беспокойство» возьмет на себя общество. Но до этого так далеко, что не стоит об этом и думать [18, 11].
Чаянов усматривает в перенаселенности деревни и ее малоземелье главный бич народного хозяйства. «Хозяйство трудовое, как обеспечивающее наибольшую трудоемкость земледелия, и должно, — считает Чаянов, — лечь в основу нашего земледелия» [21, 3]. Стебут так не считает. Наиболее трудоемким является натуральное хозяйство, когда крестьянин кормит себя и еще несколько человек впридачу. А наименее трудоемкое хозяйство кормит 60–70 человек да еще и себя. Крестьянское хозяйство не решает ни экономического, ни социального вопроса. И поэтому поиски оптимального хозяйства должны идти не по пути частного нетрудового хозяйства и не на стороне трудового натурального хозяйства, а на пути развития коллективной частной собственности, а также кооперирования трудовых крестьянских хозяйств. «Идеальным нам мыслится, — писал Чаянов, — крестьянское семейное хозяйство, которое выделило из своего организационного плана все те его звенья, в которых крупная форма производства имеет несомненное преимущество над мелкой, и организовало их на разные степени крупности в кооперативы» [21, 4].
Близкие взгляды мы находим и у Стебута. Идеальным для него является общественное хозяйство, владеющее определенным участком земли. Оно же занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. «Насколько успешнее, — писал Стебут, — могла бы развиваться сельскохозяйственная промышленность, если бы все люди… были теснее связаны с землей и производством на ней продуктов, чувствуя себя землевладельцами и заинтересованные в выгодной производительности земли. Это же не может быть ни при частном, ни при государственном землевладении» [18, 34]. В сельскохозяйственной экономии, подчеркивал Фортунатов, вопросы о величине хозяйственной единицы, о товарищеской аренде, о мелком движимом кредите, о терминологии систем хозяйства и многие другие связываются для нас с именем Стебута.
Современное состояние аграрного вопроса группируется вокруг одной проблемы — проблемы собственности. В чем ее суть? До недавнего времени вопрос о землевладении считался у нас решенным. Нерешенными признавались лишь проблемы, связанные с методами землепользования. Считалось само собой разумеющимся, что владел землей народ. Непонятно было одно: как это владение использовать в аграрном строительстве. А поскольку туман в решении этого вопроса не рассеялся, постольку аграрная политика строилась на принципах социальной алхимии, вся хитрость которой состоит в организации такой универсальной системы производства, которая предполагает хозяина в центре, а чувство хозяина у тех, кто на периферии этого производства. В условиях государственной собственности в качестве собственников-владельцев стали выступать не люди, а учреждения и организации, т. е. анонимные социальные образования. В резульгаге чудес алхимии появилась собственность без собственников, а распорядителем этой собственности стал чиновник. Тем самым собственность распадалась на три не связанных друг с другом социальных акта: владение, распоряжение, использование, т. е. на распоряжение без владения, на использование без распоряжения и на владение без использования. Но этот результат означает, что в нашей стране исчезли отношения собственности как общественного отношения, а вместе с ними исчезла граница между государством и обществом, т. е. исчезло общество [4].
Ситуация, сложившаяся после расщепления собственности на три обособленных друг от друга момента, нашла выражение не только в формах распределения доходов и расходов, но и в том, что правами стали наделяться не люди, не группы людей, а организации и предприятия. И поэтому никого не удивляет расширение прав предприятий, потому что в этом расширении они не зависят от прав людей. Расширение прав предприятий совсем не означает, что одновременно расширяются, например, и права рабочих.
Государственная собственность является предельным вариантом осуществления частнособственнических амбиций. Вместе с ней появляются ведомственные интересы. Вообще-то ведомственных интересов нет, существуют интересы людей и классов, но разрыв в связях между владением, распоряжением и использованием порождает превращенную форму интереса — ведомственную. Восстановление разорванных связей как раз и является той меткой, по которой узнается современное аграрное движение. В первую очередь восстанавливаются связи между распоряжением и использованием. Это происходит в виде развития так называемых арендных и кооперативных форм. На этом уровне появляется собственность на продукты труда и соответствующая ей форма распределения доходов. Но на этом уровне еще нет собственности на собственность, т. е. нет владения в чистом виде. А без этого владения вряд ли удастся соединить «распоряжение» и «владение», т. е. возродить общественные отношения собственности. Без этих отношений в свою очередь нельзя общество отделить от государства [5].
В основе социальной философии Стебута лежит идея о том, что жизнь людей вообще — это не логический процесс, а реальный. Какими бы хорошими не были наши представления о формах жизни, как бы мы ни стремились сделать человека счастливым, не нужно делать одного: не надо навязывать эти представления людям, а тем более устраивать их счастье насильно. «Ведь навязать им этого, — замечает Стебут, — ни чего-либо другого людям нельзя; людей нельзя производительно или благотворно устраивать помимо их сознательного в этом участии. Они должны сами устраиваться, и те, на ком может лежать такая общественная и нравственная обязанность, могут и должны лишь помогать другим устраиваться. Известное общественное и связанное с ним личное устройство людей достигается лишь нормальным постепенным общественным развитием в соответствии с развитием культуры масс, а это требует немало времени: ни годов, ни десятков лет, ни столетий, даже, а и того больше» [16, 23]. Вот эта мысль Стебута не могла не сказаться и на его отношении к частному хозяйству. Крестьянское хозяйство и частновладельческое дополняют друг друга. Сами по себе они не вызывают у него восторга, но Стебут понимает, что из их взаимодействия вырабатывается новая форма хозяйствования — общественная. «В этом, — писал Стебут, — заключается историческая миссия частновладельческого хозяйства, и пока оно ее не исполнит, оно должно существовать и развиваться сообразно требованиям времени наравне с крестьянскими общинами, и всякий ущерб как тому, так и другому будет ущербом для всего народного хозяйства». Для того чтобы возникла новая форма собственности, необходимо, согласно Стебуту, выполнять два условия: 1) хозяйство должно определить себя по отношению к государству как частная собственность; 2) по отношению к внутренним механизмам распоряжения и использования оно определяется как общественное хозяйство.
Пока нет ни того ни другого, возможны экономические чудеса. Например, расказывает Стебут, в Тобольской губернии, где есть и простор, и обилие сена и выгонов, но нет обилия городов, ежедневно нуждающихся в свежем молоке, мы развиваем производства молока. Между тем в Туле, близкой к массовому потреблению молока и не имеющей ни просторов, ни сена, ни выгонов, под покровительством правительства находится производство мяса и разведение скота. Не от того ли, спрашивает Стебут, в направлениях нашей внутренней политики в отношении сельского хозяйства рождаются те причины, следуя которым мы начали ввозить сало из Австралии, а в Туле ведро молока стали продавать от 90 коп. до 2 руб. Тогда как в 100 верстах от Тулы за пуд молока были бы рады иметь 50 коп. Такая наша политика, говорил Стебут 100 лет назад, приводит к тому, что скоро повышением цен мы будем менять формы владения землей [16].
Кооперативный социализм
Свою первую небольшую работу «Кооперация в сельском хозяйстве Италии» Чаянов написал еще студентом. В этой работе он приводит рассказ одного русского крестьянина московским статистам. «Везу я сенцо продавать, — рассказывал крестьянин, — а сенцо-то плачет, а я его утешаю: вот погоди, придет зима и я тебя втридорога выкуплю». Другими словами, настало время платежи делать, а денег у крестьянина нет. Вот и везет он в неурочное время сено продавать. Смысл этого рассказа столь же прост, сколь и поучителен. Крестьянину нужно снять с себя ярмо посредников и перекупщиков. Но как ему это сделать? И Чаянов отвечает: при помощи кооперации. Кооперация хороша не сама по себе. Она нужна для того, чтобы крестьянин мог обойтись без посредников. А для этого ему нужно по-новому организовать земледельческое производство, обобществляя в нем такие функции, которые можно обобществить. «Но напрасно бы мы приписали кооперации универсальное значение, — писал Чаянов, — оно дает благоприятные условия только тем, кто еще может встать на ноги, т. е. средним классам общества». Если крестьянин еще стоит на ногах, то ему поможет и кооперация. А если нет? «Для низших слоев общества кооперация еще не дала ключа в царство небесное», — отвечает Чаянов. Для тех, кто и встать-то на ноги уже не может, предназначена коллективная аренда.
В 1912 г. в двух работах («Крестьянское хозяйство в Швейцарии» и «Очерки по теории трудового крестьянского хозяйства») Чаянов формулирует главную мысль. «Задача трудового хозяйства — доставление средств существования хозяйствующей семье, и поэтому экономическая деятельность в нем направляется соизмерением степени удовлетворения потребностей с тягостностью добывания средств существования, а вовсе не исканием высшего процента на капитал или высшей оплаты труда» [23, 19]. Позднее Чаянов придаст этой мысли метематическую формулу, и она станет известна в научном мире под названием «кривые Чаянова».
Крестьянское хозяйство ищет не прибыль. Оно ориентировано на валовый доход. Доходное хозяйство не всегда прибыльно, а прибыльное — не всегда доходно. Крестьянин, скорее, выберет большой валовый доход и меньшую прибыль, чем большую прибыль и малый доход. Но если подмеченная Чаяновым особенность крестьянского трудового хозяйства верна, то в лице этого хозяйства капитализм встречает серьезное препятствие для своего распространения. Самое удивительное состоит в том, что трудовое хозяйство сохраняет в системе товарно-денежных отношений какую-то внутреннюю независимость от этих отношений. Подчиняясь правилам игры на рынке, трудовое крестьянство выпадает из этой игры в непосредственном процессе производства, демонстрируя элементы семейного труда. Капитализация сельского хозяйства ведет к раскрестьяниванию деревни. Окрестьянивание села — к декапитализации. «Сельская жизнь, — скажет Чаянов в 1928 г., — естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма», Путь фермерский нами всегда нацело отрицался.
Понимая природу трудового крестьянского хозяйства, Чаянов видел опасность в бездумной коллективизации. Наивно полагать, говорил он, что управлять народнохозяйственной жизнью можно из одного центра, «только распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая, приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных исполнителей план народнохозяйственной жизни». Видимо, не без оснований в наши дни Чаянова станут называть, как пишет профессор социологии Манчестерского университета Теодор Шанин, «новым крестьянским Марксом, создавшим принципиально новую политэкономию» [20, 148]. Но, как известно, нет пророка в своем отечестве.
В апреле 1917 г. создается Лига аграрных реформ, членом распорядительного комитета которой стал А. Чаянов. «Трудовое хозяйство, — говорил он в одном из своих выступлений на Лиге, — должно лечь в основу аграрного строительства России».
«Нам не нужен, — развивал свою мысль Чаянов, — черный предел наличного количества материальных благ, нам нужно перераспределить национальный доход», — так формулирует свою позицию Чаянов. Необходимо поддержать хозяйства, которые не нуждаются в наемном труде. Вполне возможно и укрупнение хозяйства. Важно только помнить том, что крестьянское трудовое хозяйство небезразмерно. Оно не может укрупняться сверх определенного оптимума. «Сама природа земледельческого производства ставит естественный предел укрупнению сельскохозяйственного предприятия». Если «пространственно» крестьянское хозяйство не может расти вширь, то оно имеет все возможности расти вертикально, т. е. обобществлять свои функции через кооператив и кооперативные комбинаты. Такого рода укрупнения позволяют использовать результаты технического прогресса, одновременно они сохраняют индивидуальность отдельного крестьянского хозяйства, не разрушая традиционный способ соединения крестьянина с землей [15, 25–29].
В 1918 г. Чаянов обобщает идеи в книге «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации». После Октябрьской революции 1917 г. широкое распространение получила идея коммуны, в которой предлагалось обобществить все процессы сельскохозяйственного производства. Но трудовая коммуна, по словам Чаянова, всегда будет слабее трудового кооперированного хозяйства. Она будет проигрывать во внутрихозяйственных связях. Переход от частичной кооперации к полной, к коммуне с технической точки зрения не может считаться, доказывал Чаянов, явлением прогрессивным.
«Можно ли крестьянину привить социализм и сколько лет нам на это потребуется?» — этот вопрос для Чаянова не имел смысла. Он знал, что в деревне ничего не прививается кроме земли и воли. Согласно Чаянову, капитализм — это и не эпоха, и не этап, а уродливый припадок в народном хозяйстве. И чем скорее он пройдет, тем лучше. Социализм был зачат как антитеза капитализму, а не крестьянству. Зачем же его прививать деревне? А родился социализм где? В застенках германской капиталистической фабрики. Выношен же он был психологией измученного подневольной работой городского пролетариата. А ведь что такое пролетариат? Нам говорят, что это гегемон. «Может быть, и так, но ведь прежде всего это люди, говорит герой повести Чаянова «Путешествие моего брата Алексея», поколениями отвыкшие от всякой индивидуальной творческой работы и мысли. Пролетарий мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его. А государство — это ведь, конечно, не лучший прием организации социальной жизни. Его бы разгрузить от всяких общественных дел, смотришь, и тогда бы мы с вами встречались с ним гораздо реже. Разве это плохо?
Революция 1917 г. породила у крестьян и крестьянских идеологов надежду на то, что аграрный вопрос в России наконец-то будет решен. Эту надежду питал не только «патриарх русского земледелия» И.А. Стебут, представлявший умонастроение народников 60-х годов XIX в., но и новое поколение теоретиков трудового крестьянского хозяйства, которые сами себя относили к «неонародникам». Ведущее место среди них, бесспорно, занимал А. Чаянов.
Но шло время, вернее, уже наступил четвертый год революции, а никаких признаков того, что аграрный вопрос будет решен в пользу крестьянства и всего экономического организма страны, не было заметно. Для многих «неонародников» идеалы революции потускнели. И хотя некоторые из них были на виду у новой власти и участвовали в разработке планов преобразования деревни, все же нельзя было не видеть, как их усилия, не встречая поддержки у руководства молодой республики, уходили в песок. А.В. Чаянов часто размышлял о причинах такого положения дел. Ведь ему, к примеру, было грех жаловаться на невнимание лидеров новой России. «Оставьте в покое Чаянова, нам нужны умные головы». Эти слова Ленина дошли и до Александра Васильевича. Революция дала ему должность директора Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики. Он профессор Петровки, читал лекции в престижном коммунистическом университете им. Свердлова. В конце концов, он член коллегии наркомата земледелия, является фактическим руководителем кооператоров России. Его знали многие видные большевики, с ним общались В.П. Ногин, М.М. Литвинов, Л.Б. Красин [8, 11–13]. И все же…
На многое ему открыл глаза «главный литератор партии» Вацлав Вацлавович Воровский, который поздней осенью 1919 г. прочел лекцию о Герцене и затем в начале 1920 г. опубликовал ее под названием «Был ли Герцен социалистом?» Конечно, Герцен по-прежнему стоял слишком далеко от народа. Но ведь он-то, Чаянов Александр Васильевич, сын крестьянина и сторонник крестьянских методов ведения хозяйства, лишен, кажется, этого недостатка. Тогда почему же Воровский мимоходом, пробегая по одному из чиновных коридоров, как-то бросил фразу, из которой следовало и то, что Чаянов ему симпатичен, и то, что у него (у Чаянова) нет будущего. Нет будущего… Что бы это значило?
Ответ на этот вопрос дает предисловие к книге Чаянова «Путешествие моего брата…». В этом предисловии было сказано много интересного. Написал его П. Орловский. Этот псевдоним, видимо, памятуя о своей ссылке в Орел, взял себе Вацлав Воровский. С присущим ему литературным даром Воровский прочертил линию, по одну сторону которой оказалась революция и марксисты, а по другую — Чаянов и мелкие производители. Ни один марксист не сомневается в том, что пролетариат ведет крестьянство к социализму. Проблема здесь состоит в другом. Пролетариат ведет, а крестьянство сопротивляется. Но почему? И Воровский тактично, но твердо поясняет: да потому, что сам крестьянин до социализма не дойдет. Ему мешает хозяйство. Крестьянина надо освободить от этого хозяйства, а такие люди, как Чаянов, этому делу мешают. Ведь что говорит Чаянов: ну, хорошо, вы освободили крестьянина, так и оставьте его при своих интересах, зачем же его еще и вести куда-то. Теперь, может быть, он и сам куда-нибудь дойдет.
Комментируя взгляды Чаянова, Воровский разъясняет азы научной идеологии, внять которым «неонародники» почему-то никак не могут. Разве так трудно понять, что пролетаризация крестьян революционна, и если вы против пролетаризации, то вы против революции. А «пролетаризация» — это всего лишь условное обозначение обезземеливания крестьян, которое тоже революционно, и если кто-то не может себе представить крестьянина без земли, то он, наверняка, контрреволюционер. Как, например, Чаянов. Ведь еще сам Маркс писал о том, что мелкие крестьяне не только не смогут додуматься до обезземеливания, но они, как дети малые, не смогут даже представить себя в парламенте. Они должны быть в нем кем-то представлены, и этот представитель будет вместе с тем и их господином. Воровский, разъясняя эту мысль, говорит о том, что представлять крестьян и решать за них могут интеллигенты-партийцы, но уж никак не интеллигенты-кооператоры, как думает Чаянов.
Дай волю Чаяновым, так они, пожалуй, и «грядковую культуру» сохранят. А разве эта «культура» допускает интенсивность труда? И отвечая на этот вопрос, Вацлав Вацлавович делает вывод о том, что это они (Чаянов и другие) не хотят освобождения крестьянина от проклятого труда. Труд человека надо заменить машиной, но разве поместится машина на крестьянской грядке? Нет, не поместится. Вот и держится крестьянин, да и вся система сельского хозяйства трудового крестьянства на самоэксплуатации. Разговорами о том, что машина может заменить труд, но не… может заменить личность крестьянина, на самом деле прикрывается стремление сохранить «забитого» мужика, в то время когда стоит задача по его социалистической переделке [7, 9].
Диалектическая мысль Воровского настойчиво держалась одной позиции: Чаянов толкает крестьянина на путь самоэксплуатации, разрушения его организма от физиологически тяжелого труда, а революция спасает крестьянина от гибели. Для того чтобы крестьянин жил хорошо, у него нужно отобрать землю. Чем больше будет сельскохозяйственное предприятие, тем меньше будет забот у крестьянина. Чаянов никак не может понять, что государству нужна большая масса прибавочного труда, которая пошла бы на содержание общественных институтов. Мелкое же хозяйство работает на самого крестьянина и дать этой массы не может. В какой-то момент государство будет вынуждено насильно устранягь мелкое производство и создавать хозяйство, основанное на машинной технологии и наемном труде. Только нанимать уже теперь будет государство, владеющее рабочими местами.
Более того, иронизировал Воровский, Чаянов реакционен еще и потому, чго он лишает крестьянина картин Ботичелли, музыки Моцарта и романов Горького. Ведь с мелким хозяйством, за которое ратует Чаянов, «внутренне неразрывно связаны колокола, белые рубашки половых, бабки», но не высокая профессорская культура. Ростовский звон колоколов плохо гармонирует с музыкой слов «Мы наш, мы новый мир построим». Через 10 лег вспомнит о колоколах и Е. Ярославский: «Для Чаянова является крайне обидным, что сняли колокола, к которым он привык прислушиваться, потому что эти колокола говорят о том, что для него является родным, близким» [9, 56]. Чаянов этого и не скрывал. По словам героя его повести, в умах людей все еще блуждала какая-то смутная жалость к прошедшему, а паутина буржуазной психологии все еще затемняла социалистическое сознание. И никакими химикатами эту паутину не вытравить.
Свое предупреждение Чаянову Воровский написал дружелюбно и незлобиво. Он еще разъясняет идеологические заблуждения «неонародников». Через два года А. Крицман повторит эти упреки более обстоятельно и научно. Он будет изъясняться определеннее, и в голосе его уже зазвучит идеологический металл. Еще бы. Теория концепции Чаянова намекала на какой-то третий путь развития страны. Она не требовала никаких новых начал хозяйствования. Крестьянин, как заметил Александр Васильевич, туго поддавался коммунизации. По его мнению, задача состояла в утверждении старых вековых начал, испокон веков бывших основой крестьянского хозяйства. Эту мысль он выразил и в записке на имя Молотова.
Экология традиции
Никакая наука не может заменить тот опыт, который столетиями накапливался крестьянами и земледельцами. Но она и не должна его заменить. Его можно лишь расширить при помощи науки и систематизировать. Уже при Петре I регламентом от 1719 г. на камер-коллегию возлагалась обязанность «земледелие, скотские приплоды и рыбные ловли по-возможности умножать, к приращению приводить…». В «Наказе» Екатерина II писала: «Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении пребывает и нерачительно производится» [14, 48].
В XVIII в. российские агрономы знакомились с основами сельского хозяйства по «Флориновой книге», изданной в переводе С. Волкова в 1737 г. Но эта книга рассказывала об опыте, полученном в иных странах, с иным климатом, с несхожими природными и экономическими условиями. Длительное время в России был популярен «Домострой» священника московского Благовещенского собора Сильвестра, жившего в XVI в., т. е. при царе Иване IV Грозном. Какие-то сведения можно было почерпнуть и из замечательного сочинения И.Т. Посошкова (1652–1726) «Книга о скудности и богатстве». Правда, издана она была только в 1842 г.
Книг и пособий, как видим, у крестьянина было не так уж и много. Их заменял его опыт и традиции. Мир человека вообще устроен так, что в нем всегда еще вещи, которые мы не можем не узнать, если на кон поставлена наша жизнь. Вот с этим риском (риском для жизни) и складывался опыт общения российского крестьянина с природой. Выветривание этого опыта привело к разрыву отношений между человеком и землей. Символом разрыва служит сегодня экология.
Слово «экология» не сходит с уст. «Безмолвная весна» Карсона, увидев свет в 1965 г., вызвала шок у цивилизованного человека. Ученые всерьез стали разрабатывать этику отношений человека к природе. Благодаря экологической этике мы сейчас узнаем то, что наши предки знали под давлением традиции и опыта. Например, если мы срываем плоды на общественном участке, то стоит ли нам, как каким-нибудь манихейцам, задумываться над тем, что дереву больно. Ведь мы уже научно образованы и знаем, что ему не больно, а плоды на нем уже спелые [3, 6].
И.А. Стебут был менее всего склонен усматривать предрассудки там, где их не было. Вполне возможно, чго славяне (когда они были еще язычниками и не учились в сельхозинститутах) не очень беспокоились о «плодах». Но они умели объединять себя с тем, что их окружало, развивая культ Рода. Однако нужно ли нам (их потомкам) придерживаться культа Рода и находить одно творческое начало для народа и природы, для родины и родника. Ведь в таком случае мы можем дойти и до метемпсихоза душ. А это ведь совершенная субъективность, то есть ложная картина мира. Конечно, нам не нужно, как нанайцам, прежде, чем убить медведя, вступать с ним в разговор, сочинять похвалу его достоинствам, просить согласия на убийство и т. д. Нас интересует шкура медведя, а не выяснение вопроса о том, что за душа находится под этой шкурой. Мы умные, а наши предки — глупые. Но они могли регулировать свои отношения с природой, а мы разучились это делать.
И.А. Стебут в лекциях постоянно напоминал о том, что существуют определенные опытом правила в отношениях крестьянина к природе. Например, «Домострой» — это не теория в современном смысле этого слова. В нем формулируется строго определенная норма и образец жизнеустройства человека. В традиционной русской культуре роль такого нормативного предписания играл месяцеслов, т. е. календарь. В нем была развита символическая структура языческого, а затем и христианского сознания наших предков. Ведь что такое символ? Это природное или социальное событие, которое воспринимается так, что оно никогда не означает то, что оно означает. В месяцеслов, замечает А.Стрижев, «органично были вплетены приметы развития природы, животного и растительного мира, солнечного и лунного цикла, соответствующие правила питания и труда, нормы социальной организации, семейных отношений и почитания предков. Месяцеслов — это целостный космос традиционной русской культуры, свод примет, метких речений и нормативов поведения» [19, 63]. Благодаря символической структуре сознания крестьянину Древней Руси и средневековья удавалось объединить в одно целое, в один упорядоченный космос ритмы своей жизни и ритмы природы. Например, каждый день церковного года имел свое имя. Он был связан с тем или иным святым и поэтому не отражал, а организовывал совместную жизнь людей под знаком того или иного дня. Месяцеслов указывал время сева, ухода за посевами, уборки урожая. Он отделял рабочие дни от праздничных, когда строжайше запрещались всякие работы. Нарушение трудового ритма и моральных установлений могло поставить мир на грань хаоса и неустроенности. Для того чтобы в мире и душе был порядок, крестьянину нужно было соблюдать этот ритм и установления. Например, в «Домострое» сильвесгровского извода мы можем прочесть о наставлении отца к сыну: «Благославляю аз грешный … и поучаю, и наказую, и вразумляю сына своего… и его жену, и их чад и домочадцев: быти во всяком христианском законе и во всякой чистой совести и правде… Аще сего моего писания не внемлите и наказания не послушайте, и потому не учнете жити и не токо творити, яко же есть писано, — сами себе ответ дадите в день страшного суда, и аз вашим винам и греху не причастен» [6, 3].
Онтология ума наших предков координировала не только естественное течение природных процессов и трудовой ритм, но и общение в миру, с домоустройством, с правилами питания и семейных отношений. Мир рушился, и космос терял свой порядок, если не соблюдались правила общежития. Нравственно-воспитательное значение имел обычай прощать друг другу обиды в последнее воскресенье масляницы. В день, когда «Козьма и Демьян с гвоздем» (14 ноября) заковывают землю началом зимы, одновременно куются и невидимые цепи нравственных отношений, связывающих семью. В синкретическом миросозерцании пересекались линии, которые, казалось бы, не имеют друг к другу никакого отношения. Так, в этот же день святых Козьмы и Демьяна молились о «прозрении ума к учению грамоте» [3, 18].
Наши предки, не зная научных основ экологии, спонтанно стремились предупредить экологически опасные события. Например, охота на птиц запрещалась до Петрова дня (12 июля), а рыбная ловля разрешалась с Ивана постного (11сентября) [3, 19].
Основной опыт социальной (и экологической) философии нашего народа обобщен в притче о Правде и Кривде, завершающей космологию «Голубиной книги». «От Кривды земля восколебалася, — говорится в ней, — от того народ весь возмущается; От Кривды стал народ неправильный, неправильный стал, злопамятный: они друг друга обмануть хотят, друг друга поесть хотят» [4, 305].
В образе двух зайцев (серого и белого) Правда и Кривда ведут вековой спор-борьбу. И не всегда побеждает Правда. «Было добро, — рассказывается в «Голубиной книге», — да миновалося. Будет добро, да того долго ждать» [3, 305–306].
Заключение
«Чем проще, тем лучше». Этой формулой выражается дух нашего времени — времени упрощений. Не укладываемое в схему упрощенного сознания вызывает сегодня презрение и именуется заумью, тем, что лежит за пределами ума, нашего ума. Запредельное мало кого из нас вдохновляет. Но чем лучше становится мир, тем чаще в нем встречаются предметы, для обозначения которых у нас нет языка.
В этой безъязыкой ситуации нужно, казалось бы, жить просто. Нужно всего лишь предположить, история знает, куда идет, чтобы идти с ней в ногу. Но что делать, если на этом пути нет того, что может быть, если мы хотим, чтобы оно было. Если идеи не овладевают массами, а интересы превращаются в пустой звук, в лозунги и манифестации сознания интеллектуалов, работающих не на массу, а на публику, то горизонты хозяйствующей души кажутся нам наиболее ясными и прозрачными. В этой ясности совершается забвение первослова души.
Список литературы
1. Балашев Л.Л. Иван Александрович Стебут. М., 1966. 167 с.
2. Балязин В. Возвращение // Октябрь. 1988. № 1. С. 111–119.
3. Бессонов П.А. Калики перехожие. М., 1861. Т. 1. С. 261.
4. Васильчиков Б.Б. Землевладение и землепользование. СПб., 1881. 84 с.
5. Веселовский Б.Б. Какое местное самоуправление нужно народу? СПб., 1906. 39 с.
6. Домострой. СПб., 1891. 196 с.
7. Зиновьев Г. Манифест кулацкой партии // Большевик. 1927. № 13. С. 34–42.
8. Кабанов В.В. Становление ученого // Вестник сельскохозяйственной науки. 1988. № 8. С. 67–71.
9. Кондратьевщина, чаяновщина и сухановщина. М., 1930. 103 с.
10. Меерсон Г. Семейно-трудовая теория и дифференциация крестьянства в России. М., 1926. 91 с.
11. Назаренко В.И. А.В, Чаянов и зарубежная агроэкономическая наука // Вестник сельскохозяйственной науки. М., 1988. С. 44–48.
12. Материалы по вопросам разработки общего плана продовольствия населения. М., 1916. Вып. 1. 87 с.
13. Никонов А.А. Научное наследие Чаянова и современносгь // Вестник сельскохозяйственной науки. 1988. № 7. С. 37–42.
14. Повомарев Н.А. Исторический обзор правительственныхых мероприятий. СПб., 1888. 150 с.
15. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. М., 1919. 116 с.
16. Стебут И.А. Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовершенствованию. М… 1883. 362 с.
17. Стебут И.А. Избранные сочинения. М., 1957. Т. 1. 791 с.
18. Стебут И.А. Несколько мыслей и соображений по поводу аграрного вопроса. СПб., 1906. 69 с.
19. Стрижев А. Экология русской культуры и народный месяцеслов // Человек и природа. 1988. № 8–9. С. 34–41.
20. Шанин Теодор. Наследие А. В. Чаянова: положения теории, ошибочные толкования и современная теория развития // Вестник сельскохозяйственной науки. 1989. С. 48–54.
21. Чаянов А.В. Природа крестьянского хозяйства и земельный режим. М., 1918. 17 с.
22. Чаянов А.В. Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М., 1924. 92 с.
23. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство в Швейцарии. М., 1912. 24 с.