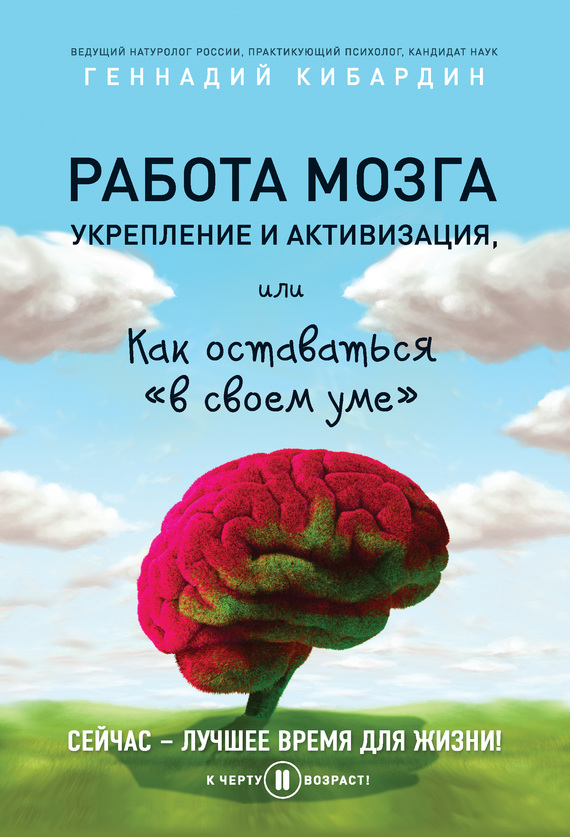5.3. Россия: пути и перепутья
«Философические письма» Чаадаева сделали Россию предметом русской мысли. Что мы узнали о России в результате 200-летней работы этой мысли? Мы узнали, что Россия — это не просто наша страна, наше государство. Россия — это особый мир. В чем же состоит его особенность? Прежде всего в устроении нашего ума, нашей души.
Русский умострой
Строение ума русского человека определено не идеей золотой середины, не дианоэтическими добродетелями, а принципом «либо все, либо ничего». Следуя этому принципу, трудно найти компромисс и легко впасть в крайности. Ближайшим принципом из этого принципа является «действие во имя». Действие во имя носит жертвенный характер и одновременно оно является остатком былых мистериальных действий. По существу своему оно является не целерациональным, а символическим. Поэтому для нас символы иногда важнее реальности. В символическом действии ценится не прагматика и не жизнь человека, а идея, некий метафизический замысел. Ориентация на высший смысл рано или поздно обессмысливает горизонт действия хозяйствующей души. Из самоотречения, из понимания того, что высшим личностным актом является не действие во имя личности, а отречение от личности, следует равнодушное отношение к жизни человека. В России не особенно дорожили человеком, не возвеличивали его, не ставили ему, как в Европе, памятники. Не личность, а отзывчивость человека, его душевная теплота ценились в России.
Бытие русского человека коренится в быте. Поэтому он ценит не свободу, а волю. Иными словами, ему нужна не политическая свобода, а бытовая. К политической свободе он равнодушен. У нас культура основывается на морали, тогда как в Европе культура предшествует морали. В России нет никакого пиетета по отношению к праву, потому что нам нужна правда. Правду нельзя подкупить, ее нельзя уступить другому, тогда как право, что дышло — куда повернешь, туда и вышло. Русский человек подчиняется высшей власти не потому что он раб, а потому что он передает ей право заниматься политикой, оставляя за собой право автономного быта.
Россия — и не Запад, хотя мы на западе, и не Восток, хотя мы на востоке. Россия — это духовное понятие. Мы стали русскими, потому что наша Церковь когда-то заговорила по-славянски, а не на греческом и не на латыни. Может быть, благодаря этому она долгое время была чужда европейскому логосу и близка софийности Востока. Поскольку нам была дана главная Книга, постольку нас не интересовали другие книги и, возможно, поэтому нас считали интеллектуально ленивыми. Действительно, Россия научилась исторически заканчивать то, что она никогда не начинала. И поэтому нам незнакомо чувство радости завязывающегося начала.
Не мы изобрели парламент. Но мы показали его никчемность. Парламент создан для того, чтобы говорить и разговорами обуздывать управляющим. Парламент немыслим без партий, а русские не любят партии, потому что партия — это часть целого, а не целое. У нас демократия держится не партиями, а бытом. Для парламента у нас нет духовных оснований. Эти основания были бы тогда, когда бы мы приняли filioque, когда Святой Дух исходил бы не только от Отца, но и от Сына, как в Европе. А у нас он исходит только от Отца. И поэтому власть должна быть неделима и ей должно быть наделено одно лицо. Нам ближе монархия, а не парламентская республика.
Россия — это космос
«У всякого народа есть родина и только у нас — Россия» — в этих словах Г.П. Федотова формулируется мысль о том, что Россия — это не народ, населяющий одну шестую часть земли, эту часть могут заселять разные народы. Но к России это уже не будет иметь никакого отношения. Россия — это способ, каким наша родина находит связь с нашим отечеством.
Русское сознание хорошо видит различие между родиной и отечеством. Родина — это родимая земля, что-то близкое, теплое, уютное. Родина рождает. На родине тебе сочувствуют. Она как мать встречает тебя словами утешения. Родина мила, но на нее нельзя полагаться. Она не опора. Ей самой нужна поддержка. Родина — это язык, мифы, песни, земля. У отечества свои песни, свои слова. Отечество — в отдалении. Из этой отдаленности слышен строгий голос отца. Холодный и повелительный. Отечество требует служения. Оно надзирает, наказывает и поощряет. В нем сила. От него исходит порядок.
Русский человек сторонится порядка, бежит от его монотонности к согревающему душу материнскому хаосу. Он убегает. Отечество его догоняет. Он прячется. Отечество его ищет и находит.
Спрятавшись, русский человек не покинет своей берлоги, не пойдет на агору, на собор для изъявления своей воли. Его туда нужно притащить, своло?чь. Отечество его тащит и называет сволочью, а родина укрывает и оправдывает. Поэтому у нас, у русских, есть те, кто ходит сам, а еще есть те, кого волокут. Кто на помочах. Первых мало. Вторых много. Если бы у нас сволочей было мало, то мы бы не прятались. И у нас были бы дороги. И избы наши топились бы по-белому. А поскольку мы прятались по медвежьим углам, постольку дорог мы не строили. Боялись, что по этим дорогам к нам придет отечество и обложит данью. По этим же причинам и избы наши топились по-черному. Из опасения встречи с отечеством наша культура строилась вне связи с цивилизацией. Оттого-то у русских много культуры и мало цивилизации.
В Европе отечество выходило за пределы родины. Вот эта его запредельность сделала возможной империю, то есть возможность для одного народа отдавать приказы другому народу. Возможность свой порядок распространять среди чужих и называть все это просвещением. Отечество без родины создает имперского человека, космополита. Этот человек сам себе император. Он умеет сам себя держать в ежовых рукавицах.
Русский человек несамодержец. Он собой не волен распоряжаться. Он от себя бежит, страшась своей оформленности. Русское отечество, вместо того чтобы выходить за пределы родины, занималось ловлей беглецов. Поисками ускользающей родины и оформлением аморфного. Отечество поймало нашу родину только тогда, когда бежать ей уже было некуда. На берегах Тихого океана. Здесь родина русского человека и его отечество совпали.
Вот эта пойманность русского человека отечеством и составила смысл русской империи. Если в Европе отечество возвратилось на свою родину и вот это совпадение родины и отечества составило в конце концов основу для национального государства, то в России отечество всегда догоняло ускользающую родину, и в точке их совпадения возникла русская империя, которая наложила запрет на формирование национального сознания русского человека. Имперское сознание русских стало помехой на пути формирования русского национального сознания. Мы — православные. В этих словах закодировано совпадение космополитизма христиан с космополитизмом империи. Христианское и национальное сознание исключает друг друга. Имперское состояние России является экстатическим, его основой служит государство, а не нация. А это значит, что государство предает интересы нации, родины и начинает служить империи.
Обычно империи держатся волей автономных индивидов, самостоятельными людьми. Русский же человек ищет поддержку вне себя. В другом, в трансцендентном по отношению к нему самодержце. Мы цепляемся друг за друга, сбиваясь в кучу, в социально неструктурированную массу. Империя является для нас необходимым костылем, внешней опорой. В России не империя опирается на человека, а человек на империю. Империя позволяет нам подняться, встать. Распрямиться. Распрямившись, русский человек видит, что под ногами у него — родная земля, а над ним — имперская крыша. И все это вместе с ним называется Россией.
Русское сознание содержит в себе постоянную возможность отказа от империи, от крыши. Время от времени оно заставляет нас отбросить имперский костыль, отказаться от идеи служения, дабы остаться наедине со своей родиной. Реализуя такую возможность, русский человек приходит к родине без отечества. К хаосу. К своему падению. К национализму, то есть неумению сопрягать свои мысли и чувства с вековой историей русского космоса.
С осознания того, что русский человек стоит с империей, а без империи он падает, начинается наше сознание. В горизонте имперского сознания русский человек строит свое понимание государства и церкви, а также понимание самого себя.
Русское сознание — это славянофилы
Русское сознание — это славянофилы. Это они замкнули наше сознание на самое себя, создав экран отражения мысли. Благодаря им наше сознание стало рефлексивным, а не только содержательным.
Всякая мысль проходит точку взросления, избавления от инфантилизма. Такой точкой в истории русской мысли стал Ю. Самарин. После него уже невозможно сладостное славянофильство Хомякова и Киреевского. Вернее, теперь оно возможно как детский лепет.
После Самарина русская мысль могла развиваться либо в терминах всеединства, либо в терминах месторазвития. Персонификацией первой возможности стал В. Соловьев. Персонификацией второй возможности стал Н. Данилевский. Соловьев — это русский отец глобализма. Данилевский — имперский антиглобалист. Воспроизводя соловьевский ход мысли, мы неизбежно воспроизведем симулякры всеединства: мировой разум, человечество, прогресс, то есть воспроизведем тупиковое движение русской мысли. Ее непрозрачность для себя. Чтобы не быть тупиковой, наша мысль должна самоопределиться как имперский антиглобализм.
Зачем русскому человеку империя?
Во-первых, затем, чтобы не быть нацией. Русские никогда не были нацией, никогда не ставили перед собой и не решали национальных задач. Мы не умеем этого делать. Для этого у нас нет национального самосознания. Русские всегда были и будут идеей. Тем, чего нет, что невозможно осуществить. Мы всегда существовали в невозможности своего существования. Определяя себя как идею, мы определяем себя в качестве апофатиков-нигилистов, антиглобалистов. И одновременно в качестве романтиков социально наивных людей. Всеединство — это отказ от возможности быть идеей. Призыв к растворению в фактичности. Конечно, глупо искать какую-то содержательную русскую идею. Мы не американцы. Это у них есть какая-то идея, мечта. А у нас ее нет. Если бы она у нас была, то мы бы ею владели, как владеют вещью. И, овладев, стали бы нацией. Наша идея — это мы сами в невозможности нашего национального существования. Мы необратимо имперский народ. Быть для нас — значит быть империей.
Во-вторых, поскольку мы не нация, постольку мы всегда решаем наднациональные задачи. Если бы мы решали задачи нашего национального существования, то мы бы занялись удобствами жизни, комфортом существования, то есть мы построили бы цивилизацию. Но так как мы решаем наднациональные задачи, мы принуждены быть бедными при всем нашем богатстве. В любой момент жизни нам нужно во что-то верить. Нам нужна идеология. Имперскость нашего существования вынуждает нас постоянно обновлять государство, а не цивилизацию повседневной жизни.
Третья причина имперскости нашего существования — это наше безволие. У русских нет воли к власти. А это значит, что у нас нет пространства, в котором бы встречались возможность повелевать с возможностью повиноваться. У русских возможность повиноваться существует вне связи с возможностью повелевать. И наоборот. У нас повеление существует вне связи с повиновением.
Для того чтобы у русских появилась воля к власти, к земному, нужно, чтобы мы стали автономными индивидами. Чтобы мы перестали служить, научившись вращаться вокруг своего Я. Чтобы создать такое вращение, нужно когда-то убить Бога. А также нам нужно еще и отказаться от души. Ведь пока у нас есть душа, а не сознание, мы все время будем делать не то, что нам выгодно, а то, что нам хочется. И в нас будет жить Бог, ибо он живет этим нашим хотением.
Русские существуют без воли к власти потому, что наше Я смещено из центра. Незамкнутость существования со смещенным из центра Я делает нас соборными, то есть беззащитными в столкновении с автономными личностями.
Поскольку русские превратили бытие в быт, постольку эта превращенность накладывает запрет на трансгрессию быта. И, следовательно, на возможность быть нацией. Русская империя — дело Бога. Нация — дело экономики и интеллигенции. Нацией может стать только тот народ, каждый элемент которого заставляет жизнь вращаться вокруг своего я. Ничто больше не должно иметь своего центра вращения. Поэтому западные нации составляют лейбницевские монады. Что может обеспечить взаимное притяжение монад? Только интересы. Интересы выше нации. В конце концов и нация — это все тот же определенный интерес, а не какая-нибудь самоценность. Русские не монады. У нас всякая целостность имеет свое Я, свой центр вращения. И все эти центры смещены имперским сознанием. Если целью нации является интерес, то целью империи является сама империя. Любой нацией можно пожертвовать ради интересов. А империей нельзя. Потому что она не определена как содержание. Наоборот, ради империи можно пожертвовать интересами. Смещение Я из центра делает оправданной имперскую идею служения. Все это говорит о том, что Россия не может быть без русских. Без русских она станет Евразией. Пространственным понятием. Лесом и степью, которые может заселить кто угодно.
Можно ли удержать Россию только силой православной веры? Забвение имперского бытия русского человека превратит Россию в новую Византию. Русские не греки. Но именно поэтому Россия стала полем мистериальных игр Бога, непреднамеренной координацией отечества, родины и империи, земли, православной веры и русского человека.
Имперская экономика
В XX веке прекратило свое существование трудовое общество. Труд перестал быть ценностью. Он стал обыкновенным природным ресурсом наряду с нефтью, газом и лесом. Но не тоска по трудовому обществу составляет имперское сознание. Хотя и жаль идею труда. На смену экономической оседлости пришел номадический капитал. Детерриториализованный. Номады поставили под вопрос существование национальных государств. Но и не тоска по национальным государствам составляет имперское сознание. Сегодня капиталу противостоит не труд, не национальные государства, не культура оседлости. Капиталу противостоит сам капитал, так же как и моде противостоит только мода. Поэтому классовые войны потеряли характер столкновения идеологий и утопий. Но суть империи не в классовых войнах. На всем теперь видны следы движений симулятивного капитала. Почему симулятивного?
Потому что капитал вовлекает в свое движение сознание, превращая его в свой главный ресурс. Эксплуатация сознания приносит прибыль. Поэтому капитал производит сознание и потребляет его. И сам состоит из производных сознания: из лейблов, марок, знаков, акций, статуса, престижа и пр.
Из этой новой роли сознания в экономике следует экономика постмодерна, у которой свой порядок столкновения слов и вещей, цивилизации и культуры. Цивилизация несет с собой универсализм вещей. Культура сохраняет локальные значения слов. То есть в любой ситуации всегда найдутся слова, для которых нет вещей. И всегда найдутся вещи, для которых нет слов. А это означает невозможность извлечения смыслов. Неосмысленный режим существования человека — это плата за экономические симуляции. Тоска по империи первоначально возникает как тоска по смыслу.
Итак, экономика нуждается в сознании. Но сознание само по себе не существует в трансцендентальном модусе, в пригодном для экономики виде. Сознание не бывает ничейным. Оно всегда локально, то есть оно существует как протестантское, или как православное, или как японское, или как русское сознание и т. д. А это значит, что всякая экономика питается своим сознанием, воспроизводит свою непрозрачность, то, что не исчисляется всевидящим оком экономиста.
Сохранение непрозрачностей сознания в движении капитала можно назвать национальным в экономике.
Устранение локальных непрозрачностей сознания можно назвать глобализацией экономики. Глобальная экономика нуждается в упростительном смешении сознаний, носителем которого является средний класс. Средний класс стоит в очереди в «Пиццу-хат», смотрит «Матрицу», читает «Властелина колец», покупает порошок «Тайд», мечтает о «Хонде», засыпает на противохраповой подушке. Будь его воля — он в Большом театре устроил бы казино, а в Зимнем дворце — элитный жилой комплекс. Прежде всех он любит себя и не думает о целом, элементом которого является. Поэтому ему показывают «Дом 2», «За стеклом», «Слабое звено» и юмор Петросяна.
Глобализм в экономике репрессирует локальное сознание, лишает человека субъектности, превращая его в биомассу, в носителя рабочей силы. Поэтому всякий глобализм антикультурен и антисоциален.
Благодаря глобализации экономика трансгрессирует, выходит за свои пределы, меняя свой смысл. Рыночной становится уже не экономика, а общество, естественной формой существования в котором является демагогия и коррупция.
Поскольку национальные государства ничего не могут противопоставить глобализации, постольку в этой ситуации возникает тоска по имперскому сознанию, по нерыночному обществу. Когда тоскуют по империи, тоскуют по тому, чтобы быть самими собой.
Империя — это один из плодотворных способов разрешения конфликта между глобальным и национальным. Поскольку Россия является огромной неклассической империей по своему смыслу, постольку ее экономика должна нести на себе бремя этой огромности. И пока экономика несет на себе эти тяготы, она является имперской. Или, если угодно, национальной. А как только она сбросит с себя эти тяготы, она станет прагматической, глобальной, сделает ненужными всякие локальные непрозрачности империи, включая сознание как малых, так и больших народов империи.
Так вот для того, чтобы не произошло смесительное упрощение сознаний и культур, нужно имперское сознание. Нужно сознание важности существования России как империи.
Поскольку Россия — это не национальное государство, постольку мы решаем всегда наднациональные задачи. Без миссионерских проектов Россия перестает существовать. Она рассыпается. А для того, чтобы осуществлять их, нужна имперская экономика.
Всему миру Россия известна как империя модерна. Проблема же состоит в том, удастся ли России сохранить себя как империю в эпоху постмодерна. Чтобы реализовать этот проект, потребуется научиться мыслить власть вне связи с государством, структурируя бессознательное как язык производства. А это значит, что нужно искать в православии пределы языческому культу денег.
Третий путь
Современное мышление состоит из бинарных понятийных структур, которыми создаются ловушки в виде пустот неполноты. Одной из таких ловушек, или химер, является отношение между капитализмом и социализмом. Выход из бинарных ловушек получил название третьего пути.
Третий путь — это непрерывно возобновляемое стремление ускользнуть из химерического пространства, создаваемого бинарными структурами и достигнуть центра. При этом центр понимается не в качестве точки, равноудаленной от крайностей, а в качестве неразвернутых еще противостояний, в качестве виртуального состояния. Любое бинарное отношение структурируется, то есть движением к одному полюсу полагается существование другого полюса. Достигнуть центра, двигаясь по третьему пути — это значит оставить крайности, бинарные полюса неопределенности.
Вот на таком выходе из бинарных оппозиций и возникает третий путь, или моральная экономика. Философия хозяйства, возникающего на этом пути, резюмируется в нескольких тезисах.
Во-первых, хозяин в хозяйстве необъяснимо являет себя и также необъяснимо исчезает. И в силу этой необъяснимости он перестает быть субъектом, а хозяйство перестает быть объектом. Мерцание хозяйства, скорее, указывает на некий тип жизни, чем на определенную методику ведения хрематистики.
Во-вторых, в хозяйстве возможно и необходимо мистическое касание земли. Этим жестом касания рождается крестьянин, но уже не как экономическая категория, а как археоавангард жизни. Оторвать крестьянина от земли — это значит лишить хозяйство софийности.
В-третьих, процессы хозяйствования, скорее, выразимы не в субъектных терминах, а в аналогах медиального залога, в бессубъектных структурах и безличных выражениях: не я строю дом, а дом строится, не я веду хозяйство, а хозяйство ведется.
В-четвертых, в хозяине личностные структуры неотделимы от структур рабочей силы, а место работы совпадает с домом, если под домом понимать несимулятивное пространство подлинного.
К пониманию моральной экономики я пришел в результате чтения работ И. Стебута. В воспоминаниях Стебута есть один забавный эпизод, относящийся к пореформенной жизни в России. В те времена многие были увлечены идеями прогресса, экономической эффективности и всеобщего благоденствия. Стебут решил сдать крестьянам часть принадлежащих ему земель в аренду. Договорились об арендной плате. Спустя какое-то время Стебут снизил арендную плату, рассчитывая на то, что крестьяне могут взять в аренду больше земли. Но произошло другое: крестьяне соразмерно снижению арендной платы уменьшили количество арендуемых земель. Этот факт можно описать в терминах рациональной экономики, то есть предполагая отделение рабочей силы от личностных структур, места работы — от дома, средств производства — от производителя. И тогда действие крестьянина нельзя не представить как действие иррациональное, а самого крестьянина нельзя не обозначить как человека патологически ленивого.
Но этот же факт можно описать и в терминах моральной экономики, то есть экономики семейного трудового хозяйства. Во-первых, это хозяйство строится не в терминах экономической эффективности, а в терминах морали. А это значит, что в нем нет места зарплате. Мотивы хозяйственной деятельности коренятся не в прибыли, а в воспроизводстве типа жизни, в котором в свою очередь на первый план выступает соразмерность напряжения труда и удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи.
Внутри моральной экономики возможно несакральное отношение к собственности. Так, Киреевского занимал один эпизод, который превзошел недалеко от его поместья. Крестьянин нарубил лес, погрузил его на телегу и повез к себе в деревню. Его остановили и стали укорять за кражу господского леса. Когда крестьянина назвали вором, он пришел в ярость, уверяя, что никогда в жизни ничего не украл чужого. Тогда ему указали на лес. Ну, это другое дело. Ведь лес же он ничей. Он божий. Его никто не сажал, за ним никто не ухаживал. Поэтому лес для всех, как воздух. А вот если бы к нему был приложен труд, тогда другое дело. Тогда речь могла бы пойти и о воровстве.
Таким образом, в моральной экономике — собственность связана с трудом. Но точно так же крестьянин относится не только к вещам, но и к словам. Слово не свято. Оно принадлежит крестьянину на правах его собственности. Он слово дал, он слово взял. Правда невербальна. А потому ложь словесная совместима с абсолютной правдивостью.
С помощью одних лишь категорий капиталистического производства мы не в состоянии осмыслить действительность, поскольку очень б?льшая часть хозяйственной жизни, в частности б?льшая часть сферы аграрного производства, основана не на капиталистических, а на совершенно иных принципах, началах семейного хозяйства. В семье отсутствует категория зарплаты. В ней имеется свой специфический мотив хозяйственной деятельности, а также свое понимание рентабельности. Как известно, большей части крестьянских хозяйств России и большинства неевропейских и даже многих европейских стран чужды категории наемного труда и зарплаты. Выражения «семейное хозяйство», «трудовое хозяйство», «трудовое семейное хозяйство», «семейное трудовое хозяйство» будут означать хозяйство крестьянина или ремесленника, в котором не используется наемный труд, а напротив — используется труд исключительно членов этого хозяйства.
Что нас заставляет смотреть на мир как на хозяйство? Во-первых, скорость. Чудовищная скорость смены одного события другим. Во-вторых, масса. Материя того, что сдвинулось, переместилось и оказалось не на своем месте, стала так велика, что дух приблизился к нулевой отметке. Стал бесконечно малой величиной. В скорости время выходит за пределы своего бытия. Капитализм делает все события несвоевременными, всю материю неуместной. Событийность бытия обессмысливает всякий смысл. Такова природа того, что загипнотизировало все человечество. Такова природа капитализма.
Вот как говорит об этом С. Булгаков: «Человек в хозяйстве побеждает и покоряет природу, но вместе с тем побеждается этой победой и все больше чувствует себя невольником хозяйства»16.
Я хотел бы обратить внимание на то, как Булгаков строит свою мысль. Он строит ее в дискурсе абсурда. Нонсенса. Ведь побеждать и одновременно побеждаться победой — это нонсенс. Чепуха. Тем не менее мы не сможем не увидеть эту чепуху мира, если будем смотреть на него со стороны софийного хозяйства.
Или вот еще одна мысль Булгакова. Она звучит так: человек в хозяйстве покоряет Природу. Человек, который покоряет, не хозяин в хозяйстве. Он титан. Самозамкнутая личность. Тот, кто самому себе дает закон. А если ты полагаешься на себя, то тебе не нужен Бог. Забота о самом себе исключает трансцендентный источник смысла хозяйства.
Хозяин — не титан. Не личность, а тот, кто в себе оставляет место для другого, для со-творчества и благодати. Хозяин в хозяйстве становится богом по благодати, а не менеджером. Его поведение нельзя описать по модели целерационального поведения. Он делает не то, что выгодно, а то, что хочется, полагаясь на инстинкт и навык. И вот эти-то инстинкты и навыки утратили свою непосредственность. Началась, как сказал Булгаков, эпоха «экономического гамлетизма». Отныне экономисты празднуют свой бенефис.
1. Каждому экономисту нужно суметь превзойти экономический материализм. Экономика не является той последней реальностью, за которой более ничего нет.
2. Хозяйство — наиболее непосредственное, близкое, привычное. Но это не значит, что оно понятно. Не понимая природу хозяйства, нельзя понимать им что-то другое.
3. Когда-то нужно будет решить, что более фундаментально: человек или хозяйство? Нужно ли понимать хозяйство как функцию человека. Или же нужно истолковывать человека в терминах хозяйства? Согласно Булгакову, человек выше хозяйства.
Что же такое хозяйство и кто такой хозяин?
В хозяйстве человек осуществляет свою индивидуальность. Преодолевает свою абстрактность. Поэтому лишить человека хозяйства — значит лишить его свободы.
Бессмысленно сводить жизнь людей к хозяйственным интересам и мотивам. Ведь еще существуют и волевые корни жизни. Волевые корни мышления. Иначе говоря, в мире есть вещи, которые существуют потому, что мы хотим, чтобы они были. А не потому, что в их существовании кто-то хозяйственно заинтересован.
В центре философии хозяйства стоит не экономика, а антропология. Необходимость познания человеком себя в мире и познания мира в себе.
Россия после модерна
Безусловно, Россия самоопределилась в качестве империи. Но это самоопределение произошло в эпоху модерна. А на смену модерну пришел постмодерн. Империя трансгрессировала, изменила свой смысл. В чем суть этих изменений и что нам делать с русской империей?
Империи модерна завоевывают территории, присоединяют новые земли. Они имеют дело с качеством, с органикой, с телами, различия между которыми носят глубинный характер и описываются в бинарных терминах.
Для империи важна универсальность, всеобщность, источником которой является разум. Разум в качестве империи обращен не к себе, а к тому, что вне его, что существует не по законам разумности, а по каким-то иным неимперским правилам. Разум устраивает репрессии по отношению к неразумному, особенному, единичному. Но в эпоху модерна мир еще был переполнен всякими локальностями, органикой. И от репрессий империи еще можно было спрятаться в зарослях единичного, в непрозрачности почвенного. Например, тебя империя захотела вытащить на свет сознания, а ты от нее сбежал в деревню, в глушь, в семью, к себе. Или еще дальше: на Дон, на Юг, к Тихому океану. И там, вдалеке, в твоей голове появлялись мысли, которые существовали по законам твоей головы, а не по законам обезличенного разума империи. За непроницаемостью локального скрывалось внутреннее. Проходила граница между сознательным и бессознательным. Империи разума можно было противопоставить национальное государство, классовое сознание, корпоративную этику, чувство собственного достоинства. В конце концов империя останавливалась у ворот земства, перед религиозными и половыми различенностями, в складках которых можно было скрыться, переждать, чтобы набраться сил жизнеспособного целого. В эпоху модерна жизнь еще бросала вызов разуму, поднимая бунт и добиваясь успеха. Империи модерна еще сами были содержательными и поэтому несли в себе некоторую непрозрачность. У них были свои границы и территории, свои языки и центры власти. Империи постмодерна разлагают. Они детерриториализованы. Их поле действия — сознание, в котором устанавливается механизм серийного, монотонного различения. Они работают с поверхностью, не замечая качества.
После модерна все изменилось. Деревни исчезли. Семья разрушилась. Регионы потеряли качество. Сословия — почву, а человек — достоинство. Постмодерн стирает различия между сознанием и бессознательным. Бессознательное, утратив контроль над сознанием, вовлекается в процесс производства. Производится все: и сознание, и бессознательное. Все становится языком. Постмодерн окружает человека соблазном, редуцируя его к атомарным желаниям.
После модерна из империи ускользнула всякая содержательность. Она стала чистой универсальностью, разумом как таковым. Вместе с содержательностью ушло бинарное строение ума, ушло напряжение, существовавшее между центром и периферией, трудом и капиталом, левым и правым, силой и бессилием. В империях модерна есть север и юг, запад и восток. Они пространственно ориентированы. Империи постмодерна лишены пространственных измерений. У мысли нет ни севера, ни юга. У стоимости нет территории.
Империи постмодерна возникают в точках неразличенности, благодаря которым можно разложить любую структурированную реальность. Например, труд структурируется и осознает себя как некоторую целостность, если различается производительный труд и непроизводительный. Непрерывно удерживая это различие, нельзя труд не противопоставить капиталу. А если это различие не удерживать, то можно разложить целостность труда. Империи после модерна строятся на разложении трудового общества, на изменении социального статуса работника. Приравняв бессознательное к языку, империя берет под свой контроль сознание, лишая рабочего экрана непрозрачности, нейтрализуя возможности его внутренней эмиграции. Его отщепенства. Рабочий, оставаясь рабочей силой, перестает быть ее субъектом. Теперь не он, а его биомасса стала носителем труда. Труд, как нашинкованная капуста, имеет потребительские свойства, но перестает быть цельным, труд теряет способность к сопротивлению. Новые империи платят не за труд, не за служение, а за существование. Биомасса труда нуждается не в политике, а биополитике. Капитал же испытывает нужду не в государстве, а в планетарной сети серийных различений сознания.
Cамовозрастающей стоимости противостоит не труд, а сама стоимость. Всякая же стоимость уже детерриториализована, то есть она делает отличие себя от самой себя способом своего существования. Капиталу мало собственности на средства производства. Ему нужна собственность на трудовую биомассу. Империи после модерна нуждаются в новых крепостных, в новых работах. Они устраняют всякую локальность. От них некуда скрыться. У них всевидящее око и во все проникающие детерриториализованные щупальца: рынок, СМИ, мода, реклама, капитал. Новые империи не нуждаются в органической силе, в земле. Все опространствленные, органические образования прежних империй гибнут как динозавры. Их крошат и нарезают, редуцируют к молекулярному уровню. Например, федерализм используется империей после модерна не для того, чтобы создать непрозрачность локального, а для того, чтобы измельчить целое в некое желе, в биомассу, удобную для использования. Этим же целям служит и выделение 88 субъектов России.
С исчезновением органических локальностей исчезает и сама реальность. На месте реальности образуются пустоты, а первым действием в пустоте является нулевое действие. Новые империи нуждаются в пустоте, которая больше, чем ничто, но меньше, чем бытие. Современная Россия недостаточно пуста для новой имперскости. В ней не все редуцировано к нулю.
Новые империи деантропологизируют мир, лишают человека метафизических качеств. У человека нет больше чувства меры. Он не видит различий между приличным и неприличным. Империи постмодерна редуцируют внутренне, разлагая непрозрачности сознания. В результате разложения образуется качественно однородная антропологическая масса. Желе из желаний.
Русская империя должна или приспособиться к постмодерну, или обессилить его силу. Приспособившись, она потеряет всякий смысл. Бросив вызов, она должна научиться связывать энергию неравенства, коренящегося в почве, в органике локального, в непрозрачности единичного.
Модерн закончился. Начался постмодерн. Европа агонизирует. Она становится Империей. Призрак империи бродит по России. Русские сосредоточиваются.
Переживет ли Россия постмодерн
То, что Россия больна, — ясно всем. А вот чем она больна, — это вопрос. Это непонятно. Весь XX век Россия избавлялась от структур традиционного общества. И избавилась. Построила однородное социальное общество, в котором не было языковых перегородок, социальных барьеров. А это значит, что случайную болезнь какой-либо социальной группы нельзя было локализовать, изолировать. И это заболевание могло захватить все общество, заразить всех людей.
Первой начала раздваиваться интеллигенция, которая, используя средства массовой информации, заразила весь народ. В конце 80-х — начале 90-х годов «шизовали» все: министры и дворники, академики и артисты, домохозяйки и шахтеры. Все как с цепи сорвались. Никому ничего было не жаль: ни империи, ни СССР, ни Украины, ни Кавказа. Мы — рязанские. А из Франции доносились слова Ж. Делеза: «Разрушай, разрушай. Шизоанализ идет путем разрушения, его задача — полное очищение бессознательного, абсолютное выскабливание».
Ну, мы и выскабливали, очищали. Сначала бессознательное, затем сознательное. В результате мы оказались без памяти, без традиций, без государства. Франция все-таки была структурирована социальным неравенством. В ней шизоанализ был локализован в университетах. А у нас не было противоядия. Мы все заразились идеологией социальных отщепенцев. А поскольку носителем эстетики постмодернизма является извращенец, постольку извращения нужно еще более извратить, чтобы дистанцироваться от постмодернизма, структурируя социальную однородность.
Итак, в каком случае Россия переживет постмодерн?
1. Если она сможет оттеснить на периферию фигуру интеллигента-отщепенца. Сможет построить пропасть между извращенцем и властью.
2. Если научится мыслить власть вне связи с государством и структурировать бессознательное как язык производства.
3. Если империя будет самовоспроизводиться вне указания на свои территориальные границы.
4. Если вспомнит, что она — цивилизация крестьян, а не торговцев. Поэтому в ней нагромождение тел. Событий и вещей. У нас тела. В Европе — знаки телесности. Всеобщий эквивалент. У нас события. У них — знаки событий. Сообщения. А сообщение важнее сообщаемого. События. При столкновении тела со знаком телесности побеждает знак. Ибо тело отсылает к самому себе, а знак отсылает к другому знаку. Первое — конечно. Второе — бесконечно. А бесконечность измотает любую конечность.
5. Если не забудет, что она, Россия, полюбила Бога. И не полюбила человека. Она памятников ему не ставила. В человеке важен отклик. Отзывчивость, а не личность. Не права человека, а установленность к Богу. Признавая права человека, мы ограничиваем в правах Природу и Бога. И поэтому гуманисты разоблачают Россию. Как некий симулякр.
Россия потому и симулякр, что она ничего не начинает. В мистериальном поле вяжутся концы, а не начала. Нам никогда не удается связать концы с началами. Ибо если мы это сделаем, мы перестанем быть Россией. Мы — похоронная команда. Мы провожаем в последний путь. Социализм, капитализм, гуманизм, антропологизм — все это мы уже похоронили.
Россия — цивилизация человеческих, слишком человеческих содержаний. У нас взаимные подмигивания. Внутренние понимания. Знание изнутри, а не порядок институций. У нас теплота неформальных отношений, а не холод права.
Россия — радикально амбивалентна. Например, Европа отказывается от национализма. Пытается отказаться. Мы отказались от нации. Мы — не нация.
Современное общество децентрируется. На месте центра образуется дыра. Пустое место. К этому месту устремляется периферия. Второй план выступает как первый. И опустошается. Социальное бытие становится пустым, а мир — плебейским. Понижение уровня человеческого в человеке заставляет нас закидывать образовавшуюся онтологическую дыру различными содержаниями. Заштопывать ее. Но нет никакой надежды на успех. Ибо своими действиями мы только ускоряем процесс опустошения.
История имеет иудохристианские корни. Греки приспосабливались к космосу. Мы — к истории. Но ничто не вечно. Христианство слабело. История угасала. И вот христианская вера совсем ослабла. А мы стали свидетелями конца истории. И что же делать нам? Как жить, к чему приспосабливаться? Уже Н. Данилевский поставил под сомнение достижения цивилизации. Его вывод прост. Держитесь за «почву», традиции и быт. А там видно будет. Так думаю и я.
Есть ли у России столица
После переворота 1917 г. в России не было столицы несколько лет. Лишь в 1930 г. столицей России (СССР) была официально объявлена Москва. Случилось то, о чем мечтали Аксаков и Хомяков. Но радоваться этому было уже некому.
Русские — странный народ. Была у нас столица в Киеве. Но нам показалось, что здесь много тепла и мало холода. И столица переехала в Москву. В Москве много суши, мало топи. И тогда, как говорит Гоголь, Бог дал нам Петербург.
Если Москва нечесана, то Петербург щеголь. Москва домоседка. Петербург — проныра. Москва корректная. Петербург — иностранец. В нем нет ничего русского. Петербург построили среди чухонцев, за пределами эйдоса русского народа. Петербург — это наша собственная Европа. Он отравляет нашу жизнь отходами европейской цивилизации. Одна надежда была у нас на Москву, на то, что она-то пронесет мысль о всей русской земле.
Прошло время, и Москва стала нам чужой. Нерусской. Неимперской. В ней прижились и размножились люди неизвестной веры и неидентифицируемой культуры. Из большого села она стала городом-космополитом. Городом, который живет сам по себе.
У России больше нет столицы. Нет головы. И огромное тело России бьется в конвульсиях, разрываемое на части своими врагами. Но есть еще надежда на Сибирь. На юг. На имперский импульс народа. Эта надежда умрет последней. Конечно, юг России нуждается в империи, как нуждается в нем Сибирь, Украина, Дальний Восток и Белоруссия. Империя нуждается в юге, в естественном пределе. Без империи возникает напряжение перекрестка. Имперское сознание стало исчезать в России в конце XIX века. И исчезло. Демократизировалось…
Резюме
1. Призрак империи бродит по России.
2. Начинается эпоха постмодерна и нового язычества в политике, экономике, культуре и цивилизации. Главное действующее лицо в трудовом обществе — симфонический индивид. В традиционном обществе — это крестьянин. В индустриальном — рабочий. В экономике знаний — интеллектуал. В обществе постмодерна главное действующее лицо — симулянт, имитатор.
3. Политикам России нужно опираться не на нацию, а на государство.
4. Конечно, можно отделить церковь от государства и школу — от церкви, но нельзя отделить русского человека от православия. Православие — это то, что бесформенному русскому человеку придает форму. Наша система образования должна базироваться не на болонских соглашениях, а на знании основ православной культуры.