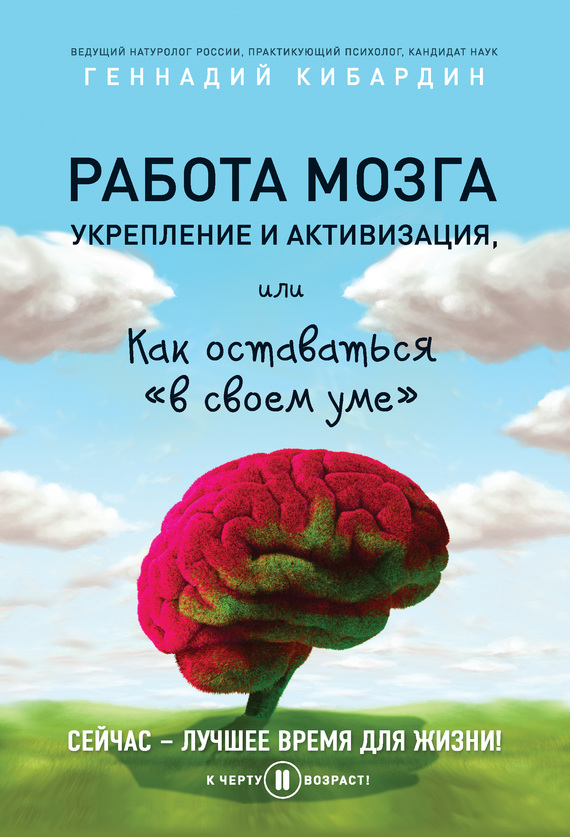5.6. Политический аутизм
Политическое появляется в тот момент, когда мы ясно осознаем, что они — это не мы, а мы — это не они. «Мы — это не они», — говорю я вслед за К. Шмиттом, глядя на политиков. Политик — это человек, которому чуждо сострадание или сопереживание людям. Политик вне морали. У политика эстетический взгляд на вещи. Лично его по большому счету ничто не касается. Он всегда сумеет создать для себя ситуацию вненаходимости. Политическое требует вненаходимости. Все эти мысли пришли мне в голову в связи с пожарами.
Пожары
В пожарах, охвативших всю центральную Россию в 2010 г., горели деревни, леса и брошенные людьми торфяные разработки. В огне гибли люди. Появились тысячи погорельцев. В городах стали умирать от удушья. Говорят, в Москве в эти дни смертность возросла в два раза.
Полтора месяца страна дышала отравленным воздухом. Гарь и дым проникали в наше нутро и изнутри уничтожили нас. Вместе с гарью и копотью в наши расплавленные мозги проникала мысль о единочестве русской жизни.
Единочество русской жизни
Единочество — это внешнее единство, оставляющего каждого из нас внутри своего абсолютного одиночества. Россия — это лучшее, что сделали русские за всю свою историю. Но это лучшее мы теряем. Теперь мы точно знаем, что воздух России отравлен, но это единственный воздух, которым нам дано дышать. И мы дышим этим воздухом, наблюдая из своего одиночества за тем, как медленно и обреченно вымирает наш народ и умирает наше государство. Единочество смерти парализует нашу волю. Мы умираем так же, как когда-то в единочестве погибал экипаж подводной лодки «Курск».
Вокруг нас уже рыщут посланцы иных народов и иных культур, предвкушая возможность выполнения предназначенной им судьбой роли социальной гиены, пожирателя исторических трупов.
Прощание с соборностью
В августовские дни 2010 г. сгорели последние остатки былой надежды на русскую сборность, на синергию народа, государства и церкви. Соборность — это хрупкий цветок русской культуры, выросший на евразийских просторах и сломленный ураганом агрессивной толерантности, зародившейся над Атлантическим океаном. Солидарность с погорельцами — это, пожалуй, все, что осталось от нашей соборности. Ведь собор — это не коллектив, не социальная группа, это способ существования людей, центр которых смещен из «я». Собор — это «мы». А «мы» — это «я» за пределами самого себя. Что может объединить людей с «я», которое смещено из центра? Только вера, надежда и любовь.
И вот этих людей у нас больше не осталось. Они куда-то испарились, исчезла та Атлантида, на которой они жили, а мы остались, но мы другие. У нас центр стоит на месте, наш центр — это «я». А «я» — это уже не «мы». В наших сердцах нет сегодня ни веры, ни надежды, ни любви. Русские перестали быть русскими, мы становимся россиянами. Россиянин — это не зрелый плод истории, а простой продукт политтехнологов и социальной инженерии, за ним нет никакой органической жизни. Поэтому у нас теперь не собор, а броуновское движение атомов. Что нас может объединить в группу? Только интерес, только корысть. Россияне — это не народ, это электорат, население, номада, которая не знает ни своей истории, ни своего имени, ни своей родины.
И мечемся мы из стороны в сторону от одного катаклизма к другому, спрашивая себя об одном и том же — за что?
Разбойники
Существует два ответа на этот вопрос. И оба они принадлежат разбойникам, которые висели на кресте рядом с Христом. Один из них сказал Христу: «Слушай, если ты Бог, то тогда, что мы здесь делаем? Зачем мы висим и мучаемся? Спаси себя и нас, и дело с концом».
Другой пристыдил первого. Мол, не трогай Христа, он здесь ни при чем, на нем нет вины. А мы с тобой здесь достойное по делам нашим принимаем.
Первый разбойник — язычник, прообраз будущего атеиста. Для него мир — это естественный процесс, изменить который может только чудо. Но чуда, как он понял, не бывает. Второй разбойник — христианин. Для него мир — это реальность, причиной которой ты сам являешься. Поэтому все, что в мире происходит, происходит с твоим участием, и ты за это отвечаешь.
Два взгляда на горящую Россию
Европа с едва скрываемым презрением смотрела на горящую, богатую Россию, из вежливости отправляя ей гуманитарную помощь. Америка и Китай молча наблюдали за происходящим.
Конечно, пожары были и будут всегда. В Европе недавно горела Греция, но в Греции ловили поджигателей. Там никто не ставил под вопрос прочность социальных устоев. Другое дело мы. У нас пожары сразу же вызывают вопрос о легитимности существующих порядков, о праве править, о дееспособности всего политического класса. И прежде всего его передового отряда — чиновников. Это придает пикантность нашим пожарам. За чем наблюдает Запад и Восток? За тем, не пошатнется ли русский гигант, не глиняные ли у него ноги. Смотрят не на пожары, а на власть: не сломает ли она себе шею.
Два взгляда на пожары
Власть пытается представить пожар как природную стихию, как форс-мажор. У власти взгляд первого из разбойников. Логика ее такова: если пожары — это природный катаклизм, то с ним должна иметь дело не власть, а МЧС. Хотя МЧС создавалось для другого — для защиты людей в населенных пунктах. МЧС — это, в конце концов, модернизированная система гражданской обороны, созданной в СССР.
Для власти тушение пожара — это технологический процесс, который, правда, сами мы в силу технологической деградации организовать не можем.
Некоторая часть людей видит в пожарах не природный катаклизм, а наказание за грехи, возмездие за нарушение правил человеческого общежития. Этим людям близки слова второго разбойника, первым из людей попавшим в рай. Логика их такова: за маленьким пожаром рано или поздно придет большой пожар, в котором сгорит весь мир, чтобы очиститься. Этот пожар не залить водой из Оки, не загасить специальными средствами.
Антропологическая деградация
Первая причина, следствием которой являются лесные пожары, — это антропологическая деградация. Эта деградация началась в тот момент, когда наше «я» стало точкой отсчета в наших мыслях и делах. Оно заслонило нас от Бога, и мы потеряли веру, а также традицию, ибо любая традиция не начинается с «я». Быть в традиции — значит всегда быть готовым к смещению своего «я» из центра. А это значит, что тебе в каждый момент надо сознавать, что ты не все можешь.
С потери этого сознания начинается история русского своеволия и одновременно история присвоения свободы. В Европе свободу присоединили к политике. Русские извлекли другой опыт. Мы присоединили свободу к быту. В Европе возникла идея политической свободы, в России стала доминировать идея бытовой свободы. Русская разнузданность рождена бытовой свободой.
В отличие от Европы мы не прошли дисциплинарный путь от традиционного общества к модернистскому. У нас, видимо, были плохие дрессировщики, поэтому в России не возникло современное общество. Правда, некоторое общество у нас все же было, но оно возникло в результате гражданской войны и просуществовало недолго, 70 лет, ибо было предано его руководством.
Сегодня у нас нет никакого общества. Мы — неструктурированная протоплазма. У нас нет даже выдрессированной рабочей силы, нет профессионалов. Чтобы создать из крестьянина рабочего, в начале ХХ века в России нужно было создать систему штрафов, которая действовала до 1917 г. Суть ее заключалась в том, что если рабочий плевал на пол, с него брали штраф, если шел по газону — штраф, приходил на работу пьяным — штраф, бросал окурок в неположенное место — штраф, ругался — штраф, допускал брак — штраф. Когда рабочий подходил к кассе, получать ему было нечего. А у него семья, дети. Штрафы были воплощением плодотворного насилия, а не разгулом коррупции.
Сегодня мы можем все. У нас начинают пить и курить уже в детском саду. Пьют все: девочки и мальчики. Бутылки, окурки и спички летят налево и направо. Мы создаем вокруг себя горы мусора. Нам никто не указ. Мы жарим шашлыки в заповедных местах, мы разводим костры всюду, где нам заблагорассудится, если захотим, то устроим барбекю прямо в Кремле, и нам не придет в голову убрать за собой мусор. Нам ничего не жалко, мы ничего не боимся. Мне иногда кажется, что немало нечистых на руку лесозаготовителей поспособствовали возникновению лесных пожаров.
Поэтому отравленное лето 2010 г. нам нужно принять в качестве того, что достойно нашей разнузданности. Не раз уже было замечено, что сам по себе, без формы, без царя в голове русский человек — дрянь.
Социальная деградация
Вторая причина жаркого лета 2010 г. — социальная деградация. Поскольку в России нет общества и законов, постольку у нас есть политики, которые необъяснимым образом являют свою милость и также необъяснимым образом лишают нас ее.
Общество начинается там, где заканчиваются милость политиков, сила эмоций и чувств и начинают работать социальные машины. Социальные машины — это последовательность действий, внутри которых не допускается отсыл к человеческому, к эмоциям и чувствам. Пример. Однажды мой давний знакомый попал из мира бытовой свободы в мир разумного порядка, то есть из России в Германию. В Германии он жил в небольшом городке, и все было бы хорошо, если бы ему однажды не пришла в голову мысль вынести мусорное ведро. Дело в том, что в Германии мусорные баки заполняют до шести вечера, а моему приятелю в силу широты русского характера захотелось это сделать после шести. Он взял мусорное ведро, отошел подальше от своего дома, нашел бак и выбросил в него мусор. Не успел он, довольный, пройти десять шагов, как около него остановилась полицейская машина. Ему выписали штраф. Так работает социальная машина в Германии.
Приведу другой пример. Я тоже живу в небольшом городке. Подо мной на первом этаже жили наркоманы. Они варили наркотики, используя для этого ацетон. Однажды у них что-то не получилось, и возник пожар. Приехали пожарные и милиция, пришел участковый. Пожар потушили, причину установили. Наркоманы продолжали варить наркотики. Их ацетоном дышал весь подъезд. Иногда у нашего подъезда останавливалась милицейская машина, потом она куда-то уезжала по своим делам.
И вот однажды, измученный ацетоном и жарой этого лета, я позвонил по 02. Трубку долго не брали, потом кто-то ответил мне. Я рассказал о наркоманах. Дежурный стал дотошно допрашивать меня: кто я, откуда, каковы мои координаты, нет ли у меня в роду больных шизофренией, — я бросил трубку. Через некоторое время я вновь позвонил по 02. На этот раз мне сказали, что у них все наряды на выезде, а мне лучше обратиться к участковому, телефон которого мне не дали. Я позвонил в ФСБ. Сонный голос сообщил, что их это не интересует, это находится за пределами их компетенции. В конце концов, я отыскал участкового, который сообщил мне, что он работает недавно, что он за всеми не может уследить, что у него нет даже бумаги, на которой он мог бы распечатать свой телефон и развесить по подъездам.
Моя ситуация разрешилась тем, что наркоманы умерли. Так работает социальная машина в России. То есть у нас есть милиция, есть ФСБ, есть наркоконтроль, есть чиновники и менеджеры. Но у нас нет социальных машин, и поэтому у нас нет общества.
Герои и русская разнузданность
Когда в нашей стране начались пожары, я понял, что этим пожарам не противостоят социальные машины. Люди могут им противопоставить только свои чувства и эмоции. Иногда мне кажется, что единственная работающая социальная машина в стране — это социальная машина по какому-то особенно ловкому разворовыванию денег. Грустно наблюдать, как чиновник просит своих подчиненных не красть деньги, которые выделены не для ерунды какой-нибудь, а для погорельцев.
В государстве, в котором не работают социальные машины, люди предоставлены своей разнузданности, своим эмоциям и чувствам. В этой разнузданности может родиться только русский бунт, слепая злоба и агрессия, которые быстро находят ответ на вопрос о том, кто виноват. Виноват в том, что у нас нет лесников, нет лесной охраны. В деревнях нет бочек с водой и песком, нет щитов с багром, ломом и лопатой. Виноват в том, что нет просек в лесу, что бросили без присмотра торфяники, что не сохранили пожарные водоемы, не обеспечили связью деревни, что лесопромышленников заставили заниматься охраной леса.
Страна, в которой не работают социальные машины, в которой пульсируют злоба и агрессия, нуждается в героях. Герой — это человек, который своими личными качествами пытается залатать социальные дыры. За время тушения пожаров у нас появилось много новых героев, у нас не появилось главного: структурированного общества, мы как были, так и остались протоплазмой.
Социальные машины не нуждаются в качествах людей, в героях, ибо эти машины и недобродетельных людей заставляют делать добро. Почему в России нет законов? Потому что в России законы падают, как снег на голову. Мы их не ждем, мы не хотим, чтобы они были, а они появляются. Мы не хотели трехзвенной системы управления, а она появилась. Мы не хотели лесного закона, оставляющего лес без присмотра, а он был принят. Мы не хотели чубайсовских реформ в энергетике, а они прошли. Мы не хотели реформы образования, а нам ее навязали. Мы не хотим менять Академию наук на «Сколково», а, видимо, придется. Мы не хотим проводить олимпиаду в стране, а нас не слушают. Мы не хотим, чтобы министром финансов был Кудрин, но на нас никто не обращает внимания. Мы хотели Глазьева или Примакова видеть во главе правительства, а нас не заметили. Мы хотим других законов для страны. Но они, видимо, нужны только нам.
Так возникает пропасть между нами и ними, между народом и властью. Ведь если мы не хотим, чтобы какие-то законы были, то это значит, что никто из нас не будет действовать ради закона. В лучшем случае мы будем действовать по закону. Но для этого у власти должна быть сила, которая заставила бы нас подчиниться. Но у политической власти России сегодня нет такой силы. Поэтому следующей причиной летнего кошмара является политическая деградация России.
Политическая деградация
Единственное, что нас, русских, сегодня может объединить, это либо интерес, тяга к всеобщему эквиваленту, либо страх, сила насилия. Либо одно, либо другое. Политическая власть России выбрала первое, уклоняясь от второго. Она выбрала деньги как абсолютную ценность и всеобщий регулирующий механизм. Она выбрала и промахнулась, потому что деньги могут делать только деньги, но сами по себе деньги заводов не строят, пароходов не создают, технологий не изобретают. Чистым пространством, где деньги делают деньги, является, с одной стороны, спекуляция, с другой — коррупция.
На фоне фундаментального выбора власти возникла зловещая фигура менеджера, который почему-то решил, что управлять — это значит, играть в управление, сидя на финансовых потоках. Поскольку деньги делают деньги, не будучи опосредованными отношением к труду и реальному движению товаров, постольку их движение спекулятивно. Вот это спекулятивное движение капитала и персонифицирует менеджер. Через спекуляцию и коррупцию менеджер и чиновник пытаются создать механизм социальных связей. В противостоянии менеджера и бюрократа заключено сегодня все богатство социальных отношений в России. То бюрократ прижмет спекулянта, то спекулянт отодвинет чиновника. Так они и живут. Реальная экономика для политического класса сегодня не имеет никакого значения. Политический аутизм современной власти состоит в том, что она боится реальности, а также в том, что она боится силы насилия. В России власть перестала быть силой, в России власть — это деньги. Хотя, конечно, деньги — это тоже сила, но все же это не сила власти, способной к насилию над чиновником и менеджером.
Вождь
Менеджер, вперив пустые глазницы в небеса, видит там только транзакции и финансовые потоки. Бюрократ видит символический капитал в дальнейшем продвижении по службе. Слепой ведет слепых, а страна горит. И мы тушим пожар ведрами, сделанными в Китае. Этот вывод неминуемо следует из событий лета 2010 г. Политическая власть России дискредитирована снизу доверху. Они все находятся под подозрением. Никому из них нельзя верить. А по России бродит призрак, призрак политического лидера, идейного вождя. Никто не знает, где, когда и как этот призрак материализуется. Но на него наши упования и надежды.