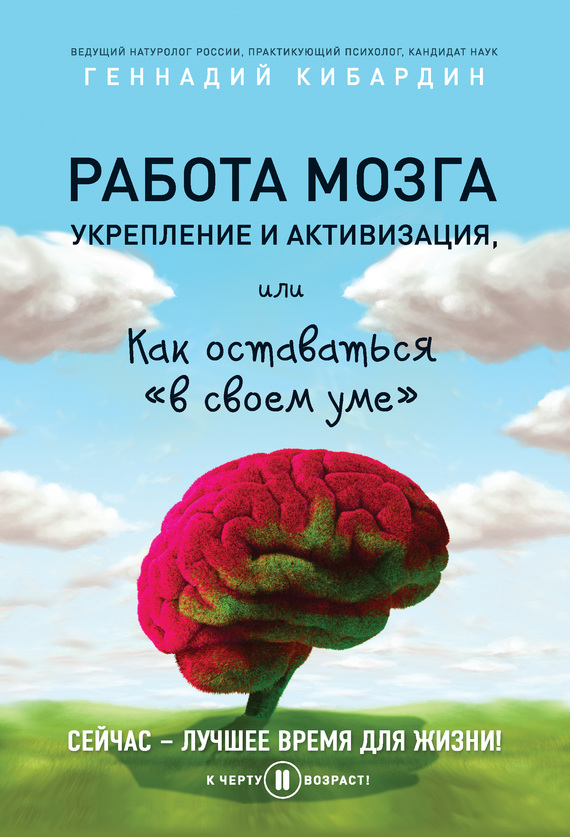5.4. О чувстве несправедливости в политике
Равным — равное, неравным — неравное. Эта мера, говорю я вслед за Платоном, ведет к справедливости. Если же неравным давать равное, то эта политика может породить чувство несправедливости у одних и чувство вседозволенности у других. Чувство несправедливости у русских стало формироваться еще в XIX веке (об этом рассказывает Ю. Ф. Самарин в «Письмах из Риги»).
Система неравномерного властвования
Россия — империя, то есть в качестве империи она должна была быть системой равномерного властвования. Мера власти для русских и мера власти для немцев должна быть одной и той же и в Риге, и во Владивостоке. Но когда Самарин в составе ревизующей комиссии приехал в Прибалтику, в остзейский край, он понял, что положение русских в Прибалтике не равно положению немцев. Русские, присоединив к России Прибалтику, стали иметь в ней один объем прав, а немцы — другой, больший. И эта неравномерность с тех пор непрерывно воспроизводится в России. В этой связи возникает фантазия, высказанная Достоевским в «Дневнике писателя»: ну что, если бы нас, русских, было бы 3 миллиона, а их, нерусских, 80 миллионов. Во что бы обратились тогда русские? Дали бы они нам сравняться с собой в правах?
Окраины притесняют русских
Деконструкция взглядов началась с ремонта комнаты, в которой жил Самарин. Оказалось, что отремонтировать ее можно, но русским эту работу поручать было нельзя. Они не были приписаны к цеху. Самарин обратился к знакомому купцу за разъяснениями. И тот ему объяснил. Дурак, мол, ты. Какая империя? Здесь же русские живут как люди второго сорта. Здесь правят бал немцы. Они граждане города. А русские — обыватели. Гражданином города может стать, во-первых, законнорожденный; во-вторых, немец; в-третьих, лютеранин; в-четвертых, сдавший немцу экзамен по торговле или ремеслу. Немцы завладели магистратом, то есть всеми должностями городского управления. Они начальники. Русские подчиненные. Магистрат, как Академия наук. Братство немцев предлагает ему кандидатов, а он выбирает свой состав. Захочет — выберет, не захочет — не выберет. Русских не хотели.
Граждане в свою очередь могли быть членами большой и малой гильдии. Купеческой и ремесленной. Русские в Прибалтике жили почти полтора столетия. И немногим удалось стать членами большой гильдии, которая в свою очередь делилась на три группы: простых членов, братьев и старшин. Так вот русское купечество могло состоять в простых членах. Но его никогда не принимали в братство. «Небольшое число граждан, — говорит Самарин, — немцев по национальности, составило братство, которое, ссылаясь на старинные привилегии, завладело всеми должностями городского управления, несмотря на то что оно составляет только пятидесятую или даже сотую часть всего числа русских обывателей»17. Все русское купечество составляло только один голос, равняющийся голосу одного гражданина, состоящего в братстве. «Мещане же и ремесленники греко-российского исповедания, — по замечанию Самарина, — не причисляются даже к малой гильдии и не принимаются в цехи»18.
Русские платили подати, исправляли городские повинности, а доходами города распоряжались немцы, магистрат. Вот обеднеет какой-нибудь член братства, а его для поправления своего состояния отправляют к городским бенефициям, или доходным местам. Русский не может быть биржевым маклером, а член братства может. Или вот браковщик. Выгодная должность, хлебная. Но православного к ней и близко не подпустят. Он не член братства. Вздумает православный судиться, а в суде немцы. И тяжбу ведут они только на немецком языке и по иностранным законам. Если даже русский судится с русским, то дело все равно ведется на немецком языке.
Чтобы стать мастером, то есть получить право открыть мастерскую, принимать заказы и работать на свой счет, нужно было обучиться ремеслу у местного мастера. А то, что ты получил образование в Петербурге, в расчет не принимается. Затем нужно было прослужить 2–3 года подмастерьем. После этого уехать на несколько лет на свободные заработки. Вернуться, сдать экзамен немцу, угостить всех мастеров, внести денежную сумму в городской фонд, и после этого ты мастер. Русские могли быть только учениками и подмастерьями.
Однажды русским печникам все это надоело. И они взялись за дело, то есть стали класть печи, несмотря на то что они не были приняты в цех печников. Вышел скандал. Мастера цеха попросили власти запретить православным дальнейшее отправление ремесла. Магистрат запретил. Русские направили жалобу губернатору. Тот вмешался. Кончилось дело тем, что 12 православных приняли в цех печников с условием, что каждый из них будет иметь не больше двух учеников и будет работать под надзором у немца, а также 5 копеек с каждого заработанного рубля они должны будут отдавать немецким мастерам цеха. Стоит немец, трубкой попыхивает, плеткой помахивает, а русские работают. И немцу за то, что он над ними стоит, они еще и 5 % барыша платят.
Как-то русские мещане потребовали свободы в отправлении торговых промыслов. Тогда суд их лавки и вовсе закрыл.
Конечно, прибалтийский дворянин пользовался своим сословным правом по всей России. А русский дворянин должен был вступить в рыцарство, и только после этого он мог пользоваться своими правами в Прибалтике. Самарин рассказывает, как остзейские дворяне русскую землю покупали. Они собрали деньги и решили купить земли, примыкающие к остзейским землям, но так, чтобы эти земли вошли в состав Прибалтики. Задумали. Сделали. Ничто им не мешает. Да на беду, что в том районе было поместье какого-то русского дворянина. И тогда остзейские дворяне направили в Петербург ходатайство, в котором испрашивалось разрешение включить в остзейский край и земли русского дворянина с условием, что этот дворянин будет в Прибалтике мещанином.
Самарин стал выяснять причины бедственного положения православных в Прибалтике. И три года выяснял, а потом написал семь писем к своим московским друзьям, в которых рассказал об увиденном в Риге. Он писал: «Систематическое угнетение русских немцами, ежечасное оскорбление русской народности — вот что теперь волнует мою кровь». Не мы их, а немцы нас победили. «И после мы повторяем в своих учебниках: остзейский край завоеван, остзейский край присоединен к России. Мне кажется, — писал Самарин, — Россия присоединена к остзейскому краю и постепенно завоевывается остзейцами»19.
Затем Самарин продолжил свое исследование и написал книгу «Окраины России». Эта книга была издана за границей. В России она была запрещена цензурой. И это негативное отношение власти к самой возможности формирования русского самосознания ставит вопрос об ущербности всех типов русской власти: царской, советской и, конечно, демократической.
Причины бедственного положения русских
У немцев был Фихте. У русских — Самарин. Но если «Речи к немецкой нации» Фихте создали национальное сознание немцев, то «Письма из Риги» не стали речью к русской нации. Они привели к движению два десятка человек в Москве и Петербурге, и стали причиной беседы царя Николая I с Самариным. На этом все и закончилось. «Письма из Риги» существуют как факт литературы, а не политики. Почему? Потому что у русских проблемы с волей к власти, по причине которой русские в остзейском крае не выступили с протестом, не организовали партию, не блокировали магистрат, не отказались от гражданского повиновения, а пресса не подняла шум. Герцен не забил в набат. Засулич не бросила бомбу в губернатора остзейского края. Правительство не собралось на экстренное заседание, царь не подал в отставку. Эта причина — смирение соборного человека.
Вот Самарин. Его письма — это не крик дословного, а обстоятельное научное исследование, ориентированное на поиски истины: «здесь сознаешь себя как русского и, как русский, оскорбляешься»20. Самая резкая фраза в его письмах звучит так: «Или мы будем господами у них, или они будут господами у нас»21. Если мы не будем русскими, нас сделают немцами. В России немцы должны обрусеть. Но энергия этого возгласа растворяется в громадных просторах России и в анонимной объективности. Она не действует. Ее не слышно.
Чтобы не стать немцем, Самарин отрастил себе бороду и тем самым выразил протест против порабощения имперского народа окраинными племенами. Конечно, это мужественный шаг. Ведь Самарин — камер-юнкер двора его Императорского Величества. А по указу царя дворянам запретили носить бороду, считая это подражанием Западу и неуважением к русской одежде. Бородатый дворянин должен был явиться в полицию и дать подписку о сбритии бороды. Самарин носил бороду до смерти.
Соборность
«Письма из Риги» подчеркивают особенность русского человека. Русские — люди имперские и одновременно соборные. Что значит соборные? Это значит, что мы исходим в своих действиях из доверия к людям. Мы не сомневаемся, мы знаем, что мир изначально добр. Мы не полагаем, что тот, кого мы впервые встретили, изначально зол и от него нужно ждать самого плохого. Мы свободу связываем с бытом. У нас, с одной стороны, быт, а с другой — метафизика. А как только соборный человек выталкивается из традиционной социальной ячейки, он теряется. Его бытовая метафизика терпит крах.
В Прибалтике он столкнулся с правилами эгоистического существования и растерялся. На первый план выступило смирение как условие его существования. Условием существования личности является свобода, а соборного человека — смирение. Но из смирения не рождается воля к власти. В нем образуется бунт, то есть нечто неожиданное для самого бунтующего. Русские в Прибалтике смиренно просили одинаковых прав для себя и для немцев. Немцы требовали привилегий. Напор корпоративно организованной протестантской личности разламывал соборную структуру русского православного человека, важнейшими элементами которой были: смирение, совесть, община, круговая порука, соборное сознание, традиция.
Для того чтобы выжить, русский принужден был делать замены: его совесть менялась на честь, круговая порука на личную ответственность, смирение — на свободу, соборное сознание — на сознание индивида. Вот этот факт Самарин и обозначил как факт превращения русского в немца. Русский мог оставаться русским только под защитой князя, царя. Империя была его панцирем, броней, защищающей от внешних воздействий. То есть русская империя была способом существования неорганизованных множеств соборного человека, его ответом на вызов корпоративно организованных личностей. Но защищенный извне, всемирно отзывчивый человек был не защищен от внутренних воздействий свободно ориентированных личностей. И в том, и в другом случаях он полагался на власть, на опору, которая держала его панцирь и обязана была следить за тем, чтобы под эту броню не попали существа, ломающие соборный механизм, отравляющие коммуникативные практики русского человека. А они попали. И Самарин об этом написал. Конечно, нашему народу было бы наплевать на власть, если бы он составил себе форму быта, независимую от власти. Но у соборного человека она зависима. И поэтому между народом и властью существует неписаный уговор. Власть держит панцирь. Народ терпит власть. Этот уговор делает жизнь русского человека абсолютно незащищенной в случае измены власти.
Верховная власть должна заступаться за народ. А у нас она этого не сделала в Прибалтике, в Польше, на Кавказе, на Украине и вот теперь она этого не делает даже в Москве. Русские стали жертвами политики, в том числе и политики нового правящего класса России. В 1991 году русские составляли 90 % населения России. В 2013 году нас стало около 80 %. И все мы это почувствовали. А если учесть потоки внутренней миграции, да еще 12 миллионов внешних мигрантов, то нетрудно предсказать все последующие события.
Власть должна была вынудить играть на русском политическом поле по русским правилам, то есть должна была подтвердить внутреннее право русского народа на формы жизни, которые он избрал. Ограничение власти монарха воспринималось Самариным как ограничение возможностей заступника, а также как расширение возможностей покушения на соборную жизнь со стороны начал, враждебных соборности. Поэтому Самарин был против конституции, против парламентской республики в России, против федерализма. Почему?
Неделимость власти
Потому что власть неделима. Когда она делима, она делает вид, что слушает народ, хотя предпочитает делать свои дела. Когда она неделима, она обращена к идее блага народа. Одно из этих благ для русского человека — государство.
Помимо этого есть еще одна причина. Есть народы, которые надеются на одни свои человеческие силы при достижении поставленных целей. К таким народам относятся европейцы. У них человеческие учреждения заменяют Бога. Русский народ не верит только в свои силы. Он еще уповает на Бога. Самодержавие, империя были способом существования человека, уповающего на синергию своих сил и силы Бога. Но имперская организация власти стала давать сбой на окраинах России. Она изменила земскому принципу в политике и стала ориентироваться на этнический, на национальный признак существования людей. И это происходило при нулевом национальном сознании русского человека. То есть некоторые окраинные народы стали получать этнические привилегии. В то время как в России традиционно на каждое сословие возлагались обязанности перед государством. Тяготы доставались русским, привилегии инородцам. А это создавало возможности существования в России так называемых псевдонаций. Или народов-призраков. Что, в свою очередь, уже в XIX веке поставило русскую империю перед выбором: или полная денационализация империи, или Россия — для русских. Всякие промежуточные варианты будут губительны потому, что они при отсутствии национального сознания русских создадут нерусские квазинации. Федерация в России — это способ формирования и существования нерусских псевдонаций, которые под видом национальной демократии децентрируют политическую власть и она перестает служить защищающим панцирем для русского народа. И он должен будет либо умереть, либо стать материалом для какого-то иного народа. Уже неправославного.
Федерализм
Федерализм — один из самых неплодотворных путей развития русского государства, ибо он, как говорит Самарин, обособляет граждан и земли, раздваивает и уничтожает русское государство. Федерализм превращает Россию в гостиницу, в которой русские не находят для себя места. Они лишаются соборного имперского сознания и погибают, ибо национальное сознание у них не сформировано. В федерации центр нигде, а окраины везде. На смену соборному имперскому человеку приходит обособленная национальная личность.
Самарин обращает внимание на то, что немцы, господствуя в Прибалтике, управляли ею через немцев, шведы — через шведов. А русские привлекают для управления и немцев, и шведов, и сами управляемые народы. Русская власть не привлекает к управлению окраинами только русских, боясь обидеть чувства окраинных племен. Поэтому федерализм в России стал легальным способом формирования нерусских (антирусских) национальных элит. В остзейском крае получили власть остзейские дворяне. А это неправильно, то есть несправедливо, потому что аппарат управления был присвоен определенным этносом. Русские в этом крае стали подданными не царя, а местных корпораций. И самое главное. Возникает иллюзия существования неких наций там, где их нет. «Неужели всякий обрубок, — говорит Самарин, — без корня и верха, вправе присваивать себе значение нации? Мы доживем, наконец, до того, что немецкий клуб в Москве заговорит о своей народности»22.
Поскольку русские, создав государство, не стали нацией, постольку возникло противоречие, которое разрешилось в идеи империи. В империи должен быть один центр власти, одни законы и никаких социальных или национальных привилегий. В основе имперского быта России лежит неразделенность власти, неразделенность русского человека и земли.
О дисциплинированном энтузиазме русских
Не В. Соловьев, и не Ю. Самарин, а Н. Данилевский стал точкой интенсивности русского сознания. Ю. Самарин возопил от ужаса мистериальных игр Бога и обратился к русской нации. Но нация его не услышала. Ибо никакой русской нации не было. Его услышал Н. Данилевский и написал «Россию и Европу». В. Соловьев дезавуировал написанное. Соловьев — это философская заглушка для русского сознания. Шум, заглушающий голос Н. Данилевского. И вот теперь все русские философы делятся на тех, кто шумит и заглушает. И на тех, кто слышит голос Данилевского. А услышали его немногие: К. Леонтьев да В. Розанов. Не все Данилевскому нравилось даже у Хомякова.
Политика и мораль
Хомяков пишет письмо англичанину Палмерсу, чтобы разъяснить смысл православной культуры России. Данилевскому противны эти ухаживания за иностранцами. Ведь русские и так привыкли смотреть на самих себя чужими глазами. Смотрят и ищут в себе общечеловеческие ценности. Например, Хомяков полагал, что государство — это средоточие любви и морали. А Данилевскому смешна его наивность. Или вот любовь Хомякова к Европе. Разве Хомяков не знает, что Европа враждебна России по самому своему смыслу. Нелюбовь к России расположена у Европы на уровне инстинкта, бессознательного, ибо Россия — непреодолимое препятствие для нее. Европа разграбила Константинополь, обыграла Византию, но она не смогла превратить нас, русских, в материал своего развития, подобно Африке или Индии, не смогла изменить нас по своему образу и подобию. И поэтому Европа не может не видеть в России что-то враждебное для себя.
Хомяков морализирует государство. У него государство действует по законам морали и любви. Теоретически это, может быть, и так. То есть вполне возможно, что первое действие, рождающее государство, было моральным. Но теперь, когда оно уже есть, оно перестало быть моральным. На уровне воспроизводства государства в качестве государства нет места для любви и морали. Данилевский отказывается понимать государство в моральных терминах, ибо мораль — это самопожертвование, а политика — достижение общего блага посредством минимальных жертв. Поэтому-то мораль появляется в отношениях между людьми, а не между государствами.
Человек соотносит себя с вечностью, и поэтому он может пожертвовать собой. Государство — явление преходящее, временное. И поэтому действия государства должны основываться на законах временного существования. На политике, а не на морали. Одно государство не может приносить себя в жертву другому. Данилевский скажет: «Око за око, зуб за зуб, строгий бентамовский принцип утилитарности, то есть здоровое понятие пользы — вот закон внешней политики, закон отношения государства к государству»23.
Между тем руководители русского государства действуют часто не как политики, а как моральные люди, прибегая к государственному самопожертвованию. И забывают, что политику — политика, а народу — мораль. Для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. Различные этносы, вошедшие в состав России, это не исторические народы. У них нет никакой политической жизни вне русского государства. Но этот факт пытается оспорить русская интеллигенция.
Интеллигенция
Данилевский не любит интеллигенцию. Во-первых, это результат чужеземной прививки, действо Петра, которое «произвело ублюдков самого гнилого свойства…»24. Во-вторых, это полагание национального в качестве эмпирических пут для человека, помехи на пути его движения к общечеловеческому. Например, для Белинского человек вообще был выше конкретного человека. А чистая идея — значимее любой определенной идеи. Образованные люди России устремились к человеку вообще. К чистому сознанию. Правда, славянофилы стоят особняком. Но над ними всеобщий смех и глумление.
Например, 1878 год. Россия победила в войне с Турцией. Казалось бы, надо радоваться. А радоваться было нечему. Европа злилась. В ней господствовали антирусские настроения. На стороне Турции Европа буржуазная, католическая, демократическая и социалистическая. Но это полбеды. Беда в том, что у самих русских возникли сомнения в необходимости существования России, ее историческом бытии. Носителем этих сомнений стала интеллигенция. Мощным телом русской империи овладела хилая голова русской интеллигенции. «С этими сомнениями в сердце, — писал Данилевский — исторически жить невозможно»25. Интеллигенция предрешила судьбу России. И Данилевский это понял.
В составе России были многие народности. Для того чтобы войти в мировую культуру, им нужно было стать русскими, обрусеть. А поскольку «русское» (плохое) было постепенно замещено интеллигенцией на «европейское» (хорошее), постольку разным этносам теперь уже не было нужды в России. Им не нужно было делать себя русскими по нравам и обычаям. Достаточно принять на себя общеевропейский облик, чтобы прикоснуться к плодам мировой культуры. Но европейское враждебно русскому. Оно усиливает отчужденность окраин России, тех, кого можно назвать инородцами. Иными словами, интеллигенция заразила сепаратизмом этносы России. Даже некоторые русские перестали осознавать себя русскими, выдавая себя за европейцев. Сепаратизмом заразилась Украина — наша малая Россия. Даже сибиряки начинают терять русскую идентичность.
Конечно, все истины односторонни. «Если бы этого не было, — говорит Данилевский, — то понятия всех людей о том, что им хорошо известно, должны бы быть тождественны»26. А они не тождественны. На всем лежит печать национального, единичного. Если общечеловеческое децентрируется, то национальное нельзя децентрировать. Европа вырабатывает не только идею личности, но и средство нейтрализации этой идеи: диалог. Признание другого. Там, где у европейцев действует диалог, у русских работает дисциплинированный энтузиазм.
Воля
Дисциплинированный энтузиазм — это управляемый аффект, упорядоченная эмоция, являющая себя в том, что русские называют волей. У нас воля — это не наслаждение, как у римлян, не богатство, как у англичан, и не латышское сопряжение воли с властью. Это свобода одного, не ограниченная свободой другого.
Русский народ может быть приведен в состояние дисциплинированного энтузиазма не только идеей, но и формой, неделимой полнотой бытия. Дисциплинированный энтузиазм согласно Данилевскому «есть сила, которой мир давно уже или даже вовсе еще не видел»27. К примеру, разделение властей убивает органическую волю, возможность действия не по внешнему принуждению. Воля не абстрактна, она всегда конкретна, всегда чья-то. Право, отделенное от правды, разрушает возможность проявления дисциплинированного энтузиазма. Народное тело не слышит приказа разделенной власти. Не подчиняется ему. И наоборот. Голова не внемлет импульсам тела, и оно сотрясается в конвульсиях. Запутывается в аффектах и страстях. И как в том, так и в другом случае для людей нет дела, захватывающего душу полностью. Без остатка.
Бирюлево. Метаморфозы русских
У русских происходит все не так, как в Европе. Там у них сцепление культурных форм. И они живут этим сцеплением. У нас, как в Бирюлево, недисциплинированный энтузиазм русских оборачивается серией спонтанных микровзрывов, за которыми не следует изменение порядков. Русские так и не научились отстаивать свои национальные и личные интересы, ибо в них мы все еще не видим ни внутренней правды, ни внутренней правоты. Мы стыдимся сказать то, что мы думаем: русская земля принадлежит одним только русским, и нет в ней никакой нерусской земли. Власть, которая этого не понимает, не имеет шансов надолго укорениться в народе. Россия не может быть сильным государством, не может быть империей, если русский этнос будет в ней слабеть, а нерусский усиливаться. Нас погубит не Америка и не Китай, нас погубит миграция и демография. Например, с 1991 по 2013 г. доля русских сократилась в кавказских республиках в 5 раз, в Туве — в 2 раза. А русские — это, как говорил Достоевский, «ствол нашей цивилизации». Никто не хочет знать, как себя чувствует этот «ствол» сегодня в так называемых национальных республиках.
В России культурные содержания не работают за человека. У нас все случается изнутри, в душе, с захватом смыслов того, что тебя касается. И идет этот захват незримо для власти. Неслышно для прессы. Данилевский писал: «Когда же происходит время заменить старое новым на деле, эта замена совершается с изумительной быстротой, без видимой борьбы…»28. Пришло время, и вот уже нет царя. И мы отказались от православия. Пришло время, и вот уже нет коммунизма. И мы отказались от идеологии. Мы теперь все буржуазные демократы.
Придет время и нынешняя власть, как показало Бирюлево, исчезнет так же неожиданно, как она и появилась. Внешним образом эти метаморфозы не объяснить. Ибо они приобретают смысл сначала внутри нас тихо, незаметно. А потом уже обнаруживаются вовне, как антикультурный жест, как манифестация полноты органического.
Конституция в России — это фарс
Органическая полнота власти неделима. Эта ее неделимость выражена, по мысли Данилевского, в самодержавии. Делимость власти выражена в идеи множества соучредителей России, ее субъектов. Чем плоха эта идея? Тем, что она предает забвению одно простое правило: Россия существует для нерусских как пространство метафизического, политического и культурного мимезиса, подражания.
Конечно, власть самодержца можно ограничить. Можно ввести конституцию и парламент. Без сомнения, русский народ выполнял и будет выполнять всю предписанную ему внешнюю обрядность. Он будет выбирать депутатов, как выбирал своих старшин и голов, будет голосовать за партийные списки, но не будет придавать избранным иного смысла и значения, как только слуг царя, как исполнителей его воли. У нас парламент и конституция никакой иной опоры кроме воли правителя иметь не будут. Как же могут они ее ограничивать, если они на нее опираются. Данилевский скажет: «Русская конституция, русский парламент… возможны только как мистификация, как комедия»29. Для того чтобы они не были «комедией», нужно многое изменить в русском человеке. И не только политически, но и религиозно. Например, принять идею филиокве, то есть допустить, что Святой Дух исходит не только от Бога-отца, но и Сына. И тогда, может быть, когда-нибудь и от парламента мы начнем ждать каких-нибудь судьбоносных решений. А так — одна мистификация власти, ибо мы знаем, что источник эманации власти глава государства, а не парламент.
«При чтении некоторых наших газет, — пишет Данилевский, — мне представляется иногда этот вожделенный Петербургский парламент: видится мне великолепное здание…амфитеатром расположенные скамьи, сидят на них представители русского народа во фраках и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую стороны, центр… скамьи министров, скамьи журналистов, председатель с колокольчиком… наконец и сама ораторская кафедра… а на ней оратор, защищающий права и вольности русских граждан…
Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, рукоплесканиями публики мне слышится, как все заглушающий аккомпанемент, только два слова, беспрестанно повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской земли: шут гороховый, шут гороховый, шут гороховый»30.
Россия как политическая калека
Россия подавляет своей громадностью. Означает ли это, что ее территория наращивалась путем завоеваний? Для того чтобы ответить на этот вопрос, Данилевский различает народы исторические и неисторические. У исторических народов есть государство, и поэтому они являются политическими нациями. У неисторических народов нет государства, и поэтому они неполитические нации. О завоевании можно говорить только применительно к государствам. Если же сталкиваются исторический народ и неисторический, то в результате столкновения происходит расселение народа. И складываются не порядки множественного, а централизация разнообразного. Так вот Россия расселялась. Европа завоевывала. При расселении было невозможно ущемление личных и гражданских прав неисторических народов. При завоевании одним государством другого — возможно.
В археографии конфликта между Европой и Россией Данилевский отходит от идеи Хомякова о том, что народ — это его вера. Дело не в вере, а в государстве. Народ — это его государство. А если это так, то суть дела состоит в утверждении формулы: один народ — одно государство. Если же у одного народа разные государства, как сейчас у русских, то все они признаются Данилевским как политические калеки. «Исторический народ, — говорит Данилевский, — пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекою»31.
Осень Европы
Никому не дана привилегия бесконечного прогресса. И Европе она не дана. Каждое общество стареет по-своему. Есть время цветения, а есть время плодоношения и угасания. На взгляд Данилевского, Европа отцвела в XVI–XVII вв. Плодоносным был для нее XIX век. Ну а плод есть дар начала осени. Солнце Европы перешло меридиан и склоняется к Западу. Как долго продлиться осень Европы, никто не знает. И Данилевский этого не знал. Во всяком случае он об этом не писал.
«Осень Европы» — это время ее отказа от христианства. Язычество бродит по Европе. Единую веру в ней заменила независимость мнений. Государство освободило себя от церкви, то есть стало свободным от христианства. Брак стал гражданским, свободным от Христа. Без тайны. В нем обнаружилось голое половое влечение. Стороны влечения заключают контракт. Юридически нет причин для запрета разводов, многоженства, гомосексуальной семьи. В мире людей утвердилась коннозаводская практика. Христианство еще существует. Но уже как декоративный спектакль. Как христианство по инерции. Без святости церкви. А без нее христианство перестает быть христианством, ее цивилизация — цивилизацией. Почему? Потому что, если есть законы и есть тяжба между двумя сторонами, то должен быть и суд. То, что рассудит. Нельзя позволить тяжущимся прямо толковать закон. Но мистически этим судом всегда была церковь. Она стояла между Откровением и верующими. И теперь она утратила свой мистический смысл, а цивилизация — потеряла смысл высшего суда.
Осень для Европы — это весна для России, и русские должны использовать открывающуюся перед ними возможность исполнения смысла своего бытия: поскорее стать русскими и научить власть уважать свой народ. В этом и состоит наша национальная идея и смысл нашего общечеловеческого единения.
Если Россия не будет иметь такого же высокого смысла, какой имела когда-то Европа, то она не будет иметь никакого смысла. И тогда Россия, как скажет Данилевский, «есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток»32. Но если Россия — «мыльный пузырь», то для чего так много жертв со стороны русского народа? Если мы не культурно-исторический тип, то нам ничего не остается, как обратиться в этнографический материал для достижения посторонних для нас целей. «И чем скорее это будет, — говорит Данилевский, — тем лучше»33.
Резюме
России нужно правительство, которое может укрепить положение русского этноса в России, а также решить, что мы хотим формировать: русское имперское сознание или русское национальное сознание и понимать, что следует делать как в одном случае, так и в другом.