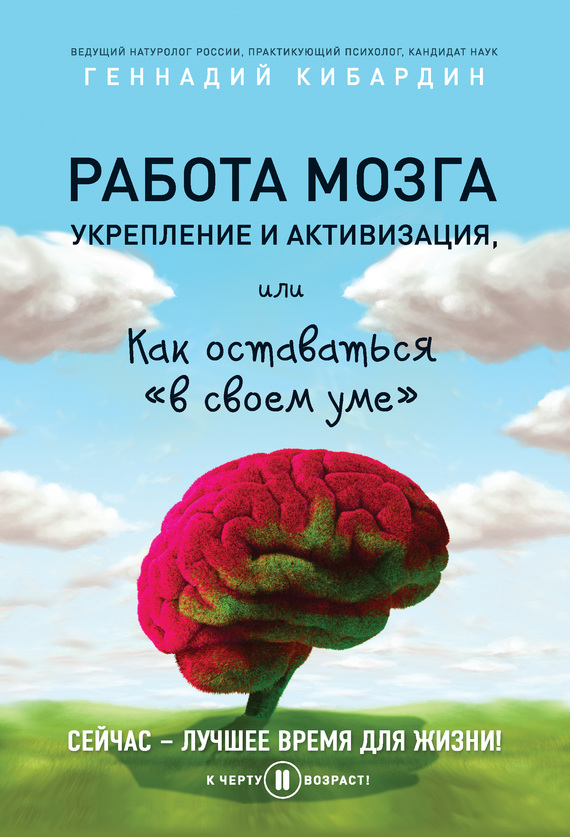5.10. Семь дней в Париже
Группа ученых из России побывала во Франции, чтобы принять участие в симпозиуме, посвященном русской мысли в Париже. Мне повезло, и я оказался среди его участников.
Русская мысль
Русская мысль в Париже — это, конечно же, С.Н. Булгаков и созданный им Свято-Сергиевский православный богословский институт.
Булгаков родился в Ливнах, в Орловской губернии. Сначала он примкнул к социалистам, потом стал священником. Булгаков — человек сложный, недисциплинарный. Трудно сказать, что на самом деле задумал Господь, создавая Булгакова. Будучи филологом по складу своего ума, он поступил учиться не на филологический факультет, а на юридический. Зачем? Затем, чтобы, как говорил Булгаков, принимать участие в решении социального вопроса. Из-за сочувствия к рабочим он стал экономистом. Написал диссертацию и опубликовал книгу «Философия хозяйства». Поскольку японцы следят за всеми новыми идеями, постольку они эту книгу тут же перевели на японский язык, а Булгаков написал к ней предисловие.
В экономике он был богословом, в богословии — философом, в философии — софиологом. Его основная мысль вращалась вокруг Софии. Все софийно, полагал Булгаков. Во всем Премудрость Божья. Даже в смерти. «Хорошо, — писал Булгаков, — в Ливнах хоронят, и, если можно сказать про софийность и в похоронах, то скажу, софийно хоронят: печать вечности, торжество жизни, единения с природой: земля еси и в землю отыдыши…»
У нас, у русских, какое-то странное отношение к смерти. У нас почему-то перед ней нет страха. Мы ее понимаем вне связи с идеей конечности человеческого существования. Не это ли имел в виду Хайдеггер, когда его спросили, почему немцы не победили русских? Он ответил, что нельзя победить софийный народ.
О софийности русских в Париже, конечно, слышали. Но даже в Богословском институте к софиологии Булгакова относятся настороженно и, как мне показалось, отстраненно. И не только потому, что институт принадлежит Константинопольскому Патриархату, а, скорее, из-за боязни прослыть пантеистами. А также потому, что софиология оказалась вдалеке от трендов развития мировой философии.
Тренды мировой философии
Мировая философия стремится к упрощению. В Америке это упрощение получает легитимность под знаком когнитивных наук. Среди когнитивистов считается хорошим тоном сказать, что мыслит не человек, а мозг, и что мозг производит сознание, как печень — желчь.
Во Франции упрощение философии носит иной характер. Оно предстает как разочарование в академической философии, которая оказывается никому не нужной. Символом французского упрощения философии стал Мишель Онфре, который выдвинул лозунг: хватит копить знание и создал народный университет. Место философии, по словам Онфре, не в Сорбонне, а на телевидении. Великие дискурсы закончились. На нашу долю остались интеллектуальные революции на молекулярном уровне. Онфре, патологический атеист, вступивший в борьбу с французским языком, желая вытравить из него христианский дух. Идеал Онфре — философия для всех, философия в картинках.
Во Франции сочинения Онфре издаются стотысячными тиражами. В России сочинения философов издаются стократно меньшими тиражами. У нас идеи, близкие по духу Онфре, развивает В. Дмитриев, который, правда, почти ничего не пишет.
По словам Никиты Струве, возглавляющего «ИМКА-Пресс», пространство мысли во Франции деградирует. Так ли это, не могу сказать. Но некоторые следы культурной деградации я заметил.
Для кого Франция?
Еду в метро по седьмой линии. Недалеко от меня сидит негр, то есть афро-француз. Рядом с ним — француженка. Ему лет пятьдесят. Она молода. У него помятый вид, небритое лицо, засаленные штаны и поношенная куртка. Девушка одета обыкновенно. В руках у негра кусачки для маникюра. Не обращая ни на кого внимания, он сосредоточенно обрабатывает свои ногти. Ногтевые фрагменты падают ему на брюки, на куртку, на джинсы девушки. Девушка не реагирует. Никто не делает ему замечания. Глядя на этого негра, я подумал, что это, возможно, гражданин Франции. Но быть гражданином Франции — это не значит быть французом ментально. Видимо, прав был Гуссерль, который в «Кризисе европейского человечества…» написал о том, что цыгане, кочующие по Европе, духовно к Европе не относятся. У них другой телос и другие интенции.
Другой пример. Улица Сент-Мишель в Латинском квартале. Сижу в кафе. Рядом молодые люди. Возможно, студенты. Ем луковый суп. Вдруг раздается резкий свист. Поднимаю голову, смотрю, ничего не вижу. Посетители кафе не обращают внимания на этот свист. Продолжаю есть суп. Свист вновь повторяется. Посетители кафе как бы его не замечают. Я тоже делаю равнодушное лицо, но продолжаю наблюдать. Через некоторое время появляется группа темнокожих подростков от 14 до 18 лет. Они вбегают в кафе, нагло свистят и что-то злобное говорят в лицо посетителям. Откуда-то из глубины кафе возникает фигура официанта, который делает вид, что сейчас же бросится на хулиганов. Последние быстро исчезают. Восстанавливается порядок. Официант уходит. Я спокойно доедаю свой суп. Подобные выходки арабо-африканской молодежи я неоднократно наблюдал и в метро.
Мне подумалось, что будут делать эти озлобленные подростки, когда они вырастут? Не захотят ли они жить во Франции так же, как живут в странах Магриба? Но если они захотят сделать Францию северной Африкой, то тогда французы должны будут напомнить им о том, что они европейцы, духовно рожденные философией греков. Французские арабы могут быть убеждены в том, что экстремизм — это попытка говорить о том, что Франция существует для французов. Но это убеждение исторически несостоятельно. Ведь если Франция не для французов, то тогда для кого она? Для выходцев из Магриба? А для кого тогда существует Россия?
О чем думают русские в Париже?
Я не знаю, о чем думают французы в Москве, вероятно, о наполеоновских победах над Россией, которые в итоге стали поражением для Франции. Но я точно знаю, что русские в Париже думают и говорят только о России и о том, что в ней происходит. Например, говорят о странной либерализации уголовного кодекса, о деградации образования, об уменьшении роли государства в жизни страны, о русском экстремизме. Непонятно, например, почему минюст считает, что лозунг «Православие или смерть» является экстремистским. А лозунг «религия — опиум для народа» не является экстремистским. Почему идея о том, что Россия существует для русских, считается экстремистской, а Алтай для алтайцев — не экстремистской? Но если Россия не для русских, то для кого же она тогда существует? Для нерусских? Может, она для таджиков и кавказцев? Для того, чтобы качать газ для Европы? Но это ее негативный смысл. В чем же ее позитивный смысл? В конце концов, Кавказ — это не Россия. Кавказ — неотъемлемая часть России, а часть несоразмерна целому. Целое нельзя принести в жертву части. Целое всегда предшествует части и определяет ее функции. Россия — это тот способ, каким русские сами себя смогли помыслить, понять.
Человек вообще может жить только в том мире, который он понимает. Россия — это мир, понятый русскими. Это понимание составляет метафизическую нить существования России. Порвать ее — значит лишить Россию смысла, разрушить ее, ибо русские и православие, учредив Россию, задали ее духовный смысл.
Мне скажут, что Россия не для русских, а для россиян. Я в ответ могу только засмеяться. Даже мой сосед, сдающий квартиру внаем, хорошо знает различие между русским и россиянином. Пусть попробует россиянин снять квартиру у моего соседа, и я сразу скажу, что у него ничего не получится. Потому что под словом «россиянин» скрывается нерусский. Слово «россиянин», поскольку оно не связано с православием, лишено духовного смысла. Оно стало продуктом очень сильных идеологических упрощений. И это все знают. Поэтому, когда говорят, что Россия для россиян, это означает официальное признание властью того, что Россия потеряла духовный смысл и может мыслиться вне связи с русскими. Она теперь фактически существует для нерусских. Тем самым разрушается метафизическая структура существования России. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать скорый распад России, обусловленный отсутствием этой структуры. Поэтому Россия для русских — это не экстремистский лозунг, а условие того, чтобы Россия была понятной для всех, кто живет в России.
Париж
Париж — это, конечно, не Москва. У Парижа благородная седина, он выглядит на свой возраст. Москва молодится, уродуя себя пластическими операциями. В Москве нет ни одного заповедного, не тронутого современностью места. Все испорчено. Везде новоделы, даже в Кремле.
Слава Богу, Париж любим парижанами. Его не испортили даже нелепые свидетельства возможностей технической цивилизации. Я имею в виду башню Монпарнаса, Эйфелеву башню и пирамиду в Лувре. Даже квартал Дефанс, сплошь состоящий из высотных зданий, не портит облик города, ибо является всего лишь окраиной Парижа.
В Москве все время что-то переделывается, перестраивается, сносится. В Париже дело обстоит не так. Например, улица Риволи. На площади Пирамид стоит статуя Жанны Д’Арк. Эта статуя стоит на том месте, на котором Жанна Д’Арк была ранена, воюя с англичанами. Что мы видим? Мы видим, как золотая Жанна восседает на золотом коне. Вопрос: зачем ее позолотили? С эстетической точки зрения золото здесь совсем не нужно. Тем более что французы вообще-то довольно прижимистый народ.
Ответ оказывается простым. Во время второй мировой войны немцы захватили Париж и стали устанавливать в нем новый порядок. Парижанам это не понравилось. Чтобы привлечь их на свою сторону и напомнить французам о не любимых ими англичанах, Гитлер приказал позолотить статую Жанны Д’Арк. Ее позолотили. Но почему же после войны Жанне не вернули прежний облик? В ответе на этот вопрос содержится отличие французов от русских.
Французы не вернули Жанне прежний облик потому, что так уже необратимо случилось. Была война. А бывшее, как понимают французы, нельзя сделать небывшим. Оно принадлежит уже истории. Русские бывшее все время делают небывшим. Поэтому в Париже на нас со всех сторон смотрит история. В Москве мы видим следы того, что бывает только после истории.
В Париже даже за семь дней можно найти много следов русской истории и культуры, но в нем очень мало следов русской мысли. Во Франции, как сказала мне мадам Гренье, профессор славистики, все меньше и меньше русских. Но в киоске еще можно за два евро купить ежедневную газету «Русская мысль».
И самое главное, что можно понять, находясь в Париже, так это то, что большое видится на расстоянии. Россия так велика, что ее хорошо можно рассмотреть только с Монпарнаса.
Что видно с Монпарнаса?
С Монпарнаса видно то, что не видно из Кремля: Россия незримо воспроизводит внутри самой себя и для себя форму не федерации, а православной империи. Когда она как вулкан в пламени и грохоте исторгнет из себя эту форму, не очень ясно. Но ясно, что для Кремля это будет неожиданным освобождением от бремени власти. Наконец-то, хотя и без них, но все определится. И каждый найдет свое место, и мир упростится.
Для православного империалиста весь мир делится на христиан и «нехристей». От нехристианина можно ожидать чего угодно. Они — это не мы. Поскольку мы православные, постольку нам неважно знать происхождение человека по крови, нам неважно, кто ты — русский, еврей или араб, не так важно, какого цвета у тебя кожа. Нам все равно, какая национальность у людей, стоящих у власти, даже у людей, случайно разбогатевших и неправомерно распоряжающихся нашими богатствами. Но мы точно должны знать, что наши цари — православные. Они могут быть не русскими, но они обязаны быть православными.
С Монпарнаса видно, что униженный СССР был изнанкой России. Почему изнанкой? Потому что для коммунистов православные были как прокаженные, они воспринимались просто как какие-то маньяки, параноики, ненормальные. Философы основали коммунизм не на вере в Бога, а на вере в идею. Кем бы ты в СССР ни был, ты должен был быть идейным, то есть советским человеком. А у советского человека не было ни крови, ни почвы, ни Бога. Поэтому для него не имело никакого значения, какой национальности находились люди во власти и чьей культуры сидели люди в Кремле. Об их происхождении, конечно, все знали, но не придавали этому решающего значения. Важно, что эти люди были коммунистами. Все были членами одного ордена: и они, и мы. Никому в голову не приходило спрашивать, а по какому праву они правят нами? Потому что они правили по праву силы и идеи. Это были идеократы.
У нынешней власти в России нет ни веры, как у православных, ни идеи, как у коммунистов, ни силы. Для нынешней власти коммунисты стали тем же, чем православные для коммунистов. Они стали изгоями, маньяками, параноиками, ненормальными. Хотя они давно уже стали нормальными, слишком нормальными, чтобы быть интересными.
Но и нынешняя власть хочет, как и прежняя, сделать так, чтобы мы ее не спрашивали, какой она национальности. Она не хочет, чтобы мы ее спрашивали, какие люди пришли в России к власти, не бандиты ли они, откуда у них появилось богатство и на каком основании, какое этническое происхождение имеют те группы людей, которые распоряжаются нашей культурой и нашим образованием, и какой культуры люди отчуждают у нас всеобщий эквивалент.
Власть говорит нам, будьте космополитами, думайте, что все вы россияне. А мы ей говорим, но тогда верните нам веру или дайте нам идею. В крайнем случае будьте не жадными, а сильными. А поскольку у вас нет ни того, ни другого, ни третьего, постольку вы уже проиграли, хотя может быть и выиграете свои выборы. Вы не политики. Вы языковеды, заблудившиеся в словах. Чем больше вы играете в ваши вербальные игры, тем дальше вы от политического. Тем меньше к вам уважения. Над вами смеются. Вы шуты гороховые. Но нам уже не смешно. Нам грустно. И мы спрашиваем: а кто вы такие? У вас же нет никакой легитимности. Что вы делаете там, где должна быть наша власть? Мы молчим, но мы знаем, что у каждого «россиянина», если его поскрести, то обнаружатся свои интересы, своя почва, своя кровь и своя родина, и эта родина не Россия. И только у нас, у русских, одна родина — Россия.