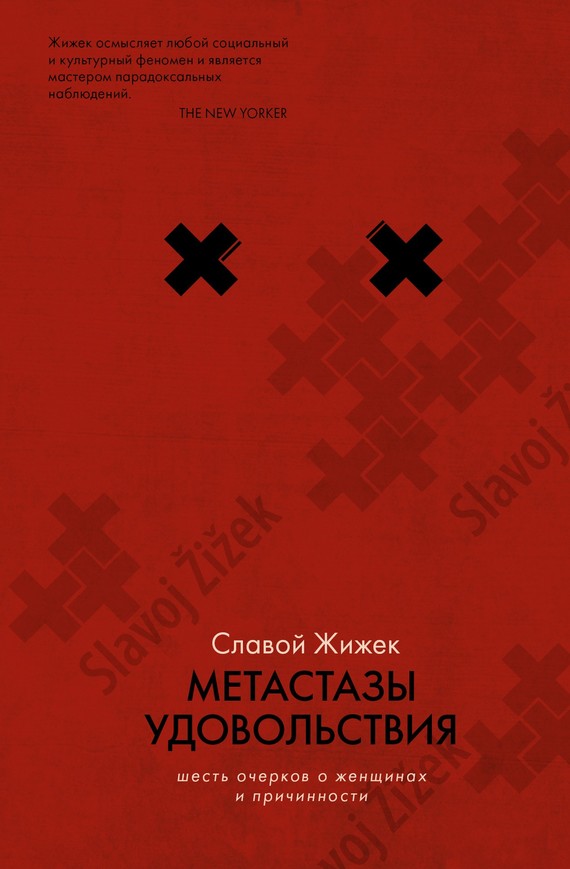§ 1. Швейцария и Германия
Те представители феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, чьи взгляды уже были представлены, не были одиноки. Множество психиатров в разных странах пытались, используя феноменологию, приоткрыть завесу опыта безумца.
В Швейцарии и Германии, странах своего первоначального развития экзистенциально-феноменологической психиатрия распространялась в двух направлениях: как институализированный и преимущественно практический Dasein-анализ (последователи Босса) или как преимущественно теоретический неинституализированный экзистенциальный анализ (последователи Бинсвангера).
В настоящее время институализированный еще при жизни Босса Dasein-анализ «шагает по планете». Центр Dasein-анализа – Цюрих. В 1970 г. для объединения ассоциации и национальных институтов Dasein-анализа была основана Международная ассоциация dasein-анализа. Но, несмотря на благие цели, этот проект так и остался проектом, поэтому 28 сентября 1981 г. она была упразднена. Вскоре, в 1990 г., ее сменила Международная Федерация Dasein-анализа. Ее штаб-квартира располагалась и располагается в Цюрихе, а первым президентом стал ученик Босса Гийон Кондрау, в 2003 г. на этом посту его сменил сын Гийон Фидель Кондрау.
Кроме этой организации существуют и национальные объединения: Dasein-аналитический Институт Психотерапии и Психосоматики, Швейцарское Общество Dasein-анализа (sgda), Швейцарское Объединение Dasein-аналитической Психотерапии в Цюрихе, Австрийское Общество Dasein-анализа (ogda) в Вене, Бразильская Ассоциация Dasein-анализа (abda) в Сан-Пауло, Французская школа Dasein-анализа (efda) в Марселе, Канадское Общество Dasein-анализа (sdac) в Торонто, Британское Общество Экзистенциального анализа (sea) в Лондоне, Чехословацкое Общество Dasein-анализа (TDaG) в Праге, Центр и Бельгийская школа Dasein-анализа (CeBDa) в Брюсселе. Наиболее известными школами этого направления являются британская и бельгийская.
Если последователи Босса сосредоточены в основном вокруг Dasein-аналитического общества и Международного института Dasein-анализа, то влияние Бинсвангера намного шире.
В родных экзистенциальному анализу Швейцарии и Германии его развитие сосредоточилось в основном вокруг двух университетских клиник: Гейдельбергской и Фрайбургской. Именно в них первоначально работали многочисленные последователи Бинсвангера. Что касается особенностей наследования его идей, то говорить о прямой преемственности здесь не имеет смысла. Очень метко характеризует это явление Г Шпигельберг, который пишет: «Бинсвангер не основал никакой школы. Он никогда не сотрудничал с университетами. Но его клиника в Кройцлингене около Констанца играла роль интеллектуального и культурного центра, который привлекал ведущих мыслителей и оказал намного большее влияние, чем какая-либо университетская школа»[1074].
Самой крупной фигурой среди последователей Бинсвангера в Швейцарии был Роланд Кун (1912–2005). Кун родился 4 марта 1912 г. в Биле, в Швейцарии. Его предки по материнской линии были известными врачами, по отцовской – пасторами и не менее известными поэтами. Отец, как и дед, был издателем и книготорговцем, поэтому Кун очень рано открыл для себя мир книг и искусства. После получения аттестата зрелости он изучал медицину в Берне и Париже, специализируясь в хирургии. Но, поскольку мест для изучения хирургии не было, он выбрал психиатрию. Тогда же он познакомился с Хансом Цуллигером и Арнольдом Вебером – учениками Германа Роршаха, автора знаменитого теста чернильных пятен, и увлекся этой методикой. Уже в 1939 г. он принял пост заведующего отделением и заместителя директора психиатрической больницы кантона Тургау в Мюнстерлингене на Боденском озере. В этой клинике (являясь ее главным врачом с 1970 по 1980 гг.), отказавшись даже от предложения возглавить кафедру психиатрии в Университете Вюрцбурга, он проработал до выхода на пенсию. Близ Мюнстерлингена, в Кройцлингене, тогда работал Бинсвангер, открывший для Куна феноменологию, и дружба с основателем экзистенциального анализа связывала его долгие годы[1075].
Имя Куна вписано не только в историю психиатрии, но и в историю фармакологии. Это именно он в 1956 г. открыл специфическую антидепрессивную эффективность широко используемого до сих пор антидепрессанта – имипромина, и за это открытие номинировался на Нобелевскую премию.
В 1957 г. в университете Цюриха Кун защитил диссертацию[1076], а с 1966 г. работал там профессором и до 1998 г. читал постоянные лекции, в зимнем семестре останавливаясь на текстах Бинсвангера, Мальдини, Силаши, Бланкенбурга и Шелера, в летнем – на текстах Фрейда. Каждые две недели на своих домашних семинарах он обсуждал с гостями работы Бинсвангера, Штрауса, Вирша, Бланкенбурга, Хенигсвальда и Гадамера, подробно фиксируя заседания. Протоколы этих встреч насчитывают около тысячи страниц и до сих пор не опубликованы, так же как и некоторые тексты Куна. Кун умер в Мюнстерлингене 10 октября 2005 г.
Кун – это одна из самых легендарных фигур экзистенциально-феноменологической психиатрии, хотя бы потому, что, прожив 93 года, он сумел внести вклад в различные области медицины. Сложно представить, что еще в 1953 г. к нему вместе с Жаклин Вердо приезжал тогда совсем юный Мишель Фуко. Его заслуги еще при жизни были признаны многими странами и университетами. Он был почетным членом Немецкого общества психиатрии и невропатологии, почетным доктором медицинских факультетов университетов Лувена и Базеля, за заслуги в развитии экзистенциально-феноменологической психиатрии и философии ему была присвоена степень почетного доктора философского факультета Сорбонны.
В своих работах Кун продолжал идеи Бинсвангера и, разумеется, причислял себя к последователям экзистенциального анализа. «Основная идея этого течения, – отмечал он, – состоит не в том, чтобы расширить психопатологию, но в том, чтобы взять за точку ее отсчета существование и показать, в каком смысле психопатологический подход к больному представляет дефицитарную модификацию существования»[1077]. На его взгляд, важную роль в экзистенциальном анализе играет проблема речи и выражения, поскольку вопрос к сокрытому миру внутреннего опыта и переживания мира как раз и выступил одним из стимулов его развития; весьма значимым здесь, на его взгляд, явилось и развитие психоанализа с его проговариванием утаенного в бессознательном[1078].
Закономерно, что экзистенциальный анализ противопоставляется Куном традиционной психиатрии как точной естественной науке, основанной на позитивистском методе индукции (классическим примером которой, по его мнению, является рассмотрение клинического случая и выделение общих признаков – симптомов – и их классификация). Но, будучи первооткрывателем действия имипромина и находясь, таким образом, у истоков эры фармакотерапии, Кун, разумеется, не мог не учитывать и плюсов естественнонаучной психиатрии, – того, что благодаря действию определенных препаратов можно купировать симптомы психических расстройств. Поэтому он всячески призывал к «срединному» пути, к учету и биологических, и экзистенциальных факторов, не выступал, по его собственному высказыванию, с патетическими заявлениями о необходимости радикального обновления, а скорее говорил о возможности выхода на более высокий уровень исследования[1079].
Более известными все же являются его экзистенциально-аналитические исследования клинических случаев, самый знаменитый из которых – случай убийства проститутки – был издан в сборнике «Экзистенция». В этой работе Кун представляет случай Рудольфа Р., который в возрасте двадцати одного года совершил преднамеренное убийство проститутки. Мы не будем останавливаться на его клиническом разборе, предоставив это клиницистам. В этой работе для нас любопытным является то, каким образом Кун развивает идеи экзистенциального анализа.
Следует отметить, что исследование проделано в духе Бинсвангера, на это указывают даже аналогичные бинсвангеровским рубрики и их порядок. Следуя великому предшественнику и своему другу, Кун критикует психологию и отмечает, что психологическое понимание и попытки воспользоваться им для осмысления преступлений во многих ситуациях оказываются бесплодными. Эта ограниченность, по его убеждению, является следствием изучения человека в экспериментально упрощенных условиях и описание его в терминах клинической психиатрии на базе классификационных критериев. Такому подходу он противопоставляет феноменологический метод Гуссерля, развитый в экзистенциальной аналитике Хайдеггера и экзистенциальном анализе Бинсвангера. Этот метод, на его взгляд, дает возможность «описать человека независимо от той или иной нормативной концепции, избегая разграничений между больным и здоровым и, насколько это возможно, вынесения приговора»[1080]. Понятно, что экзистенциальный анализ, основанный на феноменологическом методе, не является таким четким и однозначным, как психология. Как справедливо отмечает Кун, он не является законченной и идеальной теорией, позволяющей «растолковать» все человеческие проявления. Он, конечно, сопровождается различными недопониманиями, поскольку находится в самой начальной стадии своего развития, но при всем при этом он имеет множество положительных сторон.
Этот метод, по мнению исследователя, позволяет обойти установление жестких связей посредством теорий и благодаря этому не допускает натяжек в истолковании опыта. Он позволяет увидеть мир, в котором существует человек. При этом понятие «мир» трактуется у Куна достаточно своеобразно. Так, он пишет: «Слово „мир“ мы используем не в смысле „образ жизни“ и не в библейском смысле „мирские страсти“, а, скорее, в смысле „миропроект“, который каждый человек прикладывает ко всему, что его окружает, с помощью которого он интерпретирует все, с чем сталкивается, исходя из которого складывается контекст отношений к чему-либо, и которым детерминирована экзистенция (Dasein) каждого человека»[1081]. Понятие мира здесь подобно таковому у Бинсвангера, и в каком-то смысле его можно охарактеризовать как синоним понятия опыт. Важнейшей задачей анализа Кун видит понимание мира Рудольфа, в котором преступление было не просто возможным, но неизбежным. Тем самым, он указывает на тотальность этого мира, способность своим контекстом определять жизнь и поведение. В этом контексте виден призрак экзистенциально-априорных структур Бинсвангера. И основной чертой мира здесь называется скорбь. Именно она обусловливает основания его миро-проекта – жизнь в ожидающей неопределенности. Мир является ему в состоянии неизвестного, и без этой неизвестности для него нет мира. «Жизнь Рудольфа, – отмечает исследователь, – это существование без продолжения, без будущего, без истории. Это скачка в бинсвангеровском смысле, это Время, раздробленное на мгновения»[1082]. Для анализа скорби Рудольфа Кун обращается к «Бытию и времени». Он вспоминает утверждение Хайдеггера о том, что умерший становится объектом заботы, что он все еще остается больше, чем подручной вещью. Скорбящие при этом пребывают в скорбящее-памятном-бытии-с-ним. Кун отмечает, что в своих рассуждениях Хайдеггер останавливается на утверждении о том, что бытие-с-умершим заслоняет умершего как реально того-кто-пришел-к-концу, и пытается продолжить анализ. Он пишет, что бытие скорбящего в одном мире с умершим приводит к тому, что его мир фактически существующего и реального меняется и приобретает черты нереального. Скорбящий оказывается повернут от реального мира повседневности в сторону прошлого, его мир становится фантастическим и подобным сновидению. Поэтому Кун предлагает понимать фразу Хайдеггера «только те, кто вне этого мира, могут продолжать оставаться с умершим» как движение скорбящего от мира, от того мира, в котором он раньше находился вместе с умершим. Как следствие возникает одиночество и пустота, отсутствие интереса к любым мирским делам.
Подводя итог теоретической части, Кун отмечает: «Результат феноменологического описания аффекта скорби может быть приложим к конкретному случаю, даже в случае психически больного человека, поскольку надежность феноменологического описания не ограничена оценками нормальности или аномальности»[1083]. Именно это позволяет ему обратиться к анализу конкретного случая – скорби Рудольфа, приведшей его к преступлению. Он заключает, что впервые импульс к убийству Рудольф чувствует в момент, который Хайдеггер называет «оставаться с мертвым», после похорон отца. Скорбь по отцу перемещает Рудольфа в мир фантазий и снов. Аффект скорби оказался для него тесно связан с сексуальным желанием, внутренний мир фантазий и внешний мир повседневности стали пересекаться для него в сексуальном акте. Окончательно смешавшись они, по мнению Куна, приводят его к убийству. «Убийство – это одна из форм нашей блуждающей скорби…», – цитирует он в конце работы слова Рильке.
Фигура Куна стоит вне Гейдельбергской клиники и клиники Фрайбурга. Теперь я обращусь к ним. Шпигельберг отмечает, что сам Бинсвангер в интервью 1962 г. говорил, что местом, где его идеи были развиты наиболее творчески, была Гейдельбергская психиатрическая клиника[1084]. В этой клинике в пятидесятые годы XX в. под руководством Вальтера фон Байера независимо друг от друга идеи Бинсвангера развивали несколько исследователей, самыми известными из которых являются Х. Хафнер, К. П. Кискер и Х. Телленбах. Помимо исследования существования психически больного человека, все эти ученые большое внимание уделяли изучению начальных этапов заболевания, так называемой пред-области, пред-поля (Vorfeld) заболевания.
Хайнц Хафнер (1940–2003) при использовании экзистенциального анализа неоднократно подчеркивал значение для психопатологического понимания феноменологии Гуссерля[1085]. Именно с ее помощью, на его взгляд, можно получить доступ к горизонту психопатологического опыта, оставляя за скобками все лишнее и непосредственно обращаясь к структуре человеческого существования, к конкретным эмпирически случаям.[1086] Таким образом, Гуссерлев призыв «назад к вещам» фактически трансформируется у Хафнера, как и у всех экзистенциально-феноменологических психиатров, в призыв «назад к конкретному случаю, к конкретному человеку». Одной из основных тем исследований при этом становится так называемый «Fassade», форма психопатологической маскировки, которую психотик использует в отношении к себе и другим как стиль своего существования.[1087]
Карл Питер Кискер (1926–1997) пытался воспользоваться феноменологической философией для более детального понимания шизофрении. По его мнению, психопатологическое исследование необходимо начинать с жизненного мира, исследуемого как опыт, которым живет шизофреник[1088]. Основной задачей психопатологического исследования становится, тем самым, эмпирическое изучение этого опыта. Его возникновение у Кискера начинается, как и у Хафнера, с пред-области, основными особенностями которой являются де-диференцирование и отчуждение.
Чрезвычайно любопытными в критическом отношении являются предложенная Кискером в работе «Ядерная шизофрения и эгопатия…» систематика групп теорий психиатрии. Основой всех психиатрических теорий и исследований он называет «феноменологическую дескрипцию как региональную онтологию анормального (Abnormen)», подразумевая под ней изучение конституции субъективности и жизненных миров, проделанное, на его взгляд, в работах Бинсвангера и Бланкенбурга. От этого изначального для всех исследований уровня он отличает второй – описательную аналитику анормального опыта, обозначаемую им как «семиологическая семантика» и развитую, по его мнению, в работах Ясперса. За ней как третий уровень следует опосредованно понимающая контекст-аналитика, нашедшая свое выражение в трудах Телленбаха. Далее следуют уровни исключительно медицинских теорий: синдромальная аналитика, соматологическая аналитика и клиническо-нозологическая конспекция. Надстраивающейся над уровнями, начиная со второго, группой является при этом психиатрически-антропологическая конспекция, развитая в работах Цутта и фон Байера.
Относительно строгого феноменологического описания онтических структур анормального (первого уровня) и его менее строгого, вульгарного (как он называет его) психопатологического варианта упорядоченного описания анормального опыта Кискер отмечает, что они являются априорными и пересекают, таким образом, все остальные уровни и аспекты. Однако он не слишком симпатизирует этим теориям (мы помним, что это именно он заговорил о «продуктивной ошибке» Бинсвангера). Обязательность двух указанных уровней для психиатрии будет, на его взгляд, сохраняться до тех пор, пока большинство психиатров, являющихся не настолько философски подкованными, чтобы признать преимущество этой феноменологической науки, не поймут понятие опыта как дериват универсального феноменологического эмпиризма, а исторические истоки онтологического исследования анормального станут трактовать как не более чем аргумент против их обоснований[1089].
В этой связи Кискер подчеркивает, что Хайдеггер нанес психиатрии своеобразный, хотя и непреднамеренный вред: «множество психиатров восприняли его в большей мере как терминологию (Wort), и недостаточно как систему»[1090]. Современная психиатрия, на его взгляд, стремится восполнить этот пробел, возвращаясь к Гуссерлю и вырабатывая более успешную в методологическом отношении психиатрию. Здесь исследователь, разумеется, имеет в виду феноменологический поворот Бинсвангера и других, последовавших за ним, психиатров.
Хубертус Телленбах (1914–1994) родился 15 марта 1914 г. в Кельне, умер 4 сентября 1994 г. в Мюнхене. Определяющими фигурами для формирования его мысли стали дядя Эленберг Сонс и преподаватель религии Теодор Виллемзен. Первый привил ему интерес к естественным наукам и любовь к больным, второй – глубокую религиозность и интерес к философии. В юности Телленбах переписывался с отцом современной физики – Максом Планком. После получения аттестата зрелости в Мёнхенгладбахе изучал психологию, во Фрайбурге, Кенигсберге[1091] и в Киле – философию. В 1938 г. в Киле он закончил работу по творчеству Ницше[1092] и завершил изучение медицины в Мюнхене. В философии кроме Ницше тогда он отдавал предпочтение Платону, в поэзии – Стефану Георге и Рильке. После этого в 1940-45 гг. служил военным врачом на русском и французском фронтах.
С 1946 г. Телленбах работает младшим ординатором в психиатрической клинике Мюнхена. В 1952 г. защищает диссертацию по неврологии и практически тогда же открывает для себя экзистенциально-феноменологическую психиатрию. С 1956 г. он работает в университетской клинике Гейдельберга. В 1964 г. вместе с Гебзаттелем становится издателем «Ежегодника по психологии, психотерапии и медицинской антропологии». С 1965 г. неоднократно посещал с лекциями Латинскую Америку, Японию, Тайланд, Индию, США, Португалию, Персию, Афганистан, Ливан, Египет, Турцию, Мексику, Канаду, Чили, Бразилию, Испанию, Грецию, Израиль, Англию, Францию, Италию и другие страны. За свою жизнь с лекциями и семинарами он посетил двадцать семь стран, участвовал в около двухстах десяти конференциях в восьмидесяти восьми университетах мира. Поэтому закономерно, что он стал одной из самых популярных фигур экзистенциально-феноменологической психиатрии.
Среди тем, особенно интересовавших Телленбаха, наряду с психиатрией важное место занимает литература, а его работы о разновидностях меланхолии в литературе, вариациях иллюзий в греческой и шекспировских трагедиях, ревности и бреде ревности в поэзии известны и в филологии.
Из своих предшественников более всего Телленбах близок к Гебзаттелю, и, являясь глубоко верующим человеком, в чем-то продолжает идеи его духовной антропологии. Он отмечает, что чрезвычайно важной для психиатрии является идея о том, что человек подчинен не только телесному, но и духовному, и акцентирует необходимость для психиатрии обращения к самому человеку, его отношению к самому себе, его связям с миром, с трансцендентным.
Телленбах в своих работах проделывает традиционный экзистенциально-феноменологический анализ патологических феноменов. Он пытается показать структуру мира психически больного человека через эмпирическую феноменологию, подобную той, которую развивал Бинсвангер под руководством В. Силаши. В противоположность Минковски, Штраусу и Гебзаттелю, которые концентрировали свой исследовательский интерес в основном на темпоральности существования психически больного, Телленбах обращается к пространственности меланхолического мира.
Так, в статье «К пониманию феномена бреда (Вклад в исследования формального родства магических и шизофренических модусов выражения)» он представляет феноменологическое исследование бредовых феноменов. На его взгляд, в их изучении философия может объединить трактовки и данные отдельных наук, поэтому нет ничего удивительного в том, что при исследовании этой формы бытия психопатология обращается к философской, экзистенциальной антропологии[1093]. По сути, в этой работе он продолжает идеи Шторха и других антропологов, указавших на сходство мышления и опыта психически больных и представителей примитивных культур.
Телленбах отмечает, что, например, в обсессивном синдроме физиогномия смерти и разложения вынуждает больного вырабатывать формы столкновения, с помощью которых он пытается защититься. В формальном отношении эти формы, на его взгляд, абсолютно подобны магическому ритуалу. Основываясь на идеях, высказанных Цуттом, Куленкампфом, фон Байером, Штраусом, Груле, Бьютендиком, привлекая концепты Хайдеггера и анализируя клинический случай, Телленбах приходит к выводу о том, что шизофреническое (или другое психотическое) существование выражается в прелогических магических формах мышления и переживания: бредовое мышление отражает магические отношения, а опыт структурируется магическим переживанием. И добавляет, что в перспективе экзистенциальная интерпретация должна преодолеть диастаз пралогического и логического, праперсонального и персонального с целью построения целостной картины[1094].
Наиболее интересными среди исследований Телленбаха, пожалуй, являются исследования меланхолии, в особенности, проблемы трансформации пространства в этом заболевании. Они не только являют собой пример блестящего экзистенциально-феноменологического (при этом, скорее, экзистенциального) анализа, но и представляют критическое осмысление самой традиции экзистенциально-феноменологической психиатрии.
Телленбах отмечает, что проблеме пространства в отличие от проблемы времени в трудах представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа уделялось мало внимания. Здесь, заметим, он действительно прав, поскольку анализ пространства всегда располагался на периферии интересов Гебзаттеля и Минковски (первый почти ничего о нем не сказал, последний предложил лишь набросок феноменологического толкования), самый внимательный из исследователей к пространству Штраус исследовал его через образ другого и акцентировал внешнее, а не внутреннее пространство, и даже Бинсвангер, несмотря на то, что посвятил рассмотрению этой проблемы отдельную статью (правда, достаточно раннюю и поэтому не могущую отразить его зрелых проектов), кроме выделения разновидностей пространства, так ничего и не сказал о пространстве в психопатологии. По обозначенным причинам мы остановимся на этом анализе подробнее.
Телленбах отталкивается от трактовки пространства у Канта и напоминает, что у того пространство, как и время, выступало основой познания, априорной формой созерцания. В случае отсутствия у человека смыслов или субъективного условия чувственности, как отмечает исследователь, пространство как a priori бы отсутствовало. Такой человек был бы лишен не только факта пространства, но даже малейшей возможности познания. «Поэтому, – заключает он, – психопатология не может описывать состояния, в которых „пространство“ отсутствует вовсе. „Отсутствие пространства“ не может быть описано также и потому, что мы не можем себе ни помыслить такого, ни представить. Мы можем помыслить как минимум лишь пустое пространство, даже если не можем представить его»[1095]. Из этого следует заключение о том, что a priori пространства является условием схватывания эмпирических пространств, вне зависимости от того, ощущаются и опознаются они или нет.
Кроме того, Телленбах приводит кантианскую характеристику пространства как того, где вещи являются друг подле (рядом) друга, и подчеркивает, что для психопатолога в его исследованиях имеет значение именно характер (Weise) этого «рядом», поэтому, наравне с Кантом, на его взгляд, для психопатологии весьма значимым оказывается и Лейбниц, описывающий пространство как порядок связей между вещами. В качестве рабочей гипотезы своего исследования он выдвигает предположение о том, что в психозах происходит изменение данности (Gegebensein) пространства как нарушение «субъекта», т. е. независимо от опыта и переживания[1096], и одновременно намеривается описывать нарушение переживания (Erleben) пространства как изменение порядка вещей. Вслед за этим он представляет феноменологический анализ.
Исследование опыта пространства проводится Телленбахом в двух своеобразных измерениях: «пространство внешнего мира – пространство тела» и «близко – далеко, лево – право, верх – низ пространства». При этом он отмечает, что в отличие от объектов пространства в пространстве окружающего мира (Umraum) привилегированное положение получает тело человека как пространственное образование (Gebilde).
На основании анализа трансформации опыта пространства исследователь приходит к выводу о том, что в чисто описательной перспективе генетически понимающей психологии проблему a priori пространства решить невозможно, поскольку психопатология показывает трансформации пространства и закономерно приводит к вопросу «почему?». И разрешение этого вопроса возможно только с научно-теоретических позиций. Мы тогда должны предположить, что некие причины настолько глубоко воздействуют на субъект, что изменяют субъективные условия чувственности, элементарные онтологические предпосылки, в силу которых вообще переживается пространство, т. е. в обращении к этим предпосылкам мы достигаем нарушений оснований бытия субъекта[1097]. Именно таким методом, на взгляд исследователя, пользуются Минковски, Штраус и Гебзаттель. Однако, отмечает он, здесь возникает весьма существенное противоречие.
Кант постулирует независимость пространства и времени от опыта, независимые от опыта определения у него лежат в основе опыта здоровых и больных людей, и они должны изучаться только философией, компетенция психологии здесь заканчивается, поэтому возникает вопрос о том, когда здесь заканчивается философия и начинается психология, и наоборот? Но основным противоречием Телленбах здесь называет другое. Он отмечает, что изменения переживания пространства и времени не всегда встречаются в эндогенной меланхолии, и поэтому там, где таковые нарушения присутствуют, их действительно можно понимать как воздействие измененного фундамента на психическое, но в случае, если подобных симптомов не возникает, этот фундамент, будучи невредимым, не может быть конститутивным для меланхолии, и поэтому его нельзя назвать «основным нарушением»[1098]. Поэтому Телленбах говорит о том, что от фрагментарного кантианского анализа необходимо перейти к возможности целостного исследования меланхолии, и обращается к философии Хайдеггера. Здесь проступает и еще один, не артикулируемый, но тем не менее важный момент. По сути, для Телленбаха становится проблематичным и сам характер кантианского априоризма: если пространство как априорная форма первично, то какова причина пространственных нарушений? Этот вопрос для него оказывается неразрешим, и он проделывает путь, обратный тому, который проделывает Бинсвангер: он идет не от Хайдеггера к Канту, а от Канта к Хайдеггеру, помещая a priori в сам горизонт опыта и, тем самым, не стремясь разрешить противоречие, а снимая его.
Переходя от Канта к Хайдеггеру, Телленбах уточняет терминологию исследования, разделяя понятия пространства и пространственности, симптома и феномена. Пространство (Raum) – это резервуар, вместилище (Beh?ltnis), включающее в себя одинаково как человека, так и предметы окружающего мира, это, на его взгляд, характеристика наличного (Vorhanden) бытия. Пространственность (R?umlichkeit) же связана не с наличием, а с характером существования, особенностями проектирования мира, и именно она трансформируется в меланхолии[1099]. Понятия симптома и феномена, на взгляд Телленбаха, также различны – они практически противоположны: симптомы являются своеобразными знаками наличного, видимыми признаками, феномены же часто сокрыты и отмечают «характер бытия меланхолического существования»[1100]. Используя понятия пространственности и феномена, Телленбах осуществляет свой экзистенциальный анализ.
В меланхолии, по мнению исследователя, мир начинает познаваться исключительно гностическим рациональным способом. Меланхолик сохраняет пространство, наполненное вещами, он схватывает вещи, познает их, его взаимодействие с вещами может становиться даже чрезвычайно назойливым и мучительным, он знает область применения вещей и их значения, но при этом связи между отдельными предметами разрушены, утрачены отношения между предметами. «При более пристальном рассмотрении, – отмечает Телленбах, – оказывается, что вещи для него имеются лишь в чистом наличии, в разобщенности (Vereinzelung), где лишены взаимной соотнесенности (Bezogenheit)… Внутримирно встречающееся (innerweltlich Begegnende) становится подобным мозаике, которая распадается на фрагменты, на отдельные точки, так что место единой композиции теперь лишь сумма частей»[1101].
По причине преимущественно рационального взаимодействия с вещами упускается сущность, бытие вещи, и происходит приравнивание реальности (Realit?t) к действительности (Wirklichkeit). Меланхолик акцентирован на обособленном наличном, на неподвижной вещи, поскольку больше не связывает ее с другими вещами и не может проникнуть в ее сущность. Телленбах сравнивает такое восприятие с восприятием читателя иноязычных текстов: если тот часто не понимает отдельные слова, но способен уловить смысл предложения или абзаца, то у меланхолика все наоборот – он знает только отдельные слова, но никакой связи установить не может[1102]. Обращаясь к Хайдеггеру, он заключает, что больной в данном случае утрачивает качество близости (N?he), он отрешен от мира.
Именно поэтому особенно очевидным патологическим изменением переживания ориентированного (задающего порядок и связи) Umraum, на взгляд исследователя, является утрата измерения глубины (Tiefendimension): больные перестают переживать глубину пространства. «Все расположено на одной линии… Все подобно неподвижной плоскости», – приводит он свидетельство одной из больных. «Я, к примеру, вижу деревья так, как их рисуют маленькие дети: это просто два мазка без выпуклости»[1103], – говорит другая.
Уплощение сопровождается изменением включенности пространства тела в пространство окружающего мира: при этом мир может отдаляться, и тогда утрачивается всякий контакт, или проникать внутрь. Может изменяться переживание гравитации, утрачивается «тяжесть» тела и разрушаются ориентиры «верх – низ» или «право – лево», что может выражаться в более интенсивном, на взгляд пациента, ощущении и переживании в правой или левой части тела. Как следствие изменения пространственности мира и тела нарушается восприятие. Больные могут воспринимать людей как тени, вещи без контура и оболочки. Собственное восприятие и зрение могут представляться таким пациентам чужеродным: «Я чувствую себя куклой с искусственными глазами», – говорит больная.
Происходит обеднение и уплощение измерений пространства, утрачивается его пластичность, и оно может становиться двухмерным. Передний план истончается и больше не выделяется как фигура на фоне заднего. Фактически имеет место утрата реальности, что воплощается в симптомах дереализации и деперсонализации. При этом вследствие разобщенности реальности становится возможно перемещение в любой пункт пространства, поскольку теперь не имеют значения направления и ориентиры, поскольку связи между объектами пространства разрушены, имеют значения лишь стационарные, единичные, выхваченные из целого объекты.
Трансформируется, по мнению Телленбаха, и внутреннее пространство тела (Inraum), что может проявляться в гротескном искажении, растяжении, переполненности, узости и пустоте телесного пространства. Внутреннее и внешнее пространства могут полностью обособляться и закрываться друг от друга или, напротив, сливаться. Меланхолик отдаляется от своего бытия, от своего тела и, говоря словами одной из больных Телленбаха, воспринимать себя лишь как куклу с искусственными глазами. Ослабляются ощущения и чувства, блекнут цвета и затихают звуки. Фактически существование начинает приближаться к пустому бытию. Становится невозможной граница и горизонт.
Именно такую картину патологической меланхолической пространственности представляет Телленбах, отмечая в конце, что уровнем эмпирического описания здесь ограничиваться не нужно. В случае феноменологического исследования пространственности, она, на взгляд мыслителя, предстает как феномен, а не как симптом, подобно тому, как это было бы, если бы мы задались целью проанализировать пространственные трансформации с кантианских позиций. А феномен может не проявляться в симптоматике, не осознаваться, но тем не менее существовать[1104]. Вот так разрешает отмеченное ранее противоречие исследователь.
На основании феноменологической философии и фундаментальной онтологии в последующем Телленбах будет трактовать и сущность терапевтического процесса, а также, как это ни парадоксально, особенности действия психофармакологических препаратов, при этом широко их используя. Так, в одной из своих работ он отмечает, что действие нейролептиков связано с ограничением интенционального обращения к миру, вплоть до полного безразличия. Противоположно, как он описывает, действие антидепрессантов, возвращающих включенность в мир[1105].
Не менее многочисленным был круг последователей Бинсвангера в психиатрической клинике Фрайбурга в Брейсгау. Особенно интересные исследования велись здесь в то время, когда кафедрой философии заведовал В. Силаши. Экзистенциальным анализом здесь занимались В. Бланкенбург, Ю. Цутт, К. Куленкампф, Г Бош и др.
Вольфганг Бланкенбург (1928–2002) родился 1 мая 1928 г. в Бремене. С 1947 г. в Университете Фрайбурга у Хайдеггера, Финка, Силаши изучал философию, у Роберта Хайса – психологию. С 1950 г. приступил к изучению медицины. В течение двух лет изучал психосоматику в Гейдельберге у Хельмута Флюгге, с 1959 г. работал ассистентом в Психиатрической клинике Фрайбургского университета, где с 1963 г. заведовал отделением. С 1969 г. – заведующий отделением психиатрической больницы Гейдельбергского университета, в 1972-73 гг. – ее директор. С 1973 – зав. секцией Психиатрии и психосоматики Гейдельбергского университета, в 1975-79 гг – директор психиатрической клиники Бремена. С 1978 г. он работает на кафедре психиатрии Марбургского университета, в 1979–1993 заведует этой кафедрой и является директором университетской психиатрической клиники. В 1993 г. выходит на пенсию, но продолжает частную практику. Умирает Бланкенбург 16 октября 2002 г.[1106]
Интересы Бланкенбурга лежали в области экзистенциально-феноменологической психиатрии и герменевтически ориентированной социологии, например, он развивал проект «Семейная ситуация и повседневная ориентация шизофреников»[1107]. В своей первой работе он исследовал предельные шизофренические состояния, прибегая в исследовании пространственных и временных измерений шизофренического мира к анализу философских понятий[1108]. С целью более адекватного понимания структур психотических миров он пытается расширить нормальные структуры понимания мира. Его докторская диссертация «Утрата естественной самоочевидности», впоследствии переработанная в книгу, обращалась к миру и опыту больных и представляла феноменологическую интерпретацию особенностей шизофренического опыта, сходного в его трактовке с жизненным миром Гуссерля[1109].
Бланкенбург разделяет одну из центральных установок феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа о том, что без философии психиатрия не может быть продуктивной, и воспринимает философскую психиатрию как методологическую альтернативу классической физикалистской психиатрии[1110]. Но в отличие от представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа в качестве философских источников своего творчества он воспринял не только феноменологию, но также критическую теорию Франкфуртской школы и структурализм. Кроме того, он, как и другие рассматриваемые в этой главе исследователи, относится к пост-бинсвангерианскому поколению, и поэтому не просто развивает феноменологические идеи в психиатрической клинике, но и критикует идеи своих предшественников. Все это обусловливает своеобразие его идей.
Уже в своих ранних работах, например, в статье, посвященной теме бредового расстройства[1111], Бланкенбург представляет экзистенциально-феноменологический анализ психопатологии. Подобно другим представителям феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, он, обращаясь к непосредственным экзистенциально-аналитическим исследованиям, останавливает свое внимание на патологических трансформациях темпоральности. Основной чертой, как и все его предшественники, он называет при этом блокирование течения времени. Весьма примечательным является приводимый им в этой связи образ. «Один из моих больных депрессией, – пишет он, – воображал себя Агасфером, „вечным жидом“, неспособным умереть. Он должен был „вечно скитаться“; для него больше не существовало смерти, и даже суицид уже не мог ему помочь»[1112].
Блокировка временного хода, по мнению Бланкенбурга, по-разному выражается в различных психических заболеваниях: иногда время разбивается на отрезки, иногда над больным начинает господствовать вечность. Для больных шизофренией, на его взгляд, исчезает граница между временем и вечностью, однако это не наполненная вечность, подобная вечности мистиков, но омертвелая, «замерзшая» вечность. В эндогенной депрессии блокируется будущее, и больной начинает ощущать себя отброшенным в прошлое. Кроме того, опираясь на исследования Фишера и называя его психопатологию времени шизофреников наиболее сильным толчком для развития исследований патологической темпоральности, в качестве одной из особенностей патологического времени Бланкенбург называет изменение его характера от средства к содержанию. Время при этом перестает быть естественным измерением всего психического опыта, оно утрачивает свой непосредственный характер и становится формой представления, содержанием нового модуса опыта, связывается с мучительным страхом и чувством дезинтеграции[1113].
В любом случае, как считает Бланкенбург, при патологии, будь то пространственные или темпоральные трансформации, главнейшей является проблема реальности, и поэтому здесь на помощь психиатрии и психотерапии приходит феноменология. В психозе сама реальность и критерии ее оценки конституируются иначе, чем у здоровых людей и больных неврозами. И здесь возникает проблема конституции патологической реальности и ее внутренней структуры, причем не как структуры сознания, актов сознания, как в феноменологии Гуссерля, но структуры как совокупности актов-поставщиков значения[1114].
Проводя свои феноменологические анализы, Бланкенбург сразу же обозначает несколько трудностей и проблем. Во-первых, осуществляя феноменологическое исследование и привлекая термины бытия-в-мире, конституирования и проч., исследователь предполагает схватить бытие больного в его объективности и чистоте, но опыт больного, его «я» и мир всегда сопротивляются этому схватыванию. Поэтому здесь всегда встает проблема пути постижения патологического[1115]. Во-вторых, психическая патология даже в феноменологическом исследовании, часто, на взгляд Бланкенбурга, изначально трактуется в духе естественнонаучной установки только как отклонение, дезинтеграция, дефицитарный модус здорового или нормального. В этом случае разделение между нормальным и патологическим транспонируется в феноменологическое исследование и, не обозначая проблемы, лишь облекается в новые термины и интерпретируется на основании новых ориентиров. Сущность интерпретации при этом не изменяется[1116].
В рамках антропологического понимания болезни Бланкенбург настаивает на том, что психическую патологию следует понимать не только в негативном аспекте как отклонение, но в позитивном ключе. В этом случае она рассматривается без ориентиров на внешние установки естественнонаучного исследования и описывается как та или иная «трансцендентальная организация» (transzendentalen Organisation)[1117], т. е. внутреннее присущее пространство, конститутивная связь между «я» и миром. Структуру этой трансцендентальной организации Бланкенбург и рассматривает в своих исследованиях. Позитивность болезни, отмечает он, может при этом проступать как прилив творческого вдохновения, открытие новых жизненных возможностей, обретение своей сущности, т. е. тех состояний «открытия глубины» (позволим себе это выражение), которые описывались в психопатологии начиная с Ясперса.
Осуществляя антропологическое и экзистенциально-аналитическое исследование бреда, Бланкенбург останавливается также на важном и не артикулированном в экзистенциально-феноменологической психиатрии ранее вопросе – сущности самого антропологического исследования. Он справедливо замечает, что отнесенность к человеку и принадлежность исключительно ему еще не делает болезнь антропологическим феноменом. Даже если бы какая-либо болезнь была свойственна только человеку, ее исследование, на его взгляд, еще не было бы антропологическим. Бланкенбург подчеркивает: «Следовательно, „антропологическое“ указывает, по видимому, не только на „человека“ как предмет исследования, но и на соответствующий этому предмету исследования метод»[1118]. Поэтому, заключает он, «антропологической» можно считать ту психопатологию, которая соотносит свой предмет с сущностью человека и понимает его исходя из нее.
В антропологической психопатологии Бланкенбург выделяет две ступени. Первая связана с вычленением основной антропологической структуры расстройства. При этом сначала осуществляется лишь перевод известных психопатологических понятий на другой, антропологический язык: так, на место шизофренического дефекта приходит свертывание Dasein. Такой перевод обеспечивает не только новый понятийный аппарат, но и выстраивает новую перспективу исследования, поэтому уже очень многое дает психопатологическому исследованию. Однако, на взгляд исследователя, ограничиваться только этой ступенью не следует, поскольку, во-первых, подобное исследование не гарантирует получения принципиально нового знания, и во-вторых, рискует в скором времени стать модой и прийти на место старой психиатрии. На этой ступени исследование проводится в антропологическом масштабе, но само при этом еще не является антропологическим[1119].
Вторая ступень антропологического исследования в психопатологии связана, по Бланкенбургу не только с обращением к целостной онтологической структуре, но и с изучением этого «общего» посредством «единичного», т. е. через конкретный патологический случай. Патологические отклонения поэтому нужно понимать не только исходя из «неповрежденного» и целостного человеческого бытия, но и исходя из условий позитивных возможностей сущности человека. Эти условия при этом должны стать конституирующими моментами человеческого существования. Это, на взгляд исследователя, возможно только в том случае, если феноменологическое исследование дополняется диалектическим, т. е. если отрицательные определения утрачивают свою четкую однозначность[1120].
В антропологическом исследовании психопатологического, как указывает Бланкенбург, тесным образом связываются онтологическая и онтическая проблематика. Он отмечает, что Бинсвангер связывал эти два уровня посредством априорного проекта структуры Dasein как бытия в мире. Однако, на его взгляд, использование экзистенциальной аналитики Хайдеггера как основы психиатрии проблематично в следующем отношении:
1. В «Бытии и времени» отношение ко всякой возможной антропологии резко отрицательное, и это является следствием ряда объективных причин. Радикальность вопроса о смысле бытия вообще отчасти связана с углублением разрыва между философией и естественнонаучным исследованием. И поэтому любая попытка преодолеть этот разрыв приводит к опасности недооценивания онтологического различия (ontologischen Differenz). Хайдеггер допускал, что его фундаментальная онтология может выступить фундаментом всякой возможной феноменологической антропологии. Эту возможность и увидел Бинсвангер, но она весьма условна.
2. Попытка фундаментально-онтологического обоснования психопатологии затруднительна не только по причине сомнительности смещения онтологической и эмпирической проблематики, но также и потому, что «Бытие и время» так и осталось лишь «крепким торсом» без остальных частей тела. Здесь не хватает необходимой частной интерпретации онтологической структуры жизни, природы, необходима психиатрическая антропология, и в этом отношении, на взгляд исследователя, плодотворнее оказалась французская феноменология. В любом случае возможность имманентной критики и дополнения еще не исчерпана[1121].
По мнению Бланкенбурга, наука, которая описывает страдающую или здоровую сущность, в обязательном порядке должна включать «трансантропологическую» матрицу – у Бинсвангера, например, эту матрицу составляло понятие существования. При этом существование ни в коем случае не представляется синонимом человека или исключительно человеческого существования, поскольку представляет собой трансперсональное измерение опыта. И здесь фундаментальная онтология Хайдеггера не просто используется в психиатрической клинике, но появляется возможность выработки в ее рамках нового модуса опыта, т. е. преобразования человека. Этот момент значения хайдеггерианской философии для психиатрии, как подчеркивает Бланкенбург, до сих пор недооценен[1122].
Кроме того, антропологическое исследование в клинике предполагает обязательную связь общего с единичным, при этом единичное не нивелируется, но квалифицируется как «случай», и здесь особенное значение и новый статус принимает история болезни, которая становится примером особенностей трансцендирования при бредовом расстройстве и т. д. Бланкенбург отмечает: «То, что философ онтологически разрабатывает для человеческого существования как трансцендентально понимаемую структуру проекта-заброшенного-бытия, представляется бредовому больному как онтически испытываемая или случающаяся реальность опыта»[1123]. То, что онтически явлено в бредовом опыте, интерпретируется онтологически, и это один из ключей, который экзистенциальный анализ использует для понимания бредового больного и его мира. При этом за описательным исследованием следует анализ структуры.
Необходимо отметить, что практический интерес в психотерапии и социально-психиатрическом реформировании был также не чужд Бланкенбургу, что отличало его от большинства представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, ориентировавшихся преимущественно на теорию. «Бланкенбургу, – пишет Мартин Хайнц, – удается подвести психиатрическую антропологию с Dasein-анализом, экзстенциальной онтологией, социологией и диалектической философией к новому обоснованию психиатрической практики»[1124]. В своей статье 1978 г. «Фундаментальные проблемы психопатологии» Бланкенбург отмечает, что вследствие развития антропологической психиатрии и психиатрии социальной в современное ему время наука о душевных болезнях переживает фундаментальный кризис и требует введения нового определения своего предмета. Психиатрия, на его взгляд, должна отойти от физикалистской модели болезни, трактующей симптомы как признаки объективных процессов организма к новым критериям анализа[1125].
Сам Бланкенбург часто называл свою антропологическую психиатрию диалектической по сущности. В статье 1981 г. «Насколько применимо диалектическое мышление в психиатрии?»[1126] он описывает диалектику как встречу с негативным и указывает на ее чрезвычайную продуктивность для психиатрии с ее постоянными оппозициями души и тела, бытия и ничтожения и т. д.
Одной из самых значимых фигур среди последователей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа был Юрг Цутт (1883–1980). Цутт родился 28 июня 1883 г. в Карлсруэ в семье адвоката Адольфа Цутта и его супруги Иды Цутт (в девичестве – Мюллер). В 1911 г., после окончания гимназии и получения аттестата зрелости, он поступает на медицинский факультет Фрайбургского университета. Последний, шестой, семестр медицинской подготовки он проводит в Киле.
В 1914–1918 гг. проходит воинскую службу в артиллерийских войсках как офицер запаса. В 1918–1920 гг. он продолжает изучать медицину во Фрайбурге и в апреле 1920 г. защищает диплом. В 1920–1922 гг. работает в Берлине ассистентом-волонтером в университетской клинике нервнобольных Шарите у Карла Бонхёффера. Именно психиатрическая практика Бонхеффера повлияла на обращение Цутта к антропологии, хотя тот и не рассматривал антропологическую тематику в медицине[1127]. Одновременно с работой у Бонхёффера Цутт проходит двухгодичное обучение психоанализу у президента Берлинского психоаналитического общества и прямого ученика Фрейда – Карла Абрахама. С февраля 1922 по март 1923 гг. работает ассистентом-волонтером у Блейлера в Цюрихе, и в 1923 г. возвращается к Бонхёфферу уже на должность внештатного младшего научного сотрудника. Одновременно с Цуттом в Берлинской клинике тогда работали Э. Штраус, В. Э. фон Гебзаттель и их единомышленники, поэтому закономерно, что Цутт стал интересоваться феноменологической психиатрией и начиная с 1928 года выпускать статьи по соответствующей тематике.
С 1 января 1928 г. совместно со Штраусом, Майер-Гроссом (1889–1961), Карлом Ханзеном (1893–1962) и Куртом Берингером (1893–1949) он выпускает журнал «Der Nervenarzt», задуманный как ежемесячник по всем областям неврологической деятельности, при этом особое внимание должно было уделяться психосоматическим отношениям. Закономерно, что с этого времени большая часть статей Цутта выходит именно здесь.
В октябре 1934 г. Цутт работал штатным ассистентом, а в июне 1936 г. получил должность экстраординарного профессора. В 1937 г. перед ним открывается академическая карьера, ему предлагают кафедру психиатрии в Кенигсберге и Праге, но по политическим причинам (неприятие линии НСДАП) он отказывается и при содействии Бонхёффера вскоре становится директором берлинской частной психиатрической клиники Вестенд.
Необходимо отметить, что Цутт был прежде всего неврологом. Его перу принадлежат статьи и книги по неврологии, его докторская диссертация по медицине посвящена неврологическим расстройствам – апраксии и аграфии, но это не помешало ему увлечься антропологической психиатрией, ведь в те времена неврология и психиатрия не были еще так четко разделены. Кроме того, он был родоначальником социальной психиатрии в Германии и развивал теорию и практику социально-психиатрической работы.
Стремясь дать экзистенциальное объяснение психическим расстройствам, в статье «О порядке Dasein. Его значение для психиатрии» Цутт вводит в психиатрию понятие «порядок Dasein» (Daseinsordnungen). На его взгляд, исследование типичных порядков Dasein позволяет найти адекватный угол зрения во взгляде на переживание и поведение человека, а также на их патологические трансформации[1128]. Вводя это понятие, он, по его собственному признанию, опирается на развитый Хайдеггером концепт Dasein. На его взгляд, порядок существует только для субъекта, который создает, модифицирует или противостоит порядку. Этот порядок основан на исходной и неразрушимой связи с миром, он дает чувство безопасности и уверенность. У него есть границы, и он граничит с порядками других субъектов, поэтому здесь возможны взаимодействие и столкновение, а также окружен определенным горизонтом и граничит с неупорядоченным, хаотичным и неизвестным. Поэтому человек может попадать на границу защищающего и оберегающего его порядка. Ситуации, приводящие к такому положению вещей, исследователь, во многом следуя Ясперсу называет пограничными ситуациями. В них в порядок Dasein могут вторгаться хаотичные элементы, разрушая его, внося в него смятение и иногда даже ставя под сомнение его структуру и основы[1129]. Закономерным следствием такой ситуации является, по Цутту, страх. Именно такой механизм, на его взгляд, стоит за фобическими расстройствами и особенно показательной здесь является боязнь высоты, связанная с боязнью разрушения порядка Dasein и падением в пропасть[1130].
Примечательно, что Цутт не ограничивается выделением экзистенциального порядка Dasein и добавляет к нему порядок совместного проживания (Wohnordnung), статусный порядок (Rangordnung) и гигиенически-биологический[1131] порядок нашего тела. Каждый из нас, отмечает он, занимает определенное место в человеческом общежитии: пространство нашего проживания с другими размечено стенами комнаты и квартиры, лестничными площадками, имеющимися или нет ключами от этого мира. Точно так же иерархизована и наша статусная позиция: каждый человек занимает определенное место в семье, среди знакомых, на работе и в профессиональном сообществе, в обществе, государстве и религиозной общине. Определенное место как в порядке совместного проживания, так и в статусном порядке уготовано нам от рождения.
Гигиенически-биологический порядок тела соотносится при этом с состоянием нашего здоровья, и пограничные ситуации здесь будут связаны с соматическими заболеваниями и, как следствие, страхом смерти[1132].
Ограничиваясь описательной стратегией, исследователь так и не намечает возможных причин, которые приводят к обостренному восприятию пограничных ситуаций, к тому, что один человек не замечает их, а другой реагирует страхом, к устойчивости или неустойчивости порядка.
Одной из центральных тем антропологических исследований Цутта была проблема тела и телесности человека. Она была основной в исследованиях пространственности и особенностей зрительных и слуховых галлюцинаций, подросткового возраста, опьянения и прочих. В каком-то смысле акцент на теле, свойственный не только ему, но и другим его коллегам, последователям феноменологических психиатров и экзистенциальных аналитиков, связан не только с относительной неисследованностью этого феномена в работах «родоначальников», но со смещением философских акцентов. Гуссерль и Хайдеггер, так полюбившиеся соответственно феноменологической психиатрии и экзистенциальному анализу, были практически исчерпаны для психиатрии, и на их место, дойдя до немецкоязычных психиатров, пришел Сартр с его акцентом на Другом. Поскольку Сартр самими родоначальниками экзистенциально-феноменологической психиатрии был освоен в недостаточной степени, здесь оставалось пространство для новых возможностей.
Цутт разделяет стратегию некоторых своих предшественников, идя от патологического к нормальному, и по отношению к пространству тела формулирует ее следующим образом: «Не имеет значения, поднимаю я руку или опускаю. Один лишь паралич приводит к осознанию ее веса (Schwere)»[1133]. Он останавливается на двух патологических фактах: во-первых, возможности отсутствия обычного для большинства ощущения нахождения в пределах тела, и во-вторых, переживании ощущения отстраненности от тела и возможности словно посмотреть на него со стороны.
Исследователь различает тело и телесность, связывая первое исключительно с анатомической структурой и носителем физиологических функций (это тело, окруженное оболочкой и не имеющее ничего за ее пределами, тело как предмет), вторую – с ориентирами существования человека. Таким образом, тело попадает в ведение соматической медицины, а для психиатрии, и точнее – ее антропологической составляющей, открывается новое пространство исследований – телесность. В качестве критерия разделения этих двух разновидностей тела Цутт предлагает отсутствие взгляда. «Для анатомически-физиологического тела не существует взгляда»[1134], – подчеркивает он и разъясняет: взгляд для анатомического тела есть действительность, физиологический факт, чья сущность «стимул – реакция», для телесности взгляд есть иллюзия, действительность непосредственного переживания.
Взгляд перемещается, он скользит с одного объекта на другой и фиксируется в пространстве. Та точка, на которой останавливается взгляд, и есть, по мнению мыслителя, пространство, исходя из которого раскрывается тело. И в самом феномене взгляда, и в его принадлежности к телесности, как он считает, заложена возможность отделения взгляда от его носителя – глаза. И именно с этой особенностью связана возможность появления патологических феноменов. Мы помним, что приблизительно такой механизм выделял в качестве системообразующего для галлюцинаций Штраус: отрыв звука от говорящего, взгляда от смотрящего. Поэтому Цутт здесь с опорой на новый философский субстрат (преимущественно на Сартра, а не на Гуссерля с Хайдеггером) приходит к сходным выводам. Фактически, предполагает он, в этом случае происходит нечто подобное тому, что человек переживает во сне: вследствие измененного состояния сознания анатомическое тело словно бы отделяется от самого человека, взгляд от глаза, и это свободное перемещение второго в патологических случаях уже в бодрствующем состоянии приводит к возникновению непривычных и непонятных для обычного сознания феноменов[1135].
В исследовании галлюцинаций Цутт предлагает изменить перспективу – вместо «он слышит голоса» говорить «к нему обращаются», изменив центр активности[1136]. И здесь, по его мнению, становится заметно сходство слуховых и зрительных галлюцинаций: их основными элементами являются голос и взгляд. За этими феноменами стоит определенная физиогномия: пространство голосов и взглядов – это насильственное бытие, вторжение другого в собственное существование, и возникающее при этом чувство чуждости (Fremdheitsgef?hl). В отличие, например, от депрессии, как отмечает мыслитель, здесь имеет место вторжение другого (в депрессии же переживание чуждости отражает, скорее, утрату контакта с миром). Как следствие – больной утрачивает собственную свободу.
Исследование патологических трансформаций взгляда и голоса, как считает Цутт, показывает, во-первых, что человеческое бытие изначально включает других, и во-вторых, что человек является солипсистским существом, которое строит свой мир на основании собственного опыта, но всегда уже предполагающего включенность другого[1137]. Взгляд и голос при этом – модусы развертывания проживаемого тела.
Вообще, необходимо отметить, что во всех своих исследованиях, а они посвящены совершенно разнообразной тематике, на протяжении всей своей жизни Цутт развивает «понимающую антропологию» (verstehende Anthropologie)[1138], отмечая, что она работает в той области, где анатомия и физиология, т. е. органическая медицина, сказать ничего не могут, – области эндогенных психозов[1139]. Понимающая антропология здесь предстает неким объединяющим центром. П. Шёнкнехт отмечает: «При обращении к творчеству Цутта возникает впечатление, что понимание психиатрии, вопреки ориентированной на схватывание сущности (Wesenserfassung) понимающей антропологии, имеет своей целью скорее интеграцию различных методов, а не абсолютизацию единственного пути. Благодаря понимающей антропологии Цутт смог проследить контекст человеческой жизни даже в состоянии глубокого психического заболевания…»[1140].
Эта понимающая антропология была развита в работах последователей Цутта. Так, его студент Герхард Бош использовал экзистенциально-феноменологические исследования при изучении особенностей детей, страдающих аутизмом[1141]. Одной из характерных черт аутизма при этом он называет утрату возможности столкновения с другими и образования общего с ними мира.
Рядом с кругом фрайбургских последователей Бинсвангера стоит фигура Альфреда Шторха (1888–1962). Он дружил с Бинсвангером, посещал Венген (или Бинсвангер гостил в семье Шторха по пути из Венгена), и родоначальник экзистенциального анализа часто называл его «третьим венгенцем»[1142].
Шторх родился в еврейской семье в Гамбурге 4 апреля 1888 г. Он учился медицине в Мюнхене, Фрайбурге, Берлине, Бонне, Гейдельберге. В апреле 1912 г. под руководством Франца Ниссля защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. В 1919–1927 гг. работал ассистентом Роберта Гауппа в университетской клинике нервных расстройств в Тюбингене. Уже тогда он обращался не только к клинически-психиатрической и неврологической, но и к медико-философской антропологии и развивал специфический подход в отношении к пациентам, отмечая наравне с нарушением контакта существование у шизофренических больных потенциальных возможностей для установления связи с миром[1143].
В июле 1928 г. Шторх переходит в психиатрическую университетскую клинику Гиссена, работая сначала младшим ординатором, а затем заведующим отделением и приват-доцентом психиатрии и неврологии. Здесь же он организует встречи с Бубером и Тиллихом и посещает семинары Теодора Штайнбюхеля по религиозной философии. В 1933 г. он был освобожден от занимаемой должности по причине еврейского происхождения и эмигрировал в Швейцарию, где с 1934 по 1954 гг. работал младшим ординатором в Кантональной психиатрической больнице Мюнзингена вблизи Берна. В это время он приобщается к только начинающему свое развитие экзистенциальному анализу: состоит в переписке с Бинсвангером и Кунцом. 29 апреля 1939 г. по приглашению Густава Балли перед Швейцарским обществом психоанализа в Цюрихе выступает с докладом «Психоанализ и экзистенциальные проблемы человека»[1144]. В апреле 1950 г. он получает Venia legendi по философско-патологическим проблемам человеческого существования и становится приват-доцентом философии в университете Берна, в частности, читает курс «Экзистенциальная философия и глубинная психология». В то время он является членом Психологического общества Берна, Философского общества Берна, Швейцарского общества психологии и Швейцарского психоаналитического общества.
Шторх умирает после непродолжительной болезни 2 февраля 1962 г. на 74-м году жизни в Мюнзингене. В письме с соболезнованиями Эдит Шторх от 14 июня 1962 г. Хайдеггер пишет о нем: «На пути познания… каждое из его высказываний свидетельствовало о чрезвычайной конструктивности и благородстве его мышления»[1145].
Шторх, как и другие его коллеги, интересовался весьма многообразными проблемами, в круг его внимания и творчества входили философские проблемы психиатрии, психоанализ, антропологическая проблематика, религиозная философия. Немалое место при этом занимали феноменологические исследования психопатологии. В. фон Байер отмечал, что Шторх стремился «понять психически больных как ближних (Mitmenschen) и пытался соприкоснуться с ними в их человеческом бытии»[1146]. В психиатрии исследователь часто отталкивался от этнографического ракурса. Так, в работе «Эволюционное мышление в психопатологии»[1147] он указывал на сходство первобытного мышления и архаичного мышления больных шизофренией. Шизофреник, на его взгляд, воспринимает себя как часть других людей и, напротив, принимает части других в себя, конституируя неразделенный мир.
В 1947 г. в статье, посвященной проблеме существования у шизофреников, Шторх исследует онтологическое сознание целостности у человека[1148]. Он указывает, что шизофрения блокирует погружение больного в жизнь, участие в ней. Самую выраженную форму утраты себя (Selbstverlusts) при этом выражает небытие. Бред – это в онтологическом аспекте лишь видимость. И поэтому психопатология и психотерапия должны ориентироваться на феноменологию, на онтологическую аналитику существования и на «религиозно фундированный вопрос человеческой экзистенции». Темпоральность существования характеризуется при этом ощущением заполненности времени, но одновременно упущения и утраты времени. На основании анализа клинического случая Шторх описывает шизофрению как утрату «живого бытия в любящем взаимодействии», за этой утратой стоит распад существования, погружение в чистый ужас и уход в разрушенный мир. Больные шизофренией не взаимодействуют с миром: заброшенность, выбор и наполненность при шизофрении утрачены. Существование развертывается в ярком свете или кромешной тьме: с одной стороны, больной может уподобляться Богу, с другой – он парализован от страха, погружается во тьму пропасти и умирает непрекращающейся смертью. Темпоральность существования разрушается: исчезают границы между будущим, настоящим и прошлым. Утрачиваются границы между «я» и другими, поэтому голос и мысли больного могут воздействовать на других людей, но и их мысли проникают в больного, уничтожая его.
По мнению Шторха, одной из характеристик шизофренического существования является сужение его до лишь собственного мира и утрата со-мира, превращающегося из совместного бытия во враждебный контр-мир[1149]. Взаимодействие с окружающими объектами и людьми при этом перестает быть конструктивным, оно лишь истощает и убивает. Этот враждебный мир противопоставляется разрушающемуся «я», основными характеристиками которого, по Шторху, являются конкретизация и истирание материальности. Конкретизация представляет собой разрушение и дробление существования на несвязанные друг с другом части, отчуждение их друг от друга, в результате чего оно начинает осознаваться лишь как бессмыслица и конгломерат фрагментов, точнее, каждая часть становится наделенной своим собственным сознанием. Кроме того, существование утрачивает свою материальность, оно отрывается от тела и уподобляется легкому и летучему воздуху. Темпоральность и пространственность при этом отмечены печатью магического порядка. Существование может развертываться одновременно в нескольких точках и направлениях (Шторх называет эту особенность мультиприсутствим (Multipr?senz)), время утрачивает направленность и способно обращаться вспять. Мир как царство колдовства превращается в мир чистых феноменов, которые лишены прочности и плотности физически укорененного существования, он есть мир чистого мышления. Вследствие распада пространственности могут происходить чудесные перемещения и воздействия, вследствие разрушения темпоральности они начинают носить характер внезапности и непредвиденности, различные феномены появляются и исчезают.
В 1959 г. он публикует исследование о шизофреническом бреде[1150], где среди прочего отмечает, что экзистенциально– или Dasein-аналитическое понимание дополняет исследование жизненной позиции больного. При шизофрении, на его взгляд, происходит разрушение единой конституции существования (Daseinsverfassung), а повседневный опыт и бредовый мир перестают с чем-либо соотноситься. Именно поэтому рациональный контроль бредового бытия-в-мире невозможен. И в этом моменте, по мнению Шторха, структура шизофренического бытия напоминает мифологически-архаичное мышление. Бредовая идея имеет всеподавляющую значимость, взаимодействие с миром физиогномично, а больной может существовать лишь в двух крайностях – уничтожении или воспарении.
Шторх возводит истоки этого состояние к раннему опыту детства, когда мать становится всемогущей хозяйкой жизни ребенка. Родители налагают запреты или разрешают бытийствование в том или ином модусе опыта. Вырастая, больной продолжает существовать в этом модусе опыта. Теперь он, с одной стороны, является всемогущим господином, а с другой, послушен и уступчив. В бреде воздействия он может манипулировать другими существами, а они, в свою очередь, способны управлять им. При этом он неспособен к встрече лицом к лицу, он знает лишь уничтожающую «я» близость и изолирующее расстояние, его жизнь выстраивается вокруг крайностей любви и ненависти. Это, на взгляд исследователя, отражает застывшую динамику проживаемой дистанции (gelebten Distanz).
В совместной с Каспаром Куленкампфом работе Шторх представляет экзистенциально-феноменологическое исследование переживания конца света при шизофрении, и это исследование чрезвычайно значимо в плане изучения переживания ничтожения бытия в психозе. В начале работы авторы подчеркивают, что сам опыт конца света не является обособленным единичным симптомом, но предстает выражением всестороннего преобразования формы и структуры существования, конституции бытия, возникшего вследствие развития шизофренического процесса, поэтому его исследование должно опираться на экзистенциальное понимание[1151].
На основании анализа клинического случая шизофренического больного Шторх и Куленкампф избирают отправной точкой своего исследования изменение пространственности (R?umlichkeit) Dasein, именно оно является исходной трансформацией, приводящей к появлению опыта конца света. Пространственность шизофрении, на их взгляд, отмечена качеством нивелирования, в нем исчезает знакомая разметка – тропинки, горы, озера и долины, – и налицо предстает процесс опустения (Ver?dungsproze?). Все эти изменения сопровождаются утратой границ, вещи утрачивают свое «там», лишаются всякой соотнесенности с пространством, именно поэтому для больных теперь «предметы находятся не на своем месте». Как следствие, появляется отчужденность мира, утрата интимного бытия, больной перестает ощущать себя в этом мире как дома, он становится для него чужим[1152].
Земля, по которой ходит больной, опустошается, и появляется четкое деление на «верх», олицетворяющий все живое, и «низ», олицетворяющий бездонность земли как зияющую и засасывающую все пропасть (Abgrund). Мир пустеет, все перестает развиваться и вымирает, состояние бытия характеризуется всемирным оцепенением (Welterstarrung).
Перед нами предстает утрата становления и развития, всякого будущего, и пришедший на смену четко структурированному миру хаотичный беспорядок.
Существование утрачивает свое основание, а мир – теплоту и свет. «Дом исчезает, он теперь далеко, и я не знаю, где», – говорит больной. Он утрачивает свою родину, он безроден. Все эти образы и понятия, на взгляд исследователей, отражают «модус самого разрушенного Dasein, то, что в психозе Mitsein как его онтологическое свойство исчезает»[1153]. Становление и развитие существования прекращается.
Именно эти черты, на взгляд исследователей, становятся чертами шизофренического миропроекта. Существование больного при этом погружается в кричащую пропасть, из которой доносятся голоса мертвецов. Метафора «зовущей» пропасти, как считают Шторх и Куленкампф, отражает в психозе появление нового модуса бытия, частичное сохранение общности онтологической структуры пространства, выражение иного коммуникативного модуса бытия-в-мире. Поэтому выходит, что ничто становится видимым только как знак еще сохранного, пусть даже и в осколках, мира и существования[1154]. Вспомним, что именно такую мысль высказывал и Хайдеггер.
Погружение в пропасть, отражающее разрушение онтологической структуры существования, приводит к радикальному одиночеству, изоляции шизофренических больных от мира и развитию «шизофренической атмосферы» и аутизма. При этом, как отмечают авторы статьи, Ничто не обязательно несет лишь негативный характер. В безграничной пропасти появление Ничто сопряжено с открытием беспредельности и бездонности божественного. «Откуда, – пишут они, – происходит это своеобразное вдруг обнаруживающееся бытие, с которым мы сталкиваемся в метафизике шизофренических картин конца света?… Если человеческое и роковое (Schicksalhaftes) здесь глубоко соприкасаются, так это потому, что нуминозные картины гибели и спасения человечества открывают нам просвет (Durchblick) к онтологической, сущностной структуре нашего Dasein. Поскольку в повседневности нашего поведения и действий мы утрачиваем соответствующую наполняющую их область сущего, и бытие, и Ничто забываются, и глубокая растерянность (Betroffenheit) охватывает нас при встрече с такими больными»[1155]. Существование больного, таким образом, неся с собой принадлежащее ему Ничто, открывает доступ к бытию и свободе человека.
Соавтор Шторха – Каспар Куленкампф (1921–2002) – развивал и собственные экзистенциально-феноменологические исследования[1156]. Будучи психиатром и неврологом, он с 1957 г. работал приват-доцентом во Франкфурте-на-Майне, руководил социально-психиатрическим отделением Франкфуртской психиатрической клиники, с 1967 г. служил профессором в Дюссельдорфе. Как писал в некрологе Хайнц Хафнер, Куленкампф провел наиболее глубокие реформы помощи психически больным в Германии, направленные на отказ от негуманной системы[1157].
Куленкампф продолжает исследования пространственности и связывает ее разметку и трансформации с характерным качеством человека – прямохождением, словно продолжая на сферу психопатологии идеи Штрауса о вертикальном положении тела. Необходимость подобных исследований связана, на его взгляд, с важностью определения «порядка» и «упорядоченности» Dasein для изучения трансформаций пространства при параноидных расстройствах[1158]. Он заимствует идею Штрауса о том, что прямохождение и сохранение вертикального положения являются исходными и фундаментальными человеческими возможностями. Только прямоходящий человек устанавливает определенную дистанцию по отношению к вещам, может налаживать с ними связи и ориентироваться в мире. Человек определяет границы и разметку, упорядочивая свое бытие в пространстве внешнего и внутреннего мира.
В случае нарушения «порядка» Dasein (Daseinsordnung) утверждающие порядок границы теряют свою структурирующую функцию, пространство внешнего и внутреннего мира, «снаружи» и «внутри» нивелируются, социальное и личное пространство начинают переходить друг в друга. Это качество патологического Dasein Куленкампф обозначает как беспредельность (Entgrenzung). Именно беспредельность стоит за утратой связности с другими людьми, предметами и пространствами, опустением и нивелирующим разрушением. При этом изменяется не только состояние самого больного, но и все окружающее пространство: разрушается не его иерархия и структура, а весь порядок мира[1159]. Сопутствующим изменением здесь, на взгляд исследователя, является утрата доверия к миру, того доверия, которое лежит в основе связи с предметами, восприятия мира и его познания. Теперь по отношению к больному мир может быть лишь пристрастен или враждебен, он становится физиогномичным.
Утверждение физиогномичного мира и разрушение границ в параноидном психозе в другой своей статье Куленкампф объясняет с использованием концепта Другого, таким образом, в качестве философских оснований своего исследования привлекая не только фундаментальную онтологию Хайдеггера, но и онтологию Сартра[1160].
Исследователь сразу же проводит различие между телом как предметом, анатомическим телом (Kцrper) и живым телом (Leib), пребывающим в мире. И здесь чрезвычайно значимым как для нормального, так и для патологического существования оказывается образ Другого. Другой, напоминает он, обращаясь к Сартру, делает человека человеком в своем несмыкаемом взгляде, будучи объектом Другого, человек становится субъектом собственного существования. Обращаясь одновременно к Хайдеггеру, Куленкампф отмечает, что Другой предстает не как отдельный и единственный другой, а как часть общего мира, мира множества других. Своим истолкованием феномена взгляда, по мнению исследователя, Сартр дает возможность исследовать параноидные психопатологические симптомы в их внутренней целостности с учетом бытия больного. «Наше исследование, – пишет он, – обнаружило до сих пор незамеченную базисную антропологическую структуру, исходя из которой эти разрозненные симптомы в действительности отражают способ развертывания трансформированного опыта, дефицитарный модус бытия-в-мире»[1161].
Куленкампф предлагает рассматривать вопрос нормальности и ненормальности не в рамках отдельных симптомов или синдромов, а исходя из миропроекта человека. Но здесь сразу же возникает вопрос о том, на основании каких критериев можно разделить нормальные и отклоняющиеся от нормы миропроекты. На что он отвечает: «Не сам проект, а только формальную качественную структуру миропроекта необходимо считать решающим критерием»[1162]. В этой связи проблематика психотического сознания находится, на его взгляд, в тесной связи с пониманием формальных фундаментальных антропологических структур.
Феномен взгляда, по мнению Куленкампфа, тесным образом связан с прямохождением, поскольку оба они выражают два модуса бытия человеческого тела. Поэтому трансформация взгляда сопровождается изменением устойчивости существования больного. Теперь другие управляют им как объектом, а он потерял устойчивость, – мир, таким образом, децентрирован, бытие-для-других (Fьr-Andere-sein) патологически трансформировано. И, поскольку больной в нем является лишь вторичным персонажем и не играет главной роли, поскольку он лишь подчиняется и никогда больше не выражает свою активность, этот мир становится миром преследования.
Другие предстают параноидному больному исключительно в модусе враждебности, они, по его мнению, смотрят на него как на преступника, провожают взглядом, повсюду наблюдают за ним и за его спиной обсуждают его. Препятствием для глаз других не являются даже стены, они могут заглянуть даже в его мысли, и поэтому всякая интимность исчезает. Больной поэтому старается найти защищенное место, где он будет скрыт от этих навязчивых посторонних взглядов, но все поиски напрасны: он находится под непрерывным наблюдением. Будучи под несмыкаемым оком, его существование больше не развертывается свободно, а становится скованным этим фактом слежки: больной лишь объект для других, слуга, мишень их взглядов. Поэтому основной чертой такого бытия исследователь называет скованность (Festbannung) существования больного.
Куленкампф следующим образом характеризует мир и переживание параноика: «Утрата устойчивости, побежденность, оцепенение в бытии-взгляда (Erblickt-sein) влекут за собой экзистенциальную утрату свободы: в темнице параноидно-деструктированного мира на место этой утраченной свободы приходит свобода другого. Другой, для которого я лишь предмет – это моя свобода. Он знает не только, что я осуществляю определенное поведение, но и кем я должен быть и кем буду. Я слуга другого, более того – я его часть»[1163]. Взгляд, как отмечает исследователь, не только всегда сопровождает больного, он лишает его собственной субъективности, превращает его в пешку, играя приобретенной свободой, и ускользнуть от этой свободы больной не может. Закономерно, что свои собственные действия в таком миропроекте преследования больной начинает воспринимать как сделанные другими. Собственное мышление и поведение приписывается другому, поскольку больной – лишь объект, подаривший свою субъективность другим. В этой развертывающейся и заранее проигранной борьбе победу, по мнению Куленкампфа, одерживают физиогномические силы, поскольку феномен взгляда трактуется им как физиогномический феномен.
Мы видим, что все швейцарские и германские экзистенциально-феноменологичесие психиатры продолжают идеи родоначальников этой традиции. Также заметно, что в их работах к описательному и аналитически-философскому пластам добавляется еще и критический. В своих сочинениях они осмысляют положения феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, критикуют проблематичные и дискуссионные моменты их теоретической системы. Однако развитие экзистенциально-феноменологической традиции шло не только вглубь, но и вширь.