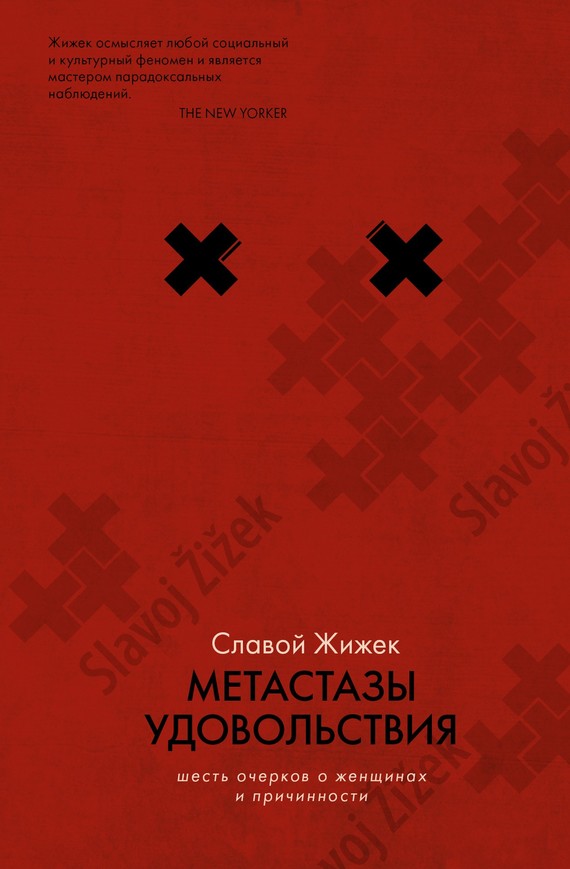§ 2. Франция и Бельгия
Развитие экзистенциально-феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа во Франции тесным образом связано с именем Анри Эя (1900–1977). Его фигура значима в двух отношениях: во-первых, его психопатологические теоретические исследования развивались в духе феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа и внесли масштабный вклад в разработку структурного и экзистенциального подхода к психическим расстройствам, а во-вторых, его деятельность способствовала развитию не только собственных исследований, но и широкому распространению и пропаганде этих направлений. После войны Эй сменяет Минковски на посту главного редактора журнала «Психиатрическая эволюция», а в 1948 г. начинает издавать «Психиатрические исследования», в которых собирается представить целостную психопатологию и развивает этот проект как часть предполагаемой «Естественной истории сумасшествия».
Развивая идеи психиатра Блейлера, Эй включает их в широкий философский контекст, привлекая интуитивизм Бергсона, а также идеи его товарищей по феноменологической психиатрии – Бинсвангера и Минковски. В работе «Современное состояние проблем ранней деменции и шизофренических состояний», обращаясь к феноменологическому движению и называя среди его представителей во Франции Минковски и в какой-то мере Лакана, он указывает на двойственность принципа феноменологии: с одной стороны, она, на его взгляд, является негативной, отрицая всякую рационалистскую интерпретацию, а с другой стороны, позитивной, поскольку допускает проникновение в психику больного. Феноменология в психопатологии, как отмечает Эй, основана на реконструкции переживаемого больным опыта, и именно этот «фундаментальный момент», по его мнению, блестяще показывает Ясперс[1164].
В третьем томе «Психиатрических исследований», опираясь на идеи Х. Джексона и привлекая идеи философов и феноменологических психиатров, Эй разрабатывает теорию деструктурирования сознания. Как утверждает Ж. Гаррабе, в этих исследованиях он сохраняет верность традиции французской школы, которая считает психопатологию разновидностью психиатрии и идет от патологических феноменов к нормальным в отличие от немецкой школы, которая на основании укорененной в философии общей психологии стремится описать патологические трансформации[1165]. На наш взгляд, в отношении феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа все же нельзя говорить столь однозначно.
Острые психотические состояния, по мнению Эя, отражают различные ступени деструктурализации сознания, а порядок этих уровней – его структурную стратификацию. При этом исследование уровня деструктурализации и его особенностей Эй обозначает понятием «структурный анализ». Как мы видим, этот структурный анализ (в формулировке Минковски «феноменологически-структурный») является отличительной чертой французской школы феноменологической психиатрии. Многочисленные вариации различных психических заболеваний в этом анализе Эй объединяет в две группы феноменов: негативную и позитивную структуру, при этом первая отражает функционирование разрушенных элементов сознания, вторая – развертывание личности больного.
Так, негативная структура мании проявляется в 1) ослаблении функции синтеза и деструктурации рефлексивной активности; 2) псевдо-ясности маниакального сознания и деструктурации мысли; 3) темпорально-этической деструктурации[1166]. В маниакальном состоянии операции, с помощью которых разум осуществляет наблюдение, анализ, выбор и концентрирует внимание, больше не осуществляются. Психическая жизнь теряет свою глубину и становится крайне изменчивой и поверхностной. Мышление не проникает в содержание, не останавливается на предмете, а рассеивается и ослабляется, способствуя увеличению количества бессознательных и автоматических реакций. Все эти изменения протекают на фоне видимой гипер-ясности маниакального сознания, которая на самом деле – лишь иллюзия. Проживаемый опыт становится размытым и зыбким, словно не имеет никаких акцентов и никакой перспективы. Это состояние сопровождается также изменением темпоральности: в отличие от нормального маниакальное сознание больше не способно конституировать настоящее, и темпоральность характеризуется суматошной поспешностью, не связанной с проживаемым временем. Маниакальный больной больше ничему не следует: ни настоящему, ни реальности, ни нормам, ни интересам, ни социальным и духовным предписаниям. Позитивная структура мании, как считает Эй, выражается в: 1) игровом поведении; 2) воображаемой игре и фикции и 3) игре импульсов. Маниакальный больной словно вовлечен в игру, он проживает реальность вне реальности, развлекаясь с ее объектами словно с погремушками. Это отражают обилие его жестикуляции, мимика, манерничество, гримасы, шутки, веселое настроение и все поведение. Больной пребывает в неиссякаемом воодушевлении, жонглируя идеями, иллюзиями, эмоциями, и наслаждается своей воображаемой игрой. Тематика этой воображаемой игры, этой фикции может быть разнообразной, но в ней всегда проступают фантазмическое содержание интенциональности сознания, жажда движения, завоевания и неутомимая деятельность.
Структурным эквивалентом мании является меланхолия. В своей негативной структуре она представляет 1) утрату синтетической деятельности мышления; 2) нарушение ясности сознания и 3) изменение темпорально-этической структуры. Утрата синтетической деятельности мышления выражается в безволии, двигательной и психической заторможенности. Мышление становится медлительным и монотонным, сверхконцентрированном на каком-либо предмете, пассивном и инертном. Операциональность и рефлексивность мысли утрачивается. «Деструктуризация сознания, – пишет Эй, – в основном в неспособности расслабляться, развертываться, двигаться. Свойственная ему тяжесть, масса, вес – это качества, структурно эквивалентные изменчивости маниакального сознания»[1167]. Сознание меланхолика окутано дымкой и непроницаемо, оно, так же как и его мир, утрачивает свою ясность и прозрачность. Ко всем этим изменениям прибавляются и изменения темпоральности. Меланхолик утрачивает способность оставлять позади волнующее его прошлое, и течение его времени характеризуется остановкой проживаемого времени. Вектор его времени устремлен назад, он ждет будущего, словно оно уже свершилось, и разрушает собственное настоящее, которое превращается в парализующую и головокружительную пропасть пустоты. В сознании меланхолика остается лишь фатальная актуальность мертвого прошлого или будущего. Позитивную структуру меланхолии при этом составляют: 1) драма; 2) метафизическая тревога и 3) возвращение к фантазмам примитивной тревоги. «Мир меланхолика, – отмечает Эй, – это в буквальном смысле слова мир, лишенный радости»[1168]. Это мир, наполненный грехом, виной и несчастьем, а существование меланхолика пронизано трагичностью, мученичеством и часто сопровождается осознанным или неосознанным героизмом и специфической манией величия. В этой трагичности своего существования меланхолики воплощают все проблемы судьбы, существования и смерти и словно бы предстают самыми выдающимися мыслителями человечества, проникнутыми осознанием трагичности существования и метафизической тревогой. И эта тревога укорена в первичной тревоге потери объекта удовлетворения.
Но мания и меланхолия являются только первым уровнем деструктуризации сознания, а более глубокие изменения связаны с бредом и галлюцинациями, составляющими шизофрению. Любой бред, по Эю, является экзистенциальным изменением отношений «я» с миром. «Вспышки бредового опыта» при этом характеризуются возникающим у больного ощущением тотального изменения окружающей среды, отношений с телом и объективным миром. Это ощущение, как подчеркивает Эй, представляет собой невыразимый фундаментальный, оригинальный и неповторимый опыт.
Отрицательная структура галлюцинаторно-параноидных состояний, по Эю, характеризуется более глубоким расстройством и составлена 1) неясностью мышления; 2) сумеречным состоянием сознания и 3) деструктурацией проживаемого пространства. Последний феномен, при этом, является особенно интересным. Эй считает, что изменение рамок и особенностей самой реальности происходит только на этом уровне деструктурации. Это сопровождается трансформацией телесной схемы, схемы мышления, перспективы объективного пространства и системы пространственных отношений, в которой в актуальности настоящего переживаются отношения с миром. Дезорганизация сознания здесь затрагивает, как он выражается, «гештальтизацию» пространственного порядка и неизбежно приводит к изменению реальности, искажая, склеивая и поражая различные формы пространства. «И это изменение, – подчеркивает Эй, – неизбежно проживается как опыт смешения реальности с воображаемым, соединяющий виртуальный мир образов с миром объектов. Образы и объекты, которые больше не обособляются как феномены со своим собственным местом в пространстве, начинают проникать друг в друга и друг с другом смешиваться, образуя чудовищные и странные фигуры»[1169]. Вектор направленности сознания обращается при этом в противоположную сторону, и эти двойственные, но ставшие «объективными», феномены внешнего мира навязываются «субъективному» теперь сознанию. Настоящее начинает переживаться одновременно и как проживаемая репрезентация, и как чуждая реальность, а настоящее как содержание феноменального поля сознания и как принцип упорядочивания структурных форм проживаемого пространства становится невозможным. Актуальность сознания становится более интенсивной, но утрачивает свою экстенсивность и больше не способна выстраивать перспективу и организовывать возможность реального присутствия.
Позитивная структура шизофрении тесным образом связана с возникающим воображаемым миром, расположенным где-то «на полпути» между миром нормальным и миром сновидного сознания. Эту позитивную структуру составляют: 1) драматическая актуализация прошлого; 2) символизация прошлого и 3) неестественность и искусственность прошлого. В воображаемом мире шизофреника все сюрреалистично, таинственно, кинематографично и поэтично, а образы прошлого и объекты настоящего всплывают в сознании словно яркие картинки. Происходит изменение психической семантики, и то, что в нормальном мышлении является метафорой, утрачивает свою функцию аналога и становится формой опыта и фактом реальности. При этом прошлое приобретает таинственный характер: поскольку сознание как активный деятель больше не участвует в его конституировании, поскольку теперь оно навязывается ему фантастическим миром, сознание воспринимает прошлое как чуждое и непонятное.
Центральным феноменом шизофрении Эй, следуя традиции, называет аутизм, феноменологически определяя его при этом как форму, которая овладевает психической жизнью, чтобы организоваться в замкнутую систему личности и ее мира. Нормальный индивид, по его мнению, может определить себя как «некто», поскольку отличает себя от других, при этом оставаясь в общем с ними мире, т. е. в той же системе логических и нравственных социальных отношений. Аутизм же является деформацией этой системы общих ценностей, поэтому феноменологическое описание этого феномена в обязательном порядке предполагает, по Эю, представление личности, мира и судьбы больного. С целью такого описания психопатология и должна прибегнуть, на его взгляд, к методу экзистенциального или феноменологического анализа.
Этот анализ показывает, что, несмотря на отличие и отрезанность от общего мира, все же имеется некий мир со свойственной ему структурой и отношениями. Эй считает, что, если понимать мир в общем для нас смысле как систему идеальных ценностей и реальностей, благодаря которой мы реализуем проекты нашего существования, то у больных-меланхоликов в этом случае нет мира. При шизофрении же мы имеем другую картину. В основе мира шизофреника также лежит система ценностей, и несмотря на то, что она странна и непонятна нам, шизофреник существует в ней, и она определяет его мир. Больной структурирует свой мир так, словно его целью является достижение еще большей закрытости.
Другой чертой шизофренического мира является его мифологичность. В шизофреническом мире, по мнению исследователя, собраны мифы всех эпох человечества. Концепция мира при этом становится паралогичной, иррациональной и определяется, главным образом, «принципом наоборот». Это мир лабиринтов и тупиков с постоянно сужающимся горизонтом, мир химер. «Мало-помалу, – отмечает он, – объективный мир перестает там существовать и при этом невозможном „Dasein“ подменяется странной сетью искусственных значений, мистических связей, загадочных сил, космических, теллурических или астральных событий, механизмами или персонажами, которые чаще всего заимствуют свой фантастический характер не столько в приемах Гран Гиньоля или в фильмах ужасов… сколько в своеобразном метафизическом и мрачном комичном в стиле Кафки»[1170]. Этот фантастический мир шизофреника существует теперь в разрыве с миром реальным: в нем больше нет связей, соединяющих человека с другими, и любые контакты с реальностью утрачиваются.
С того момента, когда устанавливается и развивается аутизм больного, он больше не развертывает свое существование, его мир теперь есть «конец света» «способ-не-быть-более-в-мире». Наблюдается движение внутрь себя самого, существование становится «существованием задом наперед» и начинает развертываться в воображаемом мире чистой субъективности. «Для него, – пишет Эй о больном шизофренике, – больше не существует проблемы конца, жизни и смерти или, скорее, существует только одно решение с растительной тенденцией упорствовать, углубляться и закрываться в своем существе как в своем ничто»[1171].
Одной из основных особенностей структурного анализа Эя является пронизывающая все его работы идея о том, что исследование патологического функционирования сознания и уровней его деструктурации может привести к наиболее адекватному пониманию деятельности сознания в норме. Это сквозная мысль его психиатрических исследований: после подробного (клинического, феноменологического и структурного) описания меланхолии, мании, галлюцинаторно-параноидных и онейроидных состояний в заключительной части работы Эй развивает собственную теорию структурирования и деструктурации сознания.
Эй определяет сознание «как форму психической жизни, которая организует живой актуальный опыт в поле представленного настоящего и как силу, задающую в феноменальном поле порядок расстройства»[1172]. Описывая сознание как укорененное в организме, он приводит еще одно его определение, отмечая, что оно есть «порядок проживаемой актуальности феноменального поля, объединяющего мир объектов, мир субъекта, мир других в его собственной реальности»[1173]. Деятельность сознания, на его взгляд, хотя и представляет собой деятельность самого субъекта, тем не менее является частично самостоятельной, поскольку зависит также от своей формальной структуры. Эта формальная структура «поля сознания» есть структура темпорально-пространственной организации проживаемого опыта, и патология сознания приводит к частичной или полной деструктуризации всей этой структуры. Но поле сознания имеет также и содержание, изменчивость которого связана, по Эю, с «физиологическими» изменениями сознания. Сознание организовывает проживаемое настоящее в поле представленного настоящего и является формой, пространством и агентом фундаментального опыта существования. Оно, по Эю, является во времени тем же, чем тело в пространстве: субстратом нашего чувственного опыта[1174].
Следуя идеям Джексона и придерживаясь принципа органо-динамизма, Эй подчеркивает, что при исследовании сознания нужно учитывать и физиологические предпосылки деструктуризации сознания, и экзистенциальную антропологию психических расстройств[1175]. Таким образом, физиологические изменения мозга для него первичны и именно они запускают трансформации организации проживаемого опыта.
Если Эй развивал преимущественно феноменологическую психиатрию (хотя ее истоки лежат не совсем в феноменологии), то следующий представитель – Анри Мальдини (род. 4 октября 1912 г.) – предложил свой экзистенциально-аналитический взгляд. Мысль Мальдини сформировалась под влиянием Гуссерля, Хайдеггера и Бинсвангера, что позволило ему стать одним из виднейших представителей феноменологии во Франции. Он был профессором в Эколь Нормаль (это заведение он ранее закончил), в университете Лиона, где заведовал кафедрой общей философии, феноменологической антропологии и эстетики. Работы Мальдини посвящены различным темам, и важнейшее место среди них занимает тема экзистенциального толкования психопатологии.
«Те, кто имеет дело с больным человеком, имеет дело с человеком»[1176], – говорит Мальдини, и это положение, центральное также для всей традиции экзистенциально-феноменологической психиатрии, становится отправным пунктом: необходимо изучать человека, прислушиваясь к его существованию. По его мнению, психиатрия, психоанализ и психология в современное ему время более других наук поставлены перед проблемой «что значит быть человеком». Проблема здесь не только в том, какую идею человека избрать отправной, но и в том, как построить медицинскую практику, относительно независимую от теоретического знания.
Психиатрия, будучи позитивной наукой, на взгляд Мальдини, является наукой о предметах, и поэтому упускает само бытие. Терапевтическая ситуация, взаимодействие психиатра и пациента – это определенный способ бытия, способ существования другого и перед другим, поэтому в эту ситуацию взаимодействия вовлекается обязательно не только раскрытие другого, но и главным образом раскрытие себя самого. Бытие общения «психиатр – больной» – это ситуация двойного раскрытия и двойного существования.
Существование психически больного, как считает исследователь, – это измененное бытие, утрата права бытия. Над больным в психическом заболевании господствует чуждая сила, бредовая идея, сам внешний мир может давить на него и его порабощать. Так происходит, на его взгляд, например, при шизофрении, когда ни «я», ни мир не существуют в открытой возможности, а существование, проект заменяются суррогатом. Меланхолик плывет за временем и никогда не ощущает настоящее и присутствие, маниакальный больной безразличен ко времени и опыту, у первого нет будущего, у второго – прошлого, и у обоих отсутствует настоящее[1177]. Вторым моментом мира психической патологии при этом становится блокирование события. Именно поэтому, по мнению Мальдини, терпит неудачу проект шизофреника: не потому, что разрушен изнутри, но поскольку отрезан от со-бытия. На место события приходит существование в небытии, которое часто обретает характер псевдо-мира.
Мальдини стал идейным вдохновителем одной из самых известных в терапевтических кругах современных школ экзистенциального анализа – бельгийского Dasein-анализа. В настоящее время президентом бельгийского центра и бельгийской школы Dasein-анализа является Адо Гюйгенс – доктор и агреже клинической психологии, выходец из Лувенской школы феноменологии.
Центральным понятием этой школы Dasein-анализа является понятие экзистенциальной встречи. Психотерапия понимается при этом как пространство столкновения, осмысления и анализа бытия-в-мире. Подчеркивается, что понятие Dasein[1178] не должно редуцироваться и представляться как категория, поскольку укоренено в «между-ощущении», в котором Dasein, мир, вещи и трансценденция пронизывают друг друга[1179]. Это «между» при этом есть фундаментальное негеографическое пространство, в котором «различие» и «единство» сливаются в присутствии, в котором открытость позволяет людям становиться людьми. Врач направляет свое внимание на модус бытия-в-мире, поскольку именно оно трансформируется при психическом заболевании. Психиатр должен проникнуть в царство присутствия больного и схватить реальность, какой он ее переживает. Поскольку таким образом экзистенциальный аналитик стремится проникнуть в восприятие и переживание, он должен в обязательном порядке практиковать феноменологическую редукцию: отстраняться от собственных и научных предубеждений и погружаться в фундаментальный способ бытия своего пациента. И в нем ему открываются экзистенциалы его существования: пространственность, темпоральность, историчность, настроенность, событие, телесность, заброшенность и др. Гюйгенс отмечает, что в основе Dasein-анализа лежат следующие установки (мы приводим лишь некоторые из них):
• прислушиваться к экзистенциальным измерениям, в которых существует человек;
• ощущать выпавшие фрагменты человеческого присутствия;
• распутать ткань истории больного, запутанную его прошлым, его верованиями и предрассудками;
• возвратиться к выпавшим и слабым точкам, разрушающим присутствие через кристаллизацию травмирующих событий;
• разделить с больным экзистенциальные моменты совместного существования;
• больше не считать мысль или идею аподиктически истинными, но просто проживать ситуацию;
• воздерживаться от суждений и предрассудков, можно только наблюдать;
• обратиться к истокам и универсальному дологическому основанию всех переживаний, конституирующих мир;
• знать о том, что объекты не воспринимаются нами, но взаимодействуют со мной в дорефлексивном и дообъектном сознании[1180].
Стремясь ответить на вопрос об экзистенциальном контексте психического заболевания, бельгийские Dasein-аналитики развивают идеи своих предшественников. Так, фундаментальным экзистенциалом Dasein при меланхолии признается настроение в его онтологическом смысле, как модус бытия-в-мире. Недоступность и закрытость мира меланхолика, на взгляд Гюйгенса, обусловлена грустью как настроением, как настроенностью[1181], поскольку настроение – это не только модус существования в мире, но и его открытость. Грусть меланхолика поэтому есть следствие его закрытости от мира: это погруженность в пустоту, которая приводит к неспособности к взаимодействию, ощущению невозможности диалога.
Неизменной характеристикой патологического существования становится погруженность в ничто. Здесь исследователь выделяет три возможных формы небытия[1182]: 1) ничто-небытие – оно ввергает человека в пропасть и выдвигает требование его исчезновения, при этом сущность небытия – ужас; 2) ответ-уничтожение на требование ничто-небытия – это последовательное развитие первой формы, связана она со свойственным современному миру нигилизмом; 3) раскрытие небытия – связано с самим процессом переживания ничто и постижения сущего.
Эти формы ничто и проступают в меланхолии. Нигилизм меланхолика эндогенный и связан с психозом. «Граница между депрессией и меланхолией и, в общем, между психопатией и психозом, – пишет А. Мальдини, – разделяет расстройство настроения и трансформацию „я“»[1183]. Нигилизм меланхолика охватывает и мир и укоренен, чисто по ницшеански, заявляет Гюйгенс, в утрате власти над бытием, власти над бытием «я». Ничто начинает поглощать, словно черная дыра. Пассивность берет верх над активностью, и деятельность сменяется актом.
Как мы видим, перед нами классический пример использования Dasein-анализа в психотерапии, но, к сожалению, как во многом и у Босса, здесь он превращается в набор готовых формул и постулатов, только на смену лексикону психоанализа приходит лексикон Dasein-анализа. По мнению идейного вдохновителя бельгийской школы, это направление до сих пор актуально. 1 сентября 1999 г. в ответ на вопрос, не исчерпан ли Dasein-анализ, он ответил: «Dasein-анализ – это анализ тех измерений, на основании которых человек существует. Он будет превзойден (d?pass?e) лишь тогда, когда будет превзойдено само существование…»[1184].
Бельгийский Dasein-анализ как по своей направленности, так и по своему духу близок, скорее к версии Босса, а не Бинсвангера. По-видимому, эту близость обусловливает большая терапевтическая, нежели теоретическая его ориентация.