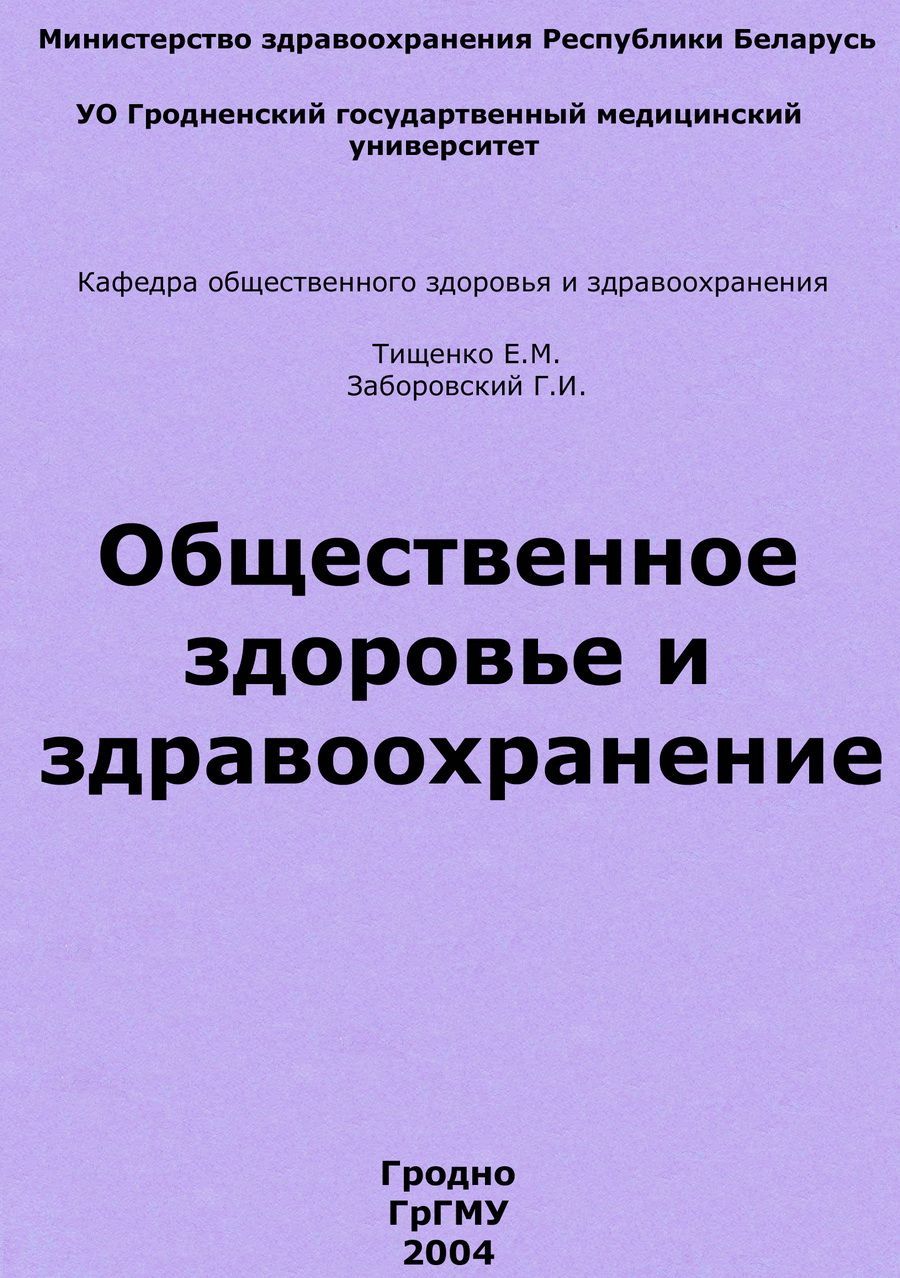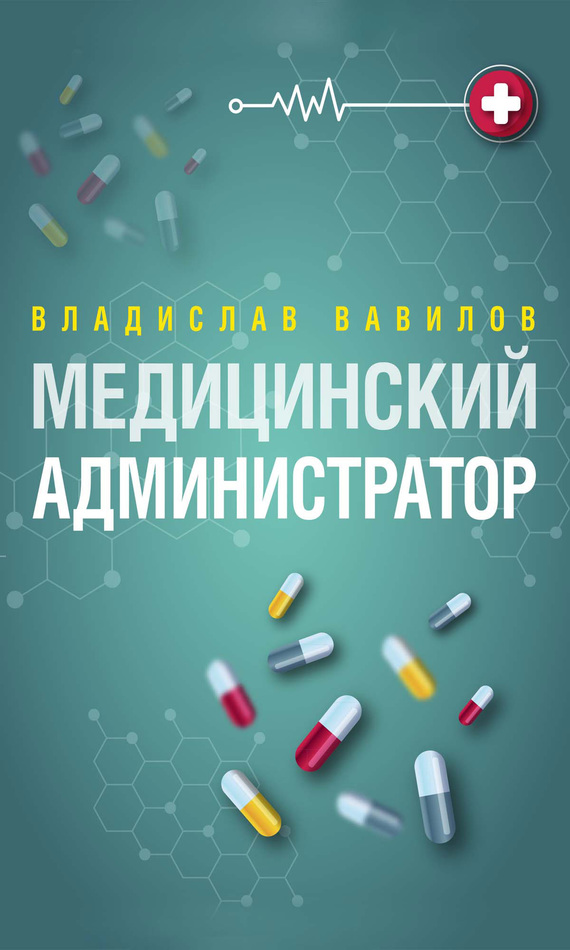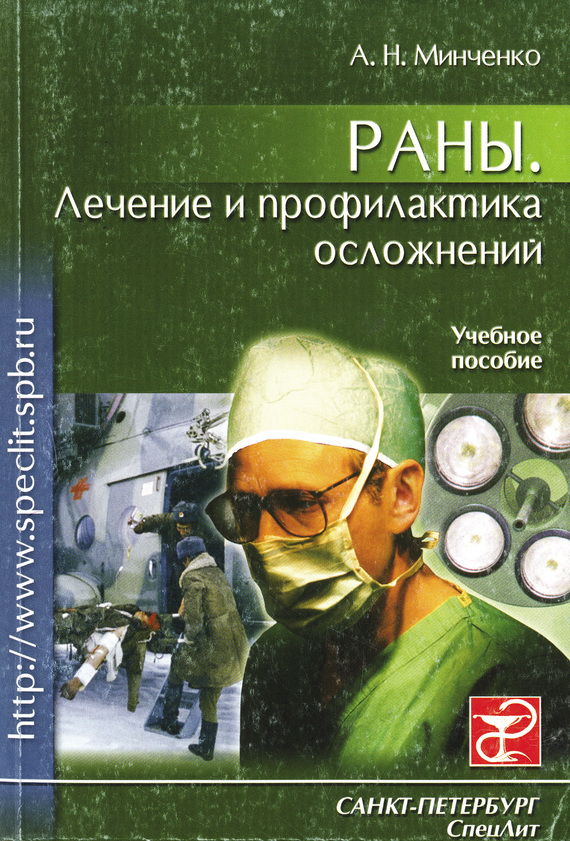2. Свобода
Наше самосознание подсказывает нам: мы свободны. Это самосознание, очевидность этого прафакта нашей свободы, однако, может легко затмеваться. Например, причиной такого затемнения может быть психология в ее естественнонаучном выражении; такая психология не знает свободы, не имеет права ее знать – равно как физиология не имеет права признавать свободу воли и даже видеть ее. Психофизиология заканчивается по эту сторону свободы воли – точно как теология начинается по ту сторону этой свободы, там, где человеческая свобода воли подчинена божественному провидению. Естествоиспытатель как таковой может быть только детерминистом. Но кого можно считать «лишь» естествоиспытателем? Естествоиспытатель, невзирая на все научные установки, остается человеком – полноценным и целостным человеком. Но и предмет исследования этой науки – сам человек – составляет больше, чем способно увидеть в нем естествознание. Естествознание рассматривает только психофизический организм, но не духовную личность. Поэтому оно не в силах заметить и ту духовную автономию, которая присуща человеку, несмотря на его психофизическую зависимость. При исследовании «автономии несмотря на зависимость» (Н. Гартман) естествознание, в том числе естественнонаучная психология, усматривает только момент зависимости: вместо автономии духовной экзистенции – автоматизм душевного аппарата. Она видит лишь проявления необходимости.
Но человек как таковой всегда находится по ту сторону таких фактов необходимости – пусть даже и по эту сторону возможностей. Человек по сути своей – это существо, проникающее за пределы необходимости. Конечно, он «касается» необходимостей, но это свободное отношение.
Необходимость и свобода ни в коем случае не находятся в одной плоскости. На любом уровне, где оказываются человеческие зависимости, мы никак не сможем констатировать человеческую автономию. Когда мы беремся за исследование свободы воли, мы при этом ни в коем случае не можем допускать смешивания уровней бытия. Но где отсутствует такое смешение, там нет и компромисса между разными точками зрения. Итак, совершенно немыслимым представляется компромисс между детерминизмом и недетерминизмом. Необходимость и свобода располагаются на разных уровнях, можно сказать, что свобода превышает любую необходимость, надстраиваясь над ней. Таким образом, причинно-следственные связи остаются целиком и полностью замкнуты. Поскольку же они открыты в более высоком измерении, они подразумевают и более высокую «причинность». Бытие всегда, несмотря на любую причинность в узком смысле этого слова (то есть на собственно бытийную причинность), остается открытым сосудом, который готов принять в себя все, что имеет смысл. Бытие является обусловливающим, и в него проникает действующий смысл.
Что касается свободы, она может относиться к трем феноменам, а именно:
1) к влечениям;
2) к наследственности;
3) к окружающей среде.
Аспект 1. Человек имеет инстинкты – но инстинкты не владеют им. Он извлекает из влечений тот или иной прок, но влечения не составляют все человеческое существо. То есть мы не отрицаем влечения как таковые, но я же не могу признавать наличие чего-либо, если прежде не обрету свободы его отрицать.
Таким образом, признание влечений не только не вступает в противоречие со свободой, но даже является предпосылкой для свободы отрицать. Свобода – это, в сущности, свобода в отношении чего-то, «свобода от» и «свобода для» (ведь если я ориентируюсь не только на влечения, но и на ценности, то я свободен также говорить «нет» по отношению к этическим требованиям, я просто позволяю этим требованиям определять мое поведение).
Психологическая действительность показывает, что «влечения как таковые» у человека никогда не проявляются. Все такие влечения по определению одобряются или отрицаются; они в любом случае – так или иначе – являются оформленными. Вся инстинктивность у человека заранее отлита его духовной позицией, так что подобная выраженность инстинктивности «исходя из духовного» может считаться априорно присущей человеку. Влечения всегда регулируются, озвучиваются и наполняются личностью; все влечения являются персонифицированными[35].
Поскольку влечения человека – в противовес влечениям животного – заранее оказываются полностью подчинены человеческой духовности, человеческая инстинктивность уже вплетена в эту духовность. Таким образом, не только при торможении влечений, но и при их раскрепощении неизменно работает дух, независимо от того, вмешивается ли он в проявления влечений или воздерживается от этого.
Человек – это существо, всегда способное сказать «нет» своим влечениям, поэтому человек ни в коем случае не должен в любых ситуациях поддаваться влечениям и говорить «да будет так». Всякий раз, когда человек одобряет свои влечения, это происходит лишь в процессе его самоидентификации с ними. Все это, конечно же, выделяет человека из царства животных. В то время как человек вынужден снова и снова идентифицировать себя со своими влечениями (если он вообще им поддается), но зверь равноценен своим инстинктам. Человек имеет инстинкты, а зверь не имеет ничего, кроме них. Человек противопоставляет влечениям свою свободу именно потому, что она априори и неотделимо присуща ему. Все, что у меня «есть», я вполне могу и потерять.
Для человека не существует влечений без свободы и свободы без влечений. Напротив, как мы уже показали, любая инстинктивность человека обязательно пересекает пространство свободы еще до того, как будет выражена; в свою очередь, человеческая свобода нуждается в инстинктах как в той точке опоры, на которой она зиждется, и, конечно, как в почве, над которой возвышается и от которой может отталкиваться эта свобода. Вновь подчеркнем: влечения и свобода находятся в корреляции друг с другом.
Однако такое коррелятивное отношение отличается от того, что складывается, например, между душой (псюхе) и телом (физисом). В противовес обязательному психофизическому параллелизму существует и феномен, который мы именуем необязательным ноопсихическим антагонизмом.
Аспект 2. Что касается наследственности, недавнее строгое исследование в этой области показало, в какой значительной степени человек обладает свободой и относительно своих задатков. Исследования близнецов особенно красноречиво показывают, насколько по-разному может сложиться жизнь у людей с идентичными исходными данными. Достаточно вспомнить всего одну пару однояйцевых близнецов, описанных Ланге, один из которых стал прожженным бандитом, а другой – не менее искусным криминалистом. Врожденная характерная черта – хитрость – у обоих братьев была идентичной, но при этом ценностно-нейтральной. Иными словами, хитрость сама по себе не является ни пороком, ни добродетелью. Мы убеждаемся, насколько прав был Гёте, однажды сказавший, что нет такого порока, который нельзя было бы превратить в добродетель, и такой добродетели, которую нельзя было бы превратить в порок. В нашем распоряжении есть письмо одной женщины-психолога, живущей на чужбине, которая написала, что по характеру она до мельчайших деталей походит на свою сестру-близнеца. Им нравятся одни и те же платья, музыка одних и тех же композиторов, одинаковые мужчины. Между сестрами есть лишь одно отличие: одна из них жизнестойка, а вторая – невротична[36].
Аспект 3. Наконец, что касается окружающей среды, мы снова видим, что не она формирует человека. Гораздо важнее, что сам человек извлекает из своей окружающей среды, как он к ней относится. Роберт Дж. Лифтон пишет в «Американском журнале психиатрии» (American Journal of Psychiatry, 1954, № 110, p. 733) об американских солдатах, которые находились в северокорейском плену: «Среди них было достаточно примеров как крайнего альтруизма, так и самых примитивных форм борьбы за выживание».
Таким образом, человека отнюдь нельзя считать продуктом наследственности и окружающей среды. Третье дано, и это третье – решение: в конечном итоге человек сам решает, каким ему быть!
Теперь попробуем очертить важнейшие из потенциально возможных измерений человека. Одно из таких измерений можно было бы назвать витальной основой; с этим измерением работает как биология, так и психология. Далее следовало бы учитывать социальное положение каждого отдельного человека; это тема социологического исследования. Оба эти измерения – как витальная основа, так и социальное положение – образуют естественную заданность человека. Такую заданность всегда можно установить и зафиксировать при помощи трех наук: биологии, психологии и социологии. Однако мы не должны упускать из виду, что человеческое бытие как таковое начинается только там, где прекращается вся устанавливаемость и фиксируемость, любая однозначная и окончательная определимость. На этом начинается и впервые добавляется к естественной заданности человека его личная заданность, личностная позиция по отношению ко всему, к любым задаткам и любой ситуации. Такая заданность сама по себе уже не может быть предметом исследования вышеуказанных наук; она закрыта от всяческого доступа любой из них. Эта заданность разворачивается в собственном измерении. Кроме того, она, эта заданность, по сути своей свободна; в конечном итоге она – это решение. Когда же мы дополняем эту координатную систему последним возможным измерением, то это измерение соответствовало бы экзистенциальной перестройке – той самой, которая в любое время осуществима на основе свободы личностной заданности.
Сами по себе все высказывания о человеке применительно к каждому отдельному его измерению представляются совершенно справедливыми. Однако необходимо всегда учитывать ограниченную правоту этих суждений, обусловленную их дименсиональным характером.
Биологизм и психологизм всегда учитывают витальную обусловленность человека, а его социальная обусловленность – это предмет социологизма. Итак: социологизм видит лишь эту социальную обусловленность, видит все человеческое в кругу и в рамках этой обусловленности – в такой степени, что за пределами такой обусловленности от взгляда социолога полностью ускользает все собственно человеческое.
Социально обусловленным является, в частности, и познание, постижение чего-либо; однако при более внимательном рассмотрении немедленно выясняется, что социально обусловленным являются только постигающий и постигаемое. Однако никакая социальная обусловленность не распространяется на постигнутое или на то, что должно быть постигнуто. Но социологизм склонен (и даже стремится) к тому, чтобы полностью уводить на задний план объект познания, упорно выдвигая вперед самые разные формы обусловленности субъекта познания!
При этом также приходится отказаться от объективности объекта – социологизм превращается в субъективизм.
Ошибка, в любом случае совершаемая социологизмом, заключается в перепутывании формы и содержания: содержимое познания имманентно сознанию, а обусловленность субъекта – подчинена; предмет познания, напротив, проницаем для сознания и никоим образом не подчиняется обусловленности субъекта.
Мы также знаем, на основании чего все постижение оказывается в высшей степени субъективно обусловленным: любое содержание изначально представляет собой сектор предметной области. Например, нам известно, что все органы чувств фильтруют воспринимаемую информацию, каждый из этих органов настроен на «прием» энергии на конкретной частоте. Но любой организм в целом вычленяет из окружающего мира лишь определенный «срез», и именно этот срез воспринимается как окружающая среда (специфичная для каждого вида). Таким образом, любая окружающая среда представляет собой лишь один аспект мира, а каждый такой аспект является вариантом выбора из всего спектра свойств этого мира[37].
Итак, мы подходим к доказательству того, что любая обусловленность, любая субъективность и относительность познания ограничивается тем, что избирается при познании, но не тем, что в принципе имелось на выбор. Иными словами, все познание избирательно, но не продуктивно; оно не производит мир, равно как и окружающую среду, а лишь выбирает некоторые из феноменов окружающей среды[38].
Разумеется, мы наблюдаем лишь один из срезов окружающего мира, причем это субъективный срез. Однако этот субъективный срез берется из объективного мира!
Все человеческое обусловлено. Но собственно человеческим оно становится лишь тогда и в той степени, в какой способно возвыситься над собственной обусловленностью, то есть преодолеть, «трансцендировать» ее. Итак, человек является человеком лишь тогда и настолько, насколько он – будучи духовным существом – способен выйти за телесные и душевные пределы своей личности.
Вдобавок ко всему тому, в чем я существую и над чем я в то же время существую, относятся все внешние обстоятельства, а также все внутренние состояния моего бытия-в-мире[39], соответственно, относится и всяческая психическая способность принимать то или иное состояние: в принципе, я могу отстраняться именно по причине существования того ноопсихического антагонизма, который мы эвристически противопоставляли психофизическому параллелизму, а также благодаря упрямству духа, позволяющему человеку применять телесно-душевные состояния и общественные обстоятельства для сопротивления и для самоутверждения в своей человечности. Другое дело, что такое упрямство нужно далеко не всегда; выше мы четко указываем, что, к счастью, человек отнюдь не во всех случаях должен прибегать к такому упрямству, потому что он самоутверждается благодаря своим влечениям, наследственности и окружающей среде как минимум не реже, чем вопреки им.
Мы же хотим подчеркнуть тот факт, что человек как духовное существо, обретающееся в мире – как во внутреннем мире, так и в окружающей среде, – не только противостоит этому миру, но и занимает по отношению к нему определенную позицию, благодаря которой он может так или иначе «сориентироваться» в мире, «относиться» к нему, причем такое отношение также является свободным. В каждый миг своего бытия-в-мире человек занимает ту или иную позицию как по отношению к естественной и социальной окружающей среде, так и к собственному витальному внутреннему психофизическому миру. При этом ту часть человека, которая противопоставляется в нем всему общественному, телесному и даже душевному, мы именуем духовной. По определению лишь духовное в человеке является по-настоящему свободным. Личностью мы априори именуем лишь то, что может вести себя свободно по отношению к самым разным явлениям. Духовная личность в человеке есть то, что всегда и в любом случае может возразить!
К способности человека возвыситься над вещами относится и возможность возвыситься над самим собой. Проще говоря, именно такие выражения мы стараемся подбирать в беседах с нашими пациентами: я не обязан во всем сам себе нравиться. Я могу отстраниться от того, что существует во мне, причем не только от нормально-психического, но и до определенной степени – границы которой могут сдвигаться – и от моих психических аномалий. Поэтому нельзя сказать, что я неотрывно привязан к таким вещам, как мой биологический тип или психологический характер. Ведь я просто «имею» такой тип или характер, а «являюсь» я личностью. Такое мое личностное бытие означает свободу – свободу к личностному «становлению». Это свобода от собственной фактичности и к собственной экзистенциальности. Свобода от привычного так-бытия и свобода к тому, чтобы стать другим.
Это особенно важно в связи с невротическим фатализмом: всякий раз, когда невротик говорит о собственной личности, о персональном так-бытии, он склонен застревать и поступать так, как будто это так-бытие подразумевает невозможность иного бытия. На самом же деле бытие-в-мире не ограничивается всего одним вариантом так-бытия. Любая экзистенция «вписана» в собственную фактичность, но не растворяется в ней. Она просто эк-зистирует, то есть по определению выходит за пределы собственной фактичности.
Именно в этом заключается своеобразное диалектическое выражение человеческого бытия: оно состоит из двух непременно требующих друг друга факторов – экзистенции и фактичности, – а также предполагает неразрывную связь двух этих факторов друг с другом! Оба фактора всегда сопряжены друг с другом, поэтому разделить их можно только насильно.
В свете этого диалектического единства и целостности, в которую в человеческом бытии-в-мире сливаются психофизическая фактичность и духовная экзистенция, оказывается, что строгое разделение духовного и психофизического в конечном счете может быть только эвристическим! Подобное разделение не может не быть чисто эвристическим уже потому, что духовное не является субстанцией в привычном смысле этого слова. Напротив, оно представляет собой онтологическую сущность, а об онтологической сущности ни в коем случае нельзя говорить так же, как об онтической реальности. Вот почему о «духовном» мы всегда говорим в псевдосубстантивных выражениях и используем субстантивированные прилагательные[40], избегая существительного «дух», которым может быть обозначена только субстанция.
И все же строгое разграничение духовного и психофизического неизбежно и необходимо потому, что духовное само по себе является самоотграничивающимся, самоотчуждающимся. Духовное отчуждает само себя, как экзистенция отчуждается от фактичности и личность – от характера подобно тому, как фигура отделяется от фона.
Очевидно, что от точки зрения, с которой мы рассматриваем человеческое бытие, зависит, что попадает в наше поле зрения: преимущественно его единство и целостность или его разделение на духовное и его противоположность – психофизическое. В таком случае нам будет казаться, что в исследованиях в русле «бытийного анализа» больше внимания уделяется единству, в то время как наш экзистенциально-аналитический исследовательский подход подчеркивает множественность. Понятно, что, если перед нами стоит задача анализа (как бытийного, так и экзистенциального), нам важно раскрыть единство человеческого бытия, а для целей психо– или логотерапии важна его множественность!
Как известно, поставить диагноз – это одно дело, а вылечить больного – совсем другое. Чтобы излечиться, больной должен каким-то образом постараться внутренне абстрагироваться от своей болезни, если не сказать, абстрагироваться от своего «без-умства». Если же с самого начала я буду относиться к болезни как к чему-то, что полностью захватывает и преобразует человеческое бытие, диффузно проходя сквозь него, я никогда не смогу постичь «собственно» больного – ту (духовную) личность, которая стоит за любым (и над любым, в том числе душевным) заболеванием; в этом случае передо мной оказывается всего лишь болезнь и ничего, что я мог бы противопоставить болезни, противопоставить неизбежной и фатальной необходимости существовать в мире так (страдая от меланхолии, мании или шизофрении) и никак иначе.
Если бы я только мог в таких условиях установить ту плодотворную дистанцию, которая в силу факультативного ноопсихического антагонизма позволяет больному как духовной личности занять такую позицию по отношению к психофизическому заболеванию, которая имеет сильнейшую терапевтическую значимость! Ведь это внутреннее расхождение, эта дистанция, пролегающая между духовным и психофизическим, составляющая основу ноопсихического антагонизма, представляется нам крайне эффективной в терапевтическом отношении. В конечном счете любая психотерапия должна основываться на ноопсихическом антагонизме.
Мы постоянно сталкиваемся с тем, что наши пациенты ссылаются на свой характер; но характер, на который я ссылаюсь, превращается в своего рода стрелочника: в тот самый момент, когда я говорю о характере, я как бы оправдываю себя и сваливаю все на него. Черты характера ни в коем случае не играют никакой решающей роли: решающая роль в конечном счете всегда принадлежит позиции личности. Таким образом, (духовная) личность принимает решения «в последней инстанции», касающиеся (душевного) характера, и в этом смысле можно сказать следующее: «за себя» решает человек; всякое решение является собственным решением, а всякое собственное решение есть самосозидание. Пока я формирую свою судьбу, личность, которой я являюсь, формирует характер, которым я обладаю. Другими словами, так формируется личность, которой я становлюсь.
Что же все это может означать, как не следующее: я не только поступаю в соответствии с тем, чем я являюсь, но и вырастаю из своих поступков[41].
Из постоянного совершения добра в конце концов вырастает добродетель.
Мы точно знаем: действие – это превращение возможности в действительность, потенции – в акт. Что же касается, в частности, нравственного поступка, то человек, совершающий его, не удовлетворяется его уникальностью: он продолжает совершать его снова и снова, превращая таким образом акт в привычку. Что однажды представляло собой нравственный поступок, становится со временем нравственной позицией.
Таким образом, можно сказать: сегодняшнее решение есть завтрашний порыв.