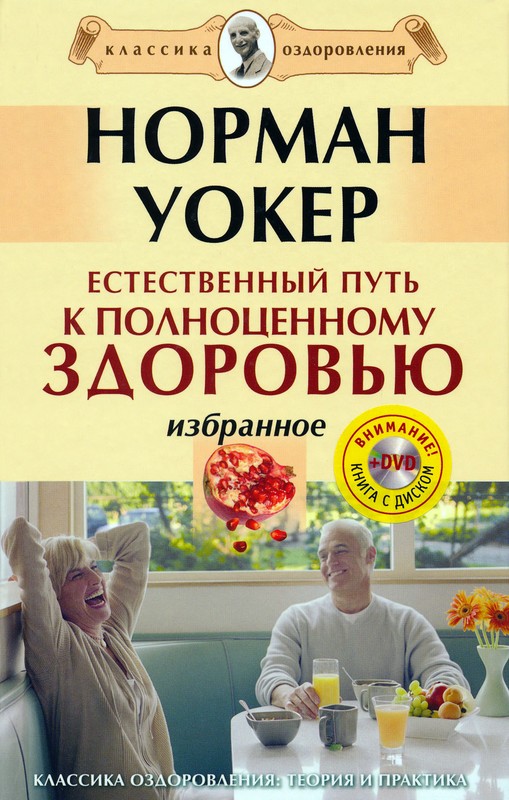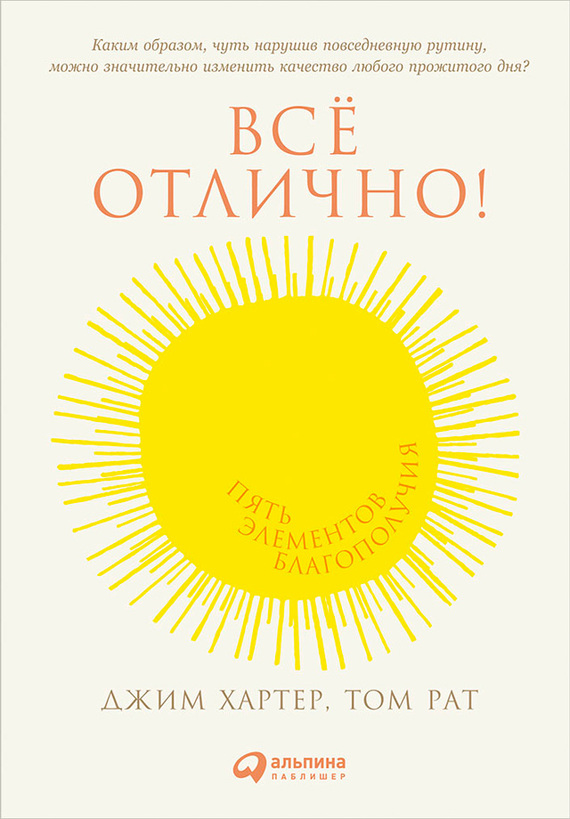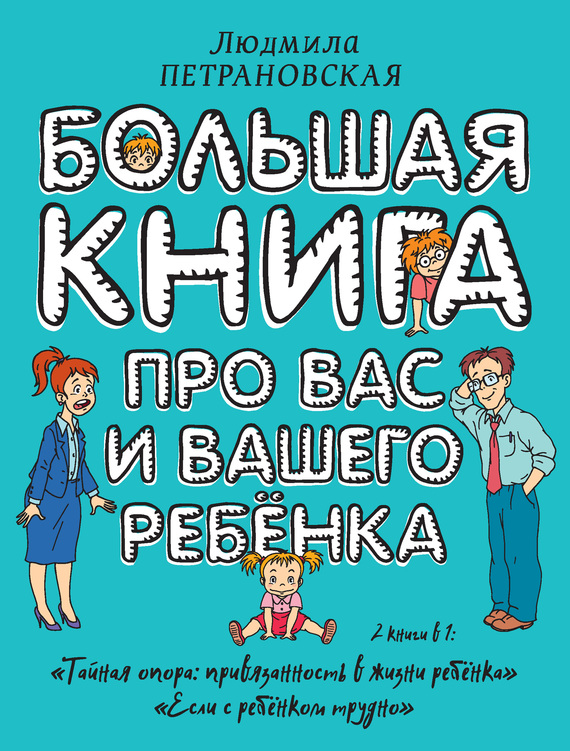2. Дерефлексия
При неврозе страха мы всегда можем наблюдать, что страх ожидания, который встречается в нашей практике достаточно часто, сопровождается порождаемым им же навязчивым самонаблюдением; оно-то и является самым коварным в этом порочном круге.
При сексуальных неврозах, как мы увидели, складывается иная картина: к форсированной интенции добиться сексуального удовольствия добавляется форсированная рефлексия по поводу полового акта. Оба случая – избыток намерения и избыток внимания – являются патогенными, поскольку, аналогично ситуации засыпания, в ситуации полового акта избыток намерения, равно как и избыток внимания, обусловливает нарушение естественного процесса. Однако в основе и того и другого лежит страх ожидания – то пугающее ожидание сбоя, которое, с одной стороны, вызывает форсированное желание нормального осуществления функции, а с другой стороны, приводит к форсированному наблюдению за осуществлением процесса, в котором с опасением ожидаются сбои. Таким образом, мы видим, что любое намерение, как и наблюдение, способно нарушать нормальный ход процесса.
При неврозах навязчивых состояний происходит совсем другое.
Оказывается, что типичное для неврозов навязчивых состояний навязчивое повторение можно свети к недостаточному чувству очевидности, а навязчивый контроль – к недостаточному чувству защищенности. Э. Штраус на полном основании указывает на то, что для пациентов, страдающих неврозами навязчивых состояний, характерна антипатия ко всему временному. По нашему мнению, не менее характерна для них и нетерпимость ко всему случайному. Ничто не может, если говорить о познании, быть случайным или, если говорить о решении, временным. Все должно быть обязательно определено и оставаться определенным.
Когнитивную (относящуюся к познанию) недостаточность невротик с навязчивым состоянием пытается компенсировать дотошностью и сверхсознательностью, а недостаточную решительность он компенсирует скрупулезностью и сверхсовестливостью. В когнитивной сфере это приводит невротика к гиперрефлексии, к навязчивому самонаблюдению, а в сфере принятия решений – к болезненному прислушиванию к совести.
Адольф П. (неврологическая поликлиника, амбулаторная карта 1015 / 1948): «Никогда мне не доводилось ощущать факт бытия – могу лишь сказать, что умозрительно его представил; при этом факт бытия является самоочевиднейшей из самоочевидных вещей. Но даже в том, о чем знает любой невежда, я могу убедиться, лишь если это стопроцентно доказано. Все это я должен сперва осознанно усвоить. Меня никогда не осеняет: к любым выводам я прихожу только после длительного обдумывания. Я должен себе все осознанно проговорить. Я привязан ко всему рассудочному и привык действовать так: все знать – наблюдать – быть начеку; но чисто рассудочным познанием этого не достичь. Как мне прийти к самоочевидному факту собственной вписанности в бытие? Я хотел бы гореть вместе с миром. Ведь должен быть во Вселенной такой раскаленный добела сияющий центр, обогревающий все остальное. С другой стороны, без рассудочности у меня ничего не получается. Если я покину единственную твердую почву – разум и рассудок, то есть мой обостренный рационализм, я окажусь в эпицентре абсурда. Если бы я захотел избавиться от сверхсовестливости, то оказался бы в самой бессовестности; из педантичности сразу попадаю в неряшливость, из гипертрофированной ответственности – в безответственность. Я лишен инстинктов!»
Жертвой навязчивого невроза овладевает фаустианский порыв, воля к стопроцентности, борьба за стопроцентно надежное познание и за стопроцентно верное решение. Подобно Фаусту, человек, страдающий навязчивым неврозом, терпит фиаско и при этом чувствует, что «человеку не дано достичь совершенства».
Он еще не оставляет борьбы за стопроцентность познания и решений; ведь равно как при неврозах страха, сам страх конкретизируется и конденсируется вокруг содержания и предмета невроза, так и когнитивный, и решательный абсолютизм при навязчивых неврозах отвергает «часть вместо целого» (Р. Бильц). Он ограничивается псевдоабсолютным. Примерный отличник считает, что достаточно иметь абсолютно чистые руки, прилежная домохозяйка удовлетворяется абсолютно чистой квартирой, а работник умственного труда доволен, если у него полный порядок на письменном столе.
Для человека, страдающего навязчивым неврозом, точно как и для жертв невроза страха, характерна такая черта: их стремление к безопасности словно отклонено, «направлено на себя», рефлексивно и к тому же имеет в известной мере субъективистскую, если не сказать психологистическую природу. Однако чтобы все это можно было лучше понять, мы должны отталкиваться от стремления к безопасности, свойственного нормальному человеку. О таком стремлении можно сказать: его суть – безопасность и только. Однако аналогичное стремление у невротика ни в коем случае не ограничивается безопасностью, этой зыбкой защищенностью всяческого тварного бытия. У человека, страдающего неврозом страха, эти волевые усилия направлены на то, чтобы обезопаситься от катастроф. Поскольку абсолютной защиты от них гарантировать невозможно, жертве невроза страха приходится ограничиваться лишь чувством защищенности. Однако при этом он уже отворачивается от мира объектов и предметов и обращается к субъективному и пассивному: при существовании в условиях невроза страха больной пребывает уже не в обычном мире, который дарит обычному человеку ежедневный покой, тот покой, которым можно удовлетвориться при относительной маловероятности катастрофы, – человек, страдающий неврозом страха, хочет, чтобы катастрофа была полностью исключена. Такая воля к абсолютной безопасности вынуждает его возводить чувство защищенности в своеобразный культ; если лежащий в основе этого уход от мира представляет собой своеобразный акт грехопадения, из-за которого в известной мере оказывается нечиста совесть, то это, в свою очередь, требует компенсации, попытаться достичь которой невротик может только через нечеловеческое преувеличение своего рефлексивно-субъективистского стремления к безопасности. В то время как человеку, страдающему неврозом страха, так важно добиться абсолютной защищенности от катастрофы – такую защищенность он вынужден преобразовывать в форсированное стремление к обычному чувству защищенности, – человеку, страдающему навязчивым неврозом, важно обеспечить надежность своего познания и принимаемых решений. Но и у него такое стремление вплетено в ощущение случайности и мимолетности тварного бытия-в-мире. Кроме того, и его стремление к надежности приобретает субъективистскую направленность и оканчивается судорожным порывом исключительно к чувству «стопроцентной» надежности. Однако здесь становится понятна трагическая тщетность: ведь если его «фаустианское» стремление к абсолютной надежности как таковое уже обречено на провал, то лишь стремление к абсолютному чувству надежности оказывается оправданным. Ведь в тот миг, когда это чувство становится целью как таковое (а не просто наступает как обычная последовательность объективных актов реализации этого чувства), тогда же оно и окончательно теряется. Человеку уже недоступно чувство полной безопасности в каком-либо отношении; но человек, страдающий навязчивым неврозом, менее всего может рассчитывать приобщиться именно к такому чувству абсолютной надежности, которое он так судорожно стремится достичь. Резюмируя, можно сказать: нормальный человек вполне может существовать в относительно предсказуемом мире, тогда как невротик стремится к чувству абсолютной защищенности. Нормальный человек будет отдавать себя любимому / партнеру, тогда как человек, страдающий сексуальным неврозом, жаждет оргазма, нацелен на него как на таковой, и из-за этого у него нарушается потенция. Нормальный человек готов признать тот или иной аспект мира «случайным», а жертва навязчивого невроза стремится к чувству очевидности, нацелена на него и тем самым гонит себя к прогрессу в бесконечное. Наконец, нормальный человек хочет нести экзистенциальную ответственность за конкретное бытие-в-мире, а скрупулезный человек, страдающий навязчивым неврозом, стремится исключительно к ощущению абсолютно чистой совести. Таким образом, он хочет слишком многого с точки зрения того, что может пожелать человек, и в то же время слишком малого – в сравнении с тем, что может выполнить человек.
С терапевтической точки зрения важно построить для больного с навязчивым неврозом «золотой мост», который в итоге приведет его к самостоятельному отказу от рационализма. На этом пути мы подсказываем пациенту девиз: разумнее всего не пытаться быть предельно разумным[92].
Пациент с навязчивым неврозом все будет «делать» со знанием и волей, после чего видит все «сделанным» и «желанным», причем не преходящим, не быстротечным. Но это чувство может быть настолько более рафинированным, насколько острым бывает разум. Так, оказывается, что нрав и чувства имеют когнитивный приоритет над всяким разумом и рассудком, и при этом бессознательная (читай – нерефлексируемая) духовность гораздо более мудрая, чем сам человек склонен оценивать. Короче говоря, сердечная мудрость человека обладает неоценимой когнитивной важностью. При этом само сердце представляет собой не что иное, как ядро и центр человека, личности, причем интимной личности, глубинной духовной личности.
Все это позволяет понять, насколько сильно в случаях навязчивого невроза необходимо воспитание доверия к бессознательному, к бессознательной духовности, к когнитивной и решательной приоритетности характера и чувств в человеке над рассудком и пониманием. Иными словами, то, что мы втолковываем страдающему навязчивым неврозом, то, что передаем ему, стимулируем заново это обрести, есть доверие человека к собственной сердечной мудрости.
Нам известен случай (профессор Петер С.), в котором пациент, также страдающий навязчивым неврозом, во всех своих словах и размышлениях настолько старался следить за собой, что в итоге стал бояться, как бы этот навязчивый самоконтроль не привел к тому, что он начнет терять нить разговора. У него развился растущий страх ожидания, который постепенно стал серьезно мешать карьере. Мы помогли ему уяснить, что в той же мере, в какой он готов отказаться быть хорошим оратором, ему удастся в действительности улучшить риторику. Ведь в таком случае он будет обращать меньше внимания на то, как говорит, а думать о том, что именно говорит, и поэтому окажется в состоянии говорить лучше. Чем больше я настраиваюсь на речевой акт как таковой, чтобы быть хорошим оратором, тем сложнее мне становится учитывать содержание и предмет этого речевого акта.
Зададимся вопросом о том, что лежало в основе его навязчивого самоконтроля. Это был страх утратить контроль над собой, не удержать себя в руках и «поддаться», уступить своему бессознательному.
Однако существует не только сердечная мудрость, которую мы описали как бессознательную духовность человека, но и мудрость языковая, и в ней мы видим накопленный, обогащенный дух человечества. Язык в этой своей мудрости говорит, что человек «впадает» в сон, то есть та бессознательность, которая свойственна сну, и есть нечто, чему мы вынуждены поддаваться!
Сегодня мы ни в коем случае не должны упорствовать в психотерапии в том, что осознание необходимо любой ценой; ведь психотерапевт может добиться осознанности чего-либо лишь на некоторое время. Он выводит в область сознательного бессознательное – в том числе и духовное бессознательное – лишь для того, чтобы вскоре вновь позволить этому стать бессознательным. Ему приходится перевести бессознательную потенцию в сознательный акт, причем не для чего иного, кроме как для последующего восстановления бессознательного образа. Психотерапевт в конечном итоге должен восстановить самоочевидность бессознательных свершений.
Таким образом, в психотерапии зачастую бывает важно оставить что-то бессознательным или позволить вновь стать бессознательным. Мы также понимаем, что повторный переход в бессознательное, то есть забывание, в сущности, представляет собой защитный механизм, и постигаем глубокую мудрость, изложенную в одной из легенд Талмуда: при рождении каждого ребенка ангел прикладывает палец к его губам, и ребенок сразу забывает, что он успел узнать и увидеть до рождения. Учитывая, что мы должны рассматривать эту платоновскую «амнезию»[93] как защитный механизм, мы можем этого талмудического ангела назвать ангелом-хранителем.
Теперь становится понятно, что в психотерапии нередко многое зависит от того, чтобы абстрагироваться от конкретного симптома и сосредоточиться на важном, а не от того, чтобы устранить сам симптом. При этом мы вполне можем напомнить пациенту старый анекдот о сороконожке, которая просто плюхнулась наземь после того, как тщетно попыталась осмыслить, как ей удается справляться со своими сорока ножками. Сороконожка уже не представляла, с какой лапки ей начать шаг, в каком порядке следует переставлять ножки. Ведь рефлексия нарушает свершение тех актов, которые в нормальном состоянии протекают бессознательно и автоматически.
Понятно, почему мы выбрали для борьбы со страхом ожидания метод парадоксальной интенции, а для устранения навязчивого самоконтроля в качестве аналогичной коррекции применяется дерефлексия. Тогда как парадоксальная интенция наделяет пациента способностью иронизировать над неврозом, при помощи дерефлексии пациент оказывается в состоянии игнорировать симптомы.
Итак, дерефлексия в конечном итоге означает игнорирование самого себя. В «Дневнике сельского священника» Бернаноса есть прекрасная фраза: «Ненавидеть себя легче, чем думают. Благодать в том, чтобы себя забыть»[94]. Это высказывание можно переформулировать и выразить мысль, которую должен назубок усвоить любой невротик: гораздо важнее, чем уничижать себя (сверхсовестливость) или уделять себе чрезмерное внимание (сверхсознательность), было бы полностью забыть о себе. Правда, после этого мы запретили бы нашим пациентам следовать примеру Канта, который однажды был вынужден уволить вороватого слугу, но никак не мог подавить в себе горечь из-за этого поступка, почему и повесил на стене доску с надписью: «О моем слуге следует забыть». Поэтому с ним случилось примерно то же, что и с тем человеком, которому пообещали, что он сможет изготовить золото из меди, но лишь при условии, что на протяжении соответствующей алхимической процедуры он за десять минут не допустит ни мысли о хамелеоне. Таким образом, человек был не в состоянии думать решительно ни о чем, кроме как об этом странном звере, о котором ранее ни разу в жизни не помышлял.
Так не получится: игнорировать что-либо – то есть обеспечивать требуемую дерефлексию – я могу лишь при условии, что направлю свою ажитацию в обход этого, сосредоточив свое существование на чем-то другом. Именно здесь логотерапия переключается на экзистенциальный анализ, суть которого заключается в ориентации и направлении человека на конкретный смысл (который сперва требуется аналитически прояснить) личного бытия-в-мире.
Такая ориентированность и направленность, будь то на работу или на человека, на личность или на идею (на кого-либо или на что-либо), относится к сути индивида! Но мы должны извлечь из этого основополагающего закона человеческого бытия-в-мире терапевтические результаты. В данном случае именно человек, страдающий неврозом страха, может в конечном итоге вырваться из порочного круга собственных мыслей, зацикленных вокруг его страха, лишь постольку и в той мере, поскольку он научится не только отвлекаться от симптома, но и поймет, как обратиться к какому-либо делу. Чем более, в смысле такой, с позволения сказать, новой, то есть новоприобретенной деловитости больному удастся перевести на передний план собственного сознания дело, которое придаст его жизни смысл и ценность, тем сильнее его личность будет отступать из области актуальных переживаний, а взамен нее этот «фон» станет заполняться нуждами пациента[95].
Только посвящая себя делу, мы формируем собственную личность[96]. Не через самонаблюдение и совсем не через самолюбование, не через накручивание мыслей вокруг нашего страха мы освобождаемся от этого страха, а через самоотречение, саморасход и самоотдачу ради дела, достойного такой самоотдачи. Это тайна любого самоформирования, выразить которую, пожалуй, точнее всего смог Карл Ясперс, написавший: «Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим».
Итак, мы познакомились с четырьмя важнейшими типами установок:
1. Вредная пассивность: бегство пациента, страдающего неврозом страха, от приступов страха;
2. Вредная активность: а) борьба пациента с неврозом навязчивых состояний против своих навязчивых идей; б) форсированная интенция к сексуальному удовольствию с в) форсированной рефлексией над половым актом (все установки являются одинаково патогенными);
3. Полезная пассивность: игнорирование (дерефлексия!) симптома и даже ироническое отношение (парадоксальная интенция!) к нему;
4. Полезная активность: действовать помимо симптома и существовать ради чего-то.
В остальном нельзя забывать, что патогенной бывает не только нагрузка, но и освобождение от нее. В данном случае важна терапевтическая коррекция соответствующей деформации – именно со стороны того, что будет предметом тревоги (см. выше). Именно поэтому мы должны подчеркнуть четвертый из вышеназванных пунктов, полезную активность; ведь так или иначе симптоматика многих неврозов проявляется в конечном итоге как вакатное душевное разрастание[97] в духовный вакуум – как смысловая пустота конкретного бытия-в-мире. Здесь мы вновь сталкиваемся с экзистенциальным вакуумом и экзистенциальной фрустрацией.
Как уже отмечалось, логотерапия позиционируется не как замена, а как дополнение психотерапии.
Разумеется, логотерапия не претендует на то, чтобы заменить психотерапию в ее традиционном узком смысле. Она стремится лишь дополнить ее, однако не только ее, но и принятый в ней образ человека, чтобы этот образ стал «целостным» (как уже говорилось выше, существенной частью такой целостности является духовная составляющая).
Однако логотерапия ни в коем случае не является лишь дополнением психотерапии, она также выступает в качестве дополнения соматотерапии – или, лучше сказать, соматопсихической симультанной терапии, которая воздействует как на соматическое, так и на психическое, чтобы выбить невроз из двух этих «гнезд».
Мы постоянно наблюдаем, как между вегетативными и эндокринными функциональными нарушениями с одной стороны и патогенными реактивными паттернами на эти нарушения – с другой возникает порочный круг, в котором вегетативная готовность к страху подключается к реактивному страху ожидания, и в ходе такого процесса пациент как раз и приобретает невроз страха. Именно в таких случаях удалось установить, что терапия становится полноценной (и позволяет преодолеть невроз) только тогда, когда пациент сориентируется на конкретный смысл личного бытия-в-мире и согласится с этим смыслом, пусть даже прояснить данный смысл путем экзистенциального анализа еще только предстоит.
Все невротические циклы могут распространяться в экзистенциальный вакуум, и в таких случаях, являющихся, в сущности, соматопсихогенными и отнюдь не обусловленных только духовными причинами, все же показана терапия именно от духовного, и именно таковой понимает себя логотерапия. Итак, логотерапия представляет собой ноэтическое дополнение соматопсихической терапии.
Кроме того, не идет речи и о том, чтобы логотерапия упускала биологическое, психологическое; ее цель лишь в одном: чтобы наряду с физиологическим и психологическим не забывали ноологическое. Когда строят дом и на завершающем этапе за работу принимается кровельщик, его никто не станет упрекать, что он не стал заниматься подвалом.
Разумеется, при этом еще остается привести в порядок все то, что, с позволения сказать, представляет собой естественные предпосылки духовно-личностного существования человека; мы бы допустили ошибку лишь в том случае, если бы попытались локализовать источники нарушений исключительно и односторонне в области психического, что случается снова и снова; такая локализация была бы неверной. Мы не имеем права упускать ни один из факторов, способствующих этиологии невротических заболеваний, и ни один из них мы не можем переоценивать, чтобы не впасть, в зависимости от ситуации, в соматологизм, психологизм или ноологизм.
Рассмотрим следующий клинический случай: госпожа Элеонора В. (неврологическая поликлиника, амбулаторная карта 3070 / 1952), 30 лет. Поступила к нам с тяжелейшими формами психото– и криминофобии, гомицидо– и суицидофобии. Ее психотофобия относится к гипнагогическим галлюцинациям[98]; по-видимому, пациентка переживает эйдетизмы[99]. Кроме того, она страдает тяжелым неврозом принуждения, именно из-за этого принуждения психопатическая составляющая становится основополагающей для невроза пациентки, в то время как невропатическая составляющая проявляется в форме симпатикотонии[100] (в том, что это именно симпатикотония, у нас с Ф. Хоффом и Куртиусом не возникло никаких сомнений) либо в качестве гипертиреоза, накладывающегося на последнюю: щитовидная железа увеличена (экзофтальм); тремор; тахикардия (пульс 140 ударов в минуту); потеря веса (5 кг); основной обмен веществ (+72 %). К этой основополагающей причине добавляется диспозиционный фактор: вегетативное расстройство, вызванное сделанной двумя годами ранее струмэктомией[101]. Наконец, имеется и физический фактор: вегетативная неустойчивость, так как однажды пациентка вопреки собственным привычкам выпила крепкого кофе мокко, из-за чего у нее случился вегетативный приступ страха, на который она отреагировала страхом ожидания («после первого приступа страха даже мысль об этом приступе пугала меня»). Впоследствии, как мы уже выяснили, страх ожидания выливается в приступы навязчивого невроза принуждения. Экзистенциальный анализ этого случая теперь действует за пределами психопатического и невропатического компонента, а также основополагающей, диспозиционной и физической основы, на фоне которой развивается невроз. Пациентка сама описывает эту ситуацию так: «Духовно я словно кручусь вхолостую, как будто зависла в воздухе, все кажется мне бессмысленным; более всего мне всегда помогала необходимость заботиться о ком-либо, но теперь я одна, я хотела бы снова обрести смысл жизни». Эти слова пациентки уже далеко не являются обычным рассказом об анамнезе. Мы скорее слышим зов человека о помощи, и пациентка пытается описать вышеприведенными словами не что иное, как экзистенциальный вакуум. Итак, мотив пациентки, побудивший ее к нам обратиться, заключался отнюдь не только в экзистенциальной фрустрации; но терапия дала эффект только после того, как мы указали больной путь к наполнению экзистенциального вакуума и устранению всех ее невротических вакатных разрастаний.
В таком смысле логотерапия зарекомендовывает себя не только как адекватная и каузальная терапия ноогенных неврозов. Она оказывается действенной и в психогенных, и в соматогенных случаях как неспецифическая терапия, поскольку и в тех ситуациях, когда экзистенциальный вакуум как таковой не является патогенным фактором (ведь экзистенциальная фрустрация далеко не обязательно патогенна), заполнение этого вакуума «антипатогенно» (Манфред Пфланц и Туре фон Икскюль).
В таких случаях справедливы слова Парацельса: «Хотя причина болезни заключается в природе, излечивает ее дух». Неврозы были не ноогенными, но, несмотря на это, при них вместе с соматопсихической симультанной терапией показана и комбинированная логотерапия.
Но не каждый пациент реагирует на любой метод, и не всякий врач преуспевает в каждом методе.
Именно поэтому я люблю говорить, что психотерапия есть уравнение с двумя неизвестными: ? = x + y, причем одно неизвестное представляет собой иррациональный и непредсказуемый фактор – личность врача, а другое неизвестное – индивидуальность больного.
При этом важно не переоценивать техническую составляющую: если бы нас заботила лишь техника, подобающая психотерапии, то оставалось бы просто добавить, что мы усматриваем не человека в больном, а, скорее, машину в человеке; иными словами, не Homo patiens, а лишь Homme machine.