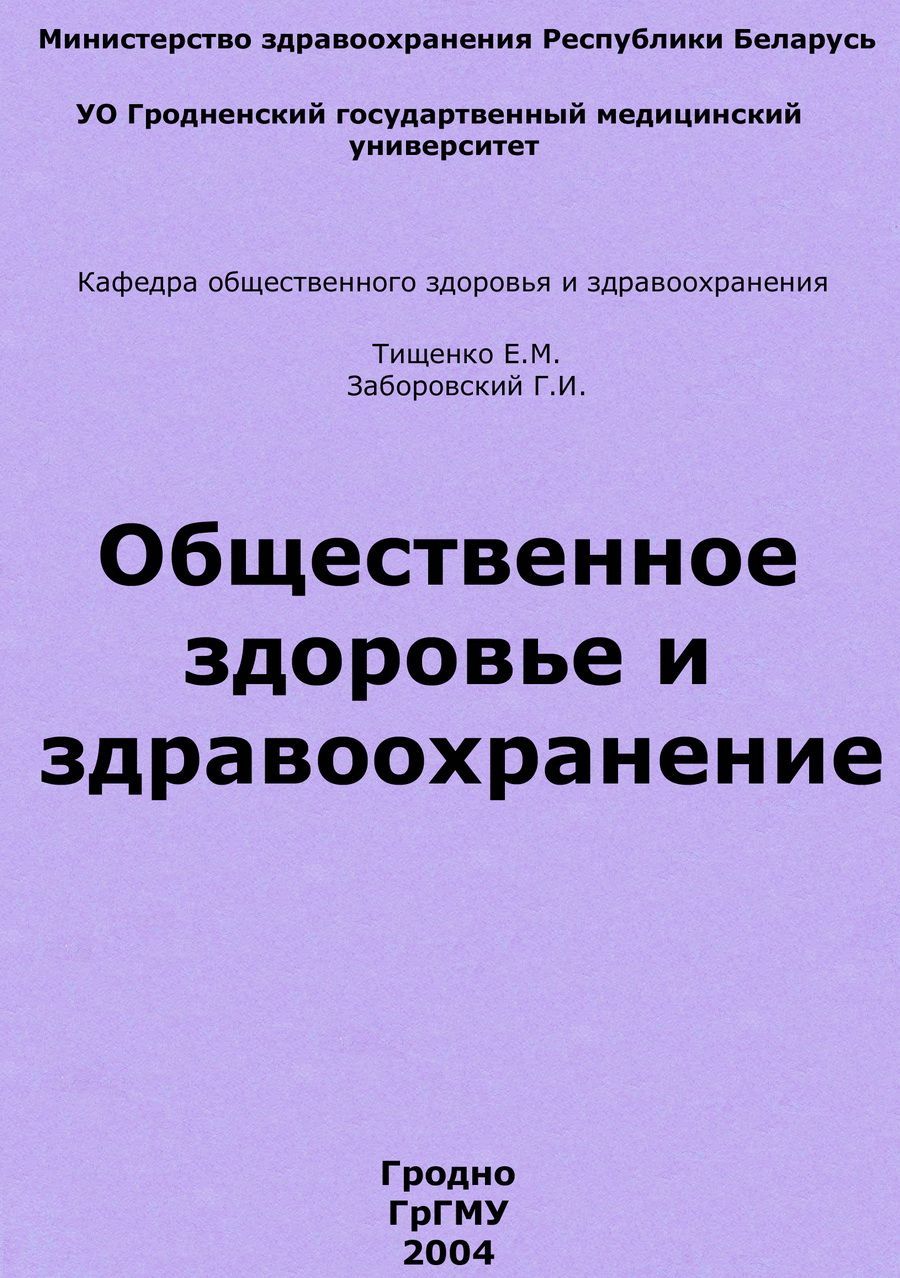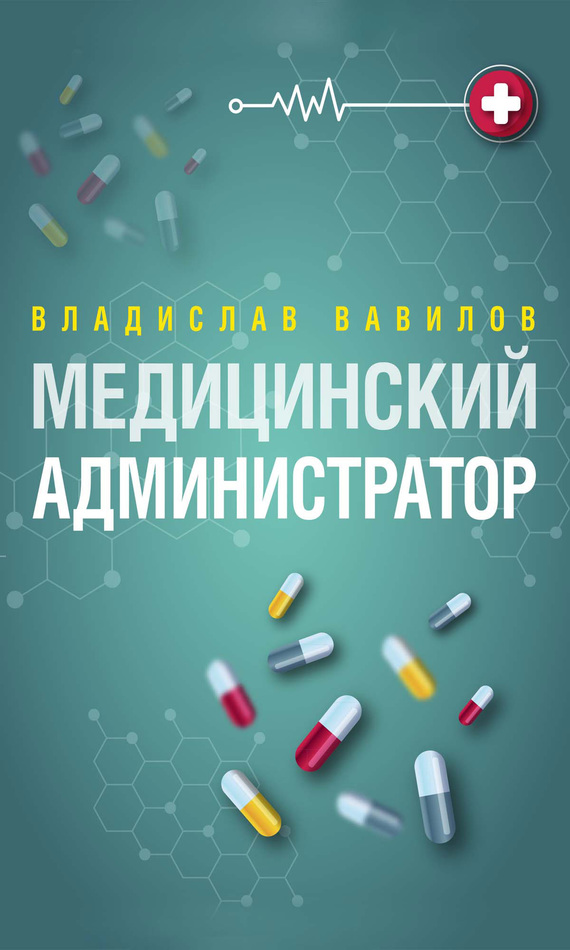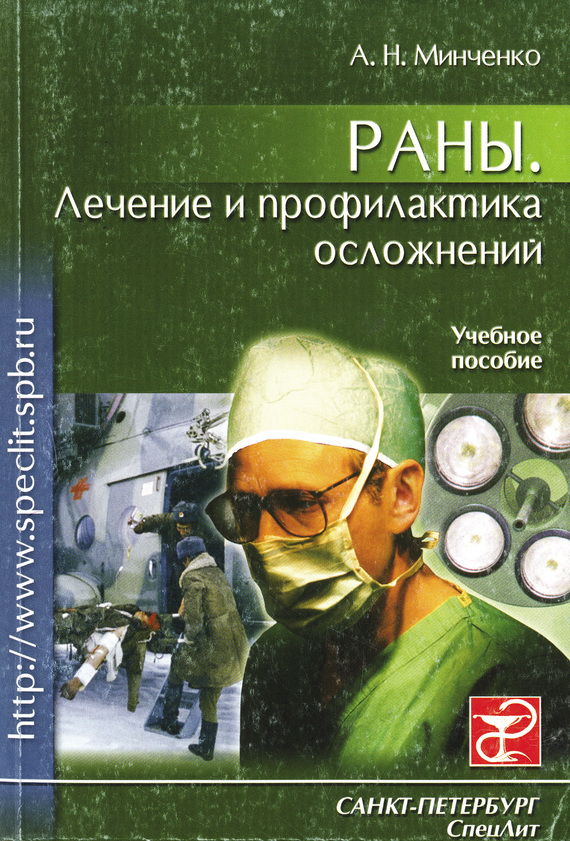1. Шок прибытия
Коэн описывает свою реакцию в той мере, в какой он мог ее наблюдать – как ощутимое расщепление личности: «У меня было такое чувство, будто я не имею к происходящему никакого отношения, будто все происходящее меня не касается. Моя реакция заключалась в диссоциации субъекта и объекта». Это состояние, продолжает Коэн, может быть охарактеризовано как острая деперсонализация, поскольку при ней оно часто проявляется, и должно интерпретироваться как средство психологической защиты эго. Именно поэтому новоприбывшие, например, были (пока еще) в состоянии смеяться над выданной им «одеждой». Однако, продолжает Коэн, вскоре пребывание в концлагере оборачивалось тяжелейшей психической травмой, когда новоприбывшим становилось известно о существовании газовых камер. Мысль о газовой камере вызывала реакцию ужаса, и эта реакция, по наблюдениям Коэна, принимала особенно острые формы выражения у тех, кому довелось услышать о том, что их жены и дети были убиты. Де Винд в этой связи также говорит о «тяжелейшей травме из всех, которые известны в области психологии фобий». Коэн отмечает, что на сообщение о наличии рядом газовых камер у человека не могло быть никакой другой реакции, кроме острой реакции ужаса, которой не избежал и он по прибытии в Освенцим.
При желании классифицировать фазу шока прибытия как один из типов реакций, принятых в психиатрии, ее, пожалуй, можно было бы отнести к реакциям на аномальные переживания. При этом следует помнить, что в такой наивысшей степени аномальной ситуации, которую представляет собой концлагерь, подобная «аномальная» реакция является нормальной. «Есть вещи, перед которыми человек теряет рассудок – больше ему просто нечего терять» (Кристиан Геббель).
Представьте себе: много дней и ночей в пути поезд, везущий 1500 человек. В каждом вагоне лежат на своих пожитках (все, что осталось от их имущества) 80 человек. Наваленные груды рюкзаков, сумок, связок закрывают окна почти полностью, в узкий просвет проникают предрассветные сумерки. Похоже, что поезд стоит на свободных путях; никто точно не знает, где они находятся – еще в Силезии или уже в Польше. Зловеще звучит пронзительный свисток локомотива, словно предвосхищая крик о помощи огромной массы людей, – машина кричит от их имени, будто чувствует, что везет их к большой беде. Тем временем поезд начинает двигаться, явно подъезжая к большой станции. Внезапно в толпе замерших в тревожном ожидании людей раздается крик: «Смотрите, табличка "Освенцим"!» Должно быть, каждый в этот момент почувствовал, что его сердце замерло. Поезд продолжает катиться медленно, нерешительно, будто не спешит ставить несчастный человеческий груз, который он везет, перед страшным фактом: Освенцим! Теперь можно рассмотреть гораздо больше: в рассеивающихся сумерках налево и направо от путей на многие километры тянутся постройки лагеря огромных размеров. Бесконечные, в несколько рядов ограждения из колючей проволоки, сторожевые вышки, прожекторы и длинные колонны человеческих фигур в лохмотьях, сливающихся с серым рассветом, медленно и устало бредущих по прямым и пустынным улицам лагеря – никто не знает куда. Иногда раздаются повелительные свистки надсмотрщиков – никто не знает зачем. Наконец мы прибыли на станцию. Никто и ничто не шевелится. И вот раздаются слова команды. Они произносятся тем особым грубым пронзительным криком, который отныне нам придется слышать во всех лагерях. Он звучит словно последний вопль человека, которого убивают, и вместе с тем иначе – сипло, хрипло, будто вырывается из горла человека, который все время вынужден так кричать, которого убивают снова и снова…
Тут двери вагона резко распахиваются и в него врывается небольшая группа заключенных в обычной полосатой робе, наголо обритых, но при этом явно не голодающих. Они начинают говорить, слышится речь на всех возможных европейских языках, при этом речь их, фальшиво жизнерадостная, в данный момент и в данной ситуации звучит гротескно. Выглядят эти люди весьма неплохо, они явно в хорошем расположении духа, они даже смеются. Психиатрии известна картина болезни так называемой иллюзии помилования: приговоренный к смертной казни в последний момент, непосредственно перед вынесением приговора, начинает верить в то, что его пощадят. Так и мы до последнего цеплялись за надежду и верили в то, что все не так ужасно, что все не может быть так ужасно. Посмотрите, какие пухлые щеки и румяные лица у этих заключенных! Тогда мы еще не знали, что такие группы заключенных, своеобразная «элита», предназначены для того, чтобы «встречать» составы с тысячами людей, ежедневно прибывающие на вокзал Освенцима, забирать их вещи, особенно спрятанные в них драгоценности и приравниваемые к ним в таких условиях предметы обихода. Все мы, пассажиры поезда, в большей или меньшей степени находились во власти упомянутой выше иллюзии помилования, убеждавшей нас в том, что все еще может кончиться хорошо. Тогда, по прибытии, мы не могли понять смысл того, что с нами происходит, – этот смысл откроется нам вечером того же дня. Нам было приказано оставить вещи в вагоне, выйти и разделиться на две колонны – мужскую и женскую. Затем мы должны были пройти колонной мимо старшего офицера СС. И вот я вижу, как моя колонна, человек за человеком, проходит мимо офицера СС. Вот он стоит передо мной, высокий, стройный, подтянутый, в безупречной сверкающей форме, элегантный, ухоженный человек, бесконечно далекий от нас – жалких созданий, похожих на бродяг, одичавших и измученных после долгой бессонной ночи. Он стоит в непринужденной позе, поддерживая правый локоть левой рукой. Правая рука приподнята, указательный палец делает едва заметные движения – то налево, то направо, но гораздо чаще налево… Никто из нас даже близко не мог представить себе, что означали эти легкие движения указательного пальца – то налево, то направо, но гораздо чаще налево. Вот и моя очередь. Эсэсовец смотрит на меня испытующе, кажется, удивляется, а может быть, сомневается, и вдруг кладет обе руки мне на плечи. Я стараюсь выглядеть «бодро», стою ровно и прямо, а он медленно разворачивает меня за плечи направо – и я иду направо. Вечером мы узнали смысл этого жеста – это была первая селекция[102]. Первичное решение: быть или не быть. Для подавляющего большинства (90 %) пассажиров нашего поезда «налево» означало смертный приговор.
Действительно, «из составов, которыми перевозили евреев, число заключенных, помещенных в лагерь (то есть не задушенных в газовых камерах сразу после прибытия), составляло в среднем около 10 % от всех людей, прибывших в Освенцим». (Центральная комиссия по расследованию преступлений нацистов на территории Польши. Варшава, 1946. Цитируется по Коэну.)
Нам, то есть меньшинству из прибывшего тогда состава, это стало известно вечером того же дня. Я спрашиваю товарищей, которые находятся в лагере дольше меня, куда мог попасть мой коллега и друг П. «Его отправили "налево"?» – «Да», – отвечаю я. «Тогда ты увидишь его там», – говорят мне. «Где?» Рука указывает на трубу, расположенную от нас в нескольких сотнях метров. Из нее в серое небо, далеко распростертое над Польшей, вырываются жуткие остроконечные языки пламени и на высоте нескольких десятков метров растворяются в густом облаке дыма. «Что это там?» – «Там в небе твой друг», – грубо отвечают мне. Это звучит как предупреждение. Никто из новоприбывших все еще не может поверить в то, что здесь от человека буквально ничего не остается. Тогда я пытаюсь довериться одному из старых заключенных. Я подбираюсь к нему поближе, показываю на нагрудный карман пальто, где у меня лежит бумажный сверток, и говорю: «Эй, послушай! Тут у меня с собой рукопись научной книги. Я знаю, что ты скажешь, я знаю: просто выжить, остаться ни с чем, но только бы выжить – это все, о чем можно молить судьбу. Но я ничего не могу с собой поделать, я хочу большего. Я хочу сберечь эту рукопись, как-нибудь хочу ее сохранить, ведь это труд всей моей жизни, понимаешь?» И он начинает понимать, очень хорошо понимать: его лицо расплывается в ухмылке, сперва сочувственной, затем все более веселой, ироничной, насмешливой. Наконец, ухмылка превращается в гримасу, он рычит мне в ответ одно-единственное слово, которое с тех пор приходилось слышать постоянно как основное слово лексикона заключенных. Он рычит: «Дерьмо!!» Теперь я знаю, как тут обстоят дела. Я делаю то, что является кульминацией первой фазы обсуждаемых нами психологических реакций, фазы шока прибытия: я подвожу черту под всей моей прежней жизнью!
Безвыходность ситуации, угроза смерти, подстерегающая человека ежедневно, ежечасно, ежеминутно, близость смерти других – на этом фоне вполне естественными казались приходившие на ум каждому заключенному (хотя бы на короткое время) мысли о самоубийстве. Более чем понятно, что человек в такой ситуации не исключает вариант «броситься на проволоку». Этим ходовым лагерным выражением обозначался обычный способ самоубийства заключенных: прикосновение к колючей проволоке, через которую был пропущен ток высокого напряжения. Разумеется, отрицательное решение – не бросаться на проволоку – давалось узникам Освенцима без особого труда; в конце концов попытка самоубийства выглядела там довольно бессмысленной. Среднестатистический узник такого лагеря с точки зрения теории вероятности и связанных с ней ожиданий либо с точки зрения математически выраженных шансов на выживание не мог рассчитывать на попадание в ничтожный процент тех, кто пройдет живым все предстоящие разнообразные этапы селекции. В Освенциме заключенный, находящийся еще на стадии шока, совсем не боится смерти. В первые дни его пребывания в лагере газовые камеры уже не вызывают ужаса: в его глазах они представляют собой всего лишь то, что избавляет его от самоубийства. Вскоре на смену паническому настроению приходит безразличие, и здесь мы переходим к обсуждению следующей фазы – фазы изменений характера.