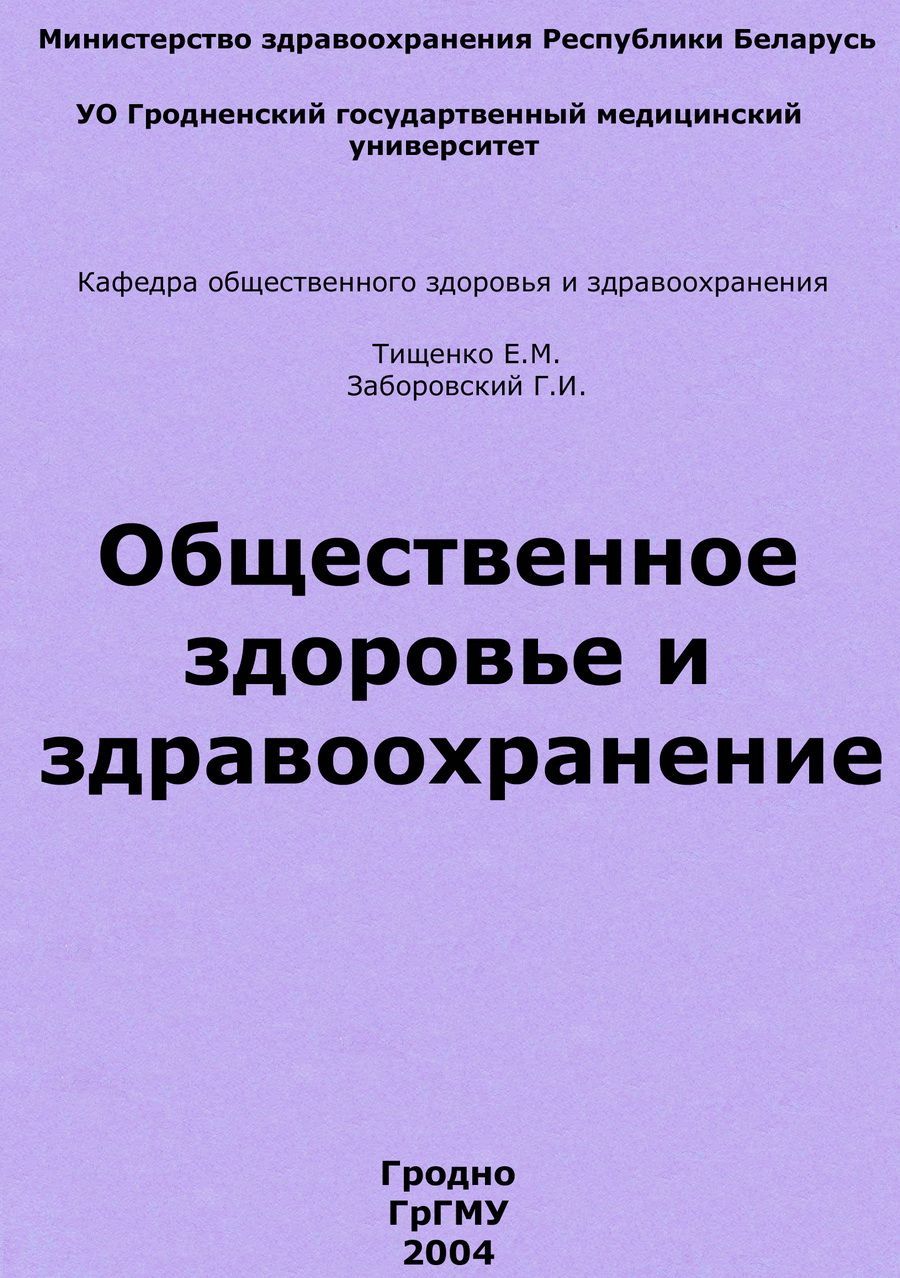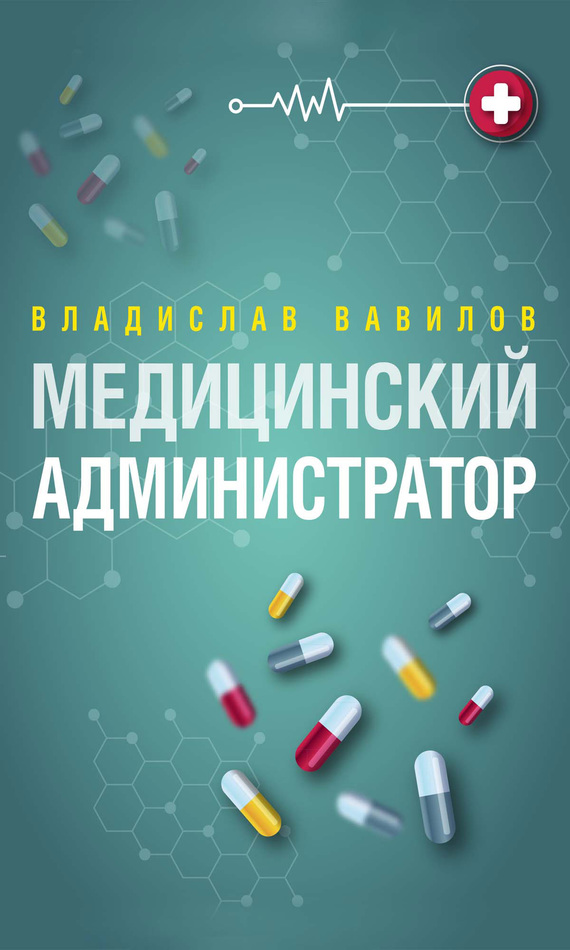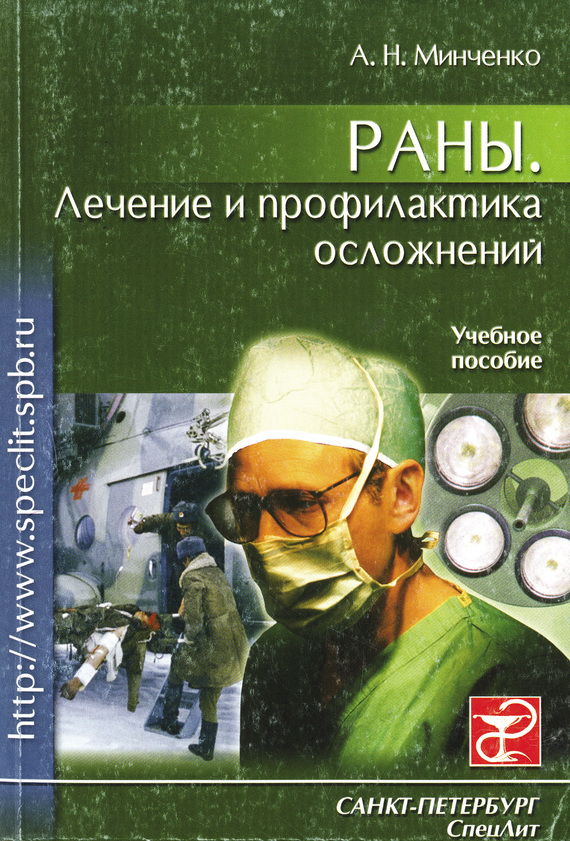2. Фаза адаптации
Здесь нам довелось осознать, насколько верно высказывание Достоевского, в котором он прямо определил человека как существо, которое ко всему привыкает. Коэн по этому поводу говорит: «Способность человека к адаптации как на физическом, так и на духовном уровне очень велика, по крайней мере гораздо больше, чем я считал возможным. Кто бы мог представить себе человека, который узнает, что все его близкие погибли в газовой камере или становится свидетелем всех вообразимых зверств концлагеря и сам испытает их на себе, но при этом реагирует „всего лишь“ описанным в книгах способом? Не ожидается ли, что люди в подобной ситуации будут отвечать острым психозом и мыслями о самоубийстве?» И Бруно Беттельгейм «все время поражался тому, что человек способен вынести так много, не покончив с собой и не сойдя с ума». Ведь по сравнению с огромным количеством узников число самоубийств было очень мало (Коэн). Ледерер сообщает статистические данные по лагерю Терезиенштадт, из которых следует, что из 32 647 смертей с 24.02.1941 по 31.08.1944 количество самоубийств составило 259 случаев. «Если учесть нечеловеческие условия жизни, самоубийства случались поразительно редко» (Э. Гесс-Тайсен, Й. Гесс-Тайсен, Килер и Тигезен).
Эта апатия является своеобразным защитным механизмом психики. Все, что могло волновать или огорчать узника в его прошлой жизни, вызывать его возмущение или приводить в отчаяние, то, чему он был свидетелем или непосредственным участником, теперь отскакивало словно от какой-то брони, которой он себя окружил. Здесь мы наблюдаем феномен внутреннего приспособления к специфической среде: все, что в этой среде происходит, достигает сознания в очень смутном виде. Уровень аффективной жизни снижается до минимума. Интересы человека ограничиваются удовлетворением сиюминутных, наиболее насущных потребностей. Все желания, кажется, сводятся к одному: пережить сегодняшний день. Когда узников, изможденных, измученных, продрогших и голодных, бредущих, спотыкаясь, по заснеженным полям с «рабочего задания», пригоняли вечером обратно в лагерь, у многих вырывался лишь тяжелый возглас: «Ну вот, еще один день продержались!»
В этом отношении про узника концлагеря можно сказать, что он впадает в особую «культурную спячку». И при этом в человеке неумолимо берет верх все то, что служит самосохранению. «У меня была только одна мысль: как мне выжить», – говорит Коэн. Психоаналитики, прошедшие концлагерь, в этой связи обычно говорили о регрессии – возврате к примитивным формам поведения. «Интересы человека не выходили за рамки вопроса "как мне получить побольше еды и попасть на более-менее терпимую работу?". Этот образ жизни, эту установку бытия-в-мире нельзя понять иначе, как регрессию, – считает названный выше автор. – В концлагере человек был низведен до животного начала. Здесь мы имеем дело с регрессией до примитивнейшей фазы стремления к самосохранению».
Примитивность духовной жизни узников концлагеря находит характерное выражение в типичных для заключенных мечтах. Они мечтают в основном о хлебе, о тортах, о сигаретах и о теплой ванне. Разговоры постоянно сводились к теме еды: когда узники во время работы оказывались рядом, а поблизости не было охранника, они на словах обменивались кулинарными рецептами и красочно расписывали, какими любимыми блюдами они будут угощать друг друга, когда в один прекрасный день после освобождения один из них пригласит другого в гости. Лучшие из них желали, чтобы поскорее наступил тот день, когда им не придется больше голодать; они не мечтали поесть получше, они мечтали о том, чтобы прекратилось это ненормальное состояние, когда невозможно думать ни о чем, кроме еды. Если весь уклад жизни в лагере (с немногочисленными исключениями) приводил к общей примитивизации, а недоедание – к тому, что потребность в еде становилась основной темой, вокруг которой вращались все помыслы и желания, вероятно, то же недоедание стало причиной заметного отсутствия интереса к разговорам на сексуальные темы. Каутский обращает внимание на то, что уже в предвоенные годы, когда питание было достаточным, можно было заметить угасание сексуальных влечений. «Sexual topics of conversation and smutty stories were exceptional among the ordinary prisoners, in contrast to what is normal for example among soldiers»[103].
Кроме упомянутого безразличия во второй фазе у заключенных наблюдалась повышенная раздражительность[104], поэтому можно утверждать, что для психики узника концлагеря характерны два признака: апатия и агрессия.
Понятно, что большинство узников страдали от своеобразного чувства неполноценности. Каждый из нас однажды был «кем-то», по крайней мере верил, что был. Однако здесь и сейчас с человеком обращались так, будто он был никем (безусловно, лагерная среда не могла разрушить чувство собственного достоинства человека, коренящееся в более существенных, высших сферах, в сфере духовного; но много ли людей и много ли заключенных обладают таким устойчивым чувством собственного достоинства?). Рядовой заключенный особенно не задумывается об этом, не осознает этого, оттого и ощущает себя полностью деклассированным. Тем не менее это переживание становится актуальным только на фоне впечатлений, полученных от своеобразной социальной структуры лагерной жизни. Здесь я подразумеваю то меньшинство заключенных, которые в лагере являются, скажем так, важными персонами, капо[105], – старост и поваров, кладовщиков и «лагерных полицейских». Все они успешно компенсировали примитивное чувство неполноценности и вовсе не ощущали себя деклассированными, подобно «большинству» рядовых узников. Напротив, они чувствовали, что добились успеха. Да-да, иногда это чувство напоминало не что иное, как манию величия в миниатюре. Реакция обозленного и завидующего большинства на поведение меньшинства принимала различные формы, в том числе в форме злых анекдотов. Вот пример одного из них: двое узников беседуют между собой о третьем, «успешном», и один из них замечает: «Я ведь знал его еще тогда, когда он был простым президентом крупнейшего банка города N., а теперь он уже метит на место старосты!»
Душевные реакции узников на особенности лагерной жизни интерпретировались не только как регрессия к более примитивной структуре влечений. Утиц интерпретировал типичные изменения в характере заключенных, которые он, по собственному утверждению, наблюдал у большинства узников как сдвиг от циклотимического[106] к шизотимическому[107] типу характера. Он заметил, что большинство заключенных не только подвержены апатии, но и склонны к раздражительности. Оба эти аффективные состояния, впрочем, соответствовали психоэстетической пропорции шизотимического темперамента по Э. Кречмеру. Не говоря о том, что подобные изменения характера, или смена доминанты, вообще сомнительны с точки зрения психологии, эту – мнимую – шизоидизацию можно, по нашему мнению, объяснить гораздо проще: огромные массы узников страдали, с одной стороны, от недоедания, а с другой – от недостатка сна, который во многом был обусловлен кишащими в тесных бараках насекомыми. Если недоедание делало людей апатичными, то хроническое недосыпание приводило к повышенной раздражительности. Кроме этих двух причин сказывалось еще и отсутствие двух даров цивилизации – кофеина и никотина, которые в обычной жизни как раз позволяют прогнать апатию и справиться с раздражительностью.
Кроме того, следует принять во внимание, что, согласно подсчетам Гзелла, число килокалорий, приходящееся на одного заключенного в день, зимой 1944 / 45 в концлагере Равенсбрюк составляло от 800 до 900, в концлагере Берген-Бельзен – от 600 до 700 и в концлагере Маутхаузен – 500 (Коэн). Питание заключенных и близко не соответствовало нормам калорийности, особенно учитывая тяжелый физический труд, беззащитность перед холодом, от которого не спасала скудная лагерная одежда.
Утиц попытался интерпретировать внутреннюю ситуацию заключенного и в другом отношении, рассматривая жизнь в лагере как форму временного существования. Такая интерпретация требует, как нам кажется, существенного дополнения: в данном случае речь идет не просто о временном существовании, а о бессрочности временного существования. Перед тем как попасть в лагерь, будущие заключенные неоднократно испытывали ощущения, сравнимые с тем, что чувствует человек по отношению к тому свету: ведь из многочисленных лагерей еще никто не возвращался домой и никакие сведения о жизни в концлагере до общественности не доходили. Когда человек оказывался в лагере, вместе с концом неопределенности (в отношении реального положения вещей) наступала неопределенность конца. Ни один узник не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным нам казалось положение преступника, который точно знает, что отсидит свои десять лет, который может сосчитать, сколько дней ему осталось до освобождения… счастливчик! А мы, узники концлагеря, все без исключения, не имели и не знали никакого «срока», никто из нас не знал, когда наступит конец. Мои товарищи единогласно считают, что это было едва ли не самым тягостным обстоятельством жизни в лагере! Ежедневно и ежечасно среди огромной массы людей, сконцентрированной на небольшом пространстве, ходили слухи о том, что всему этому вот-вот наступит конец, но каждый раз наступало лишь глубокое, а в конце концов и окончательное разочарование. Неизвестность в отношении дня освобождения порождала у узников ощущение, что срок их заключения практически безграничен, если вообще об их пребывании в концлагере можно было говорить в терминах каких-либо сроков. Со временем у заключенных возникало ощущение необычности мира по ту сторону колючей проволоки – через нее узник видит людей и вещи так, словно они принадлежат другому миру или, скорее, словно он сам уже не из этого мира, словно он «выпал» из него. Мир неинтернированных предстает в глазах узника примерно так, как его мог бы видеть покойник, вернувшийся с того света: нереальным, недоступным, недосягаемым – призрачным.
Бессрочность существования в концлагере приводит к переживанию утраты будущего. Один из узников, маршировавших длинной колонной к своему будущему лагерю, однажды рассказал, что в тот момент у него было такое чувство, что он идет за своим собственным гробом. Таким сильным было ощущение того, что его жизнь не имеет будущего, что есть только прошлое, что жизнь для него кончилась, как для покойника. Жизнь таких «живых трупов» перетекла в преимущественно ретроспективное существование. Их мысли неизменно кружились вокруг одних и тех же деталей из прошлых переживаний, при этом повседневные мелочи теперь озарялись в памяти волшебным светом.
Учитывая то, что человеческому существованию в принципе присущ преимущественно временной уклад, более чем понятно, что жизнь в лагере означала потерю этого уклада. Собственно, без опоры на фиксированную точку отсчета в будущем человек не может существовать. При нормальной жизни, ориентируясь на эту самую точку, структурируется все настоящее человека, как металлические опилки структурируются, ориентируясь на полюс магнита. И наоборот, утрачивая «свое будущее», человек утрачивает всю структуру временн?го плана своего существования, переживание им времени. Жизнь превращается в вечное настоящее, в бездумное существование, подобное тому, какое изобразил Томас Манн в «Волшебной горе», рассказывая о неизлечимых туберкулезных больных, которые также не знают срока своего «освобождения». Или же у человека возникает ощущение пустоты, бессмысленности существования, подобное тому, какое испытывают безработные, также утратившие структуру переживания времени, как показал цикл психологических исследований безработных горняков (Лазарсфельд и Цайзель).
Латинское слово finis означает одновременно «конец» и «цель». В момент, когда человек не в состоянии предвидеть конец временного состояния, он не может ставить перед собой никаких целей и задач – жизнь в его глазах утрачивает всякое содержание и смысл. Напротив, предвидение конца и момента исполнения цели в будущем образует ту духовную опору, которая так необходима заключенным, поскольку именно эта духовная опора в состоянии защитить человека от разрушительного действия сил социального окружения, от изменений характера, от полного падения.
Тот, кто не имеет возможности зацепиться за какой-либо конечный пункт, момент времени в будущем, к какой-нибудь конечной остановке, неизбежно переживает внутреннее падение. Душевный упадок из-за отсутствия духовной опоры и вызванная им полная апатия была для всех узников лагеря явлением хорошо знакомым и пугающим. Зачастую апатия развивалась так стремительно, что через несколько дней это приводило к катастрофе. Люди, охваченные апатией, однажды просто оставались лежать на своих местах в бараке, отказывались идти на построение или на работу, не заботились о получении пищи, не ходили умываться, и ни угрозы, ни предупреждения не могли вывести их из этой апатии. Людей ничто не страшило, даже наказание – они относились к нему тупо и равнодушно. Им было безразлично абсолютно все. Такое длительное лежание (порой в собственной моче и экскрементах) было опасно для жизни не только потому, что могло навлечь наказание, но и само по себе – в витальном отношении. Это отчетливо проявляется в тех случаях, когда заключенного охватывало ощущение «бесконечного» пребывания в лагере. Вот один из примеров.
В начале марта 1945 г. товарищ по лагерю рассказал мне, что 2 февраля того же года ему приснился страшный сон: голос, якобы пророческий, сказал ему, что он может спросить о чем угодно – ему ответят на любой вопрос. Товарищ спросил, когда для него будет окончена война. Голос ответил: 30 марта 1945 года. 30-е число приближалось, однако никаких признаков того, что голос сказал правду, не наблюдалось. 29 марта мой товарищ свалился в бреду и лихорадке. 30 марта он потерял сознание, а 31-го скончался от сыпного тифа. Действительно, 30 марта, в тот день, когда он потерял сознание, война для него окончилась.
Мы можем с полным правом и всей клинической строгостью предположить, что разочарование, которое вызвал у узника реальный ход событий, обусловило снижение жизненного тонуса, иммунитета, общей сопротивляемости организма, что, в свою очередь, ускорило развитие дремлющей в нем инфекции.
Наше понимание этого случая подкрепляется и более масштабными наблюдениями, о которых сообщал один из лагерных врачей: в его лагере узники лелеяли надежду на то, что к Рождеству 1944 г. они уже будут дома. Наступило Рождество, а сообщения газет не несли заключенным ничего воодушевляющего. И что же в итоге? За неделю, с Рождества до Нового года, в лагере случилось такое количество смертей, какого здесь раньше никогда не случалось и которое нельзя было объяснить ни погодными катаклизмами, ни ухудшением условий труда, ни вспышкой инфекционного заболевания.
В конечном счете выходило так, что телесно-душевный упадок зависел от духовной установки, в которой человек, однако, был свободен! Помещая человека в лагерь, можно было отнять у него абсолютно все – от очков до ремня, однако эта свобода оставалась с ним, она была с ним буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Человек был свободен в том, чтобы настроиться так или иначе, и эти варианты «так или иначе» действительно существовали. И в лагере всегда находились такие заключенные, которым удавалось подавить в себе раздражительность и справиться с апатией. Это были те люди, которые в строю со всеми остальными маршировали вдоль бараков или на построение, но всегда находили для товарищей доброе слово и делились последним куском хлеба. Они являли собой свидетельство того, что никогда нельзя сказать наверняка, что лагерь сделает с человеком: превратится ли он в типичного заключенного или, несмотря на стесненное положение, на экстремальную пограничную ситуацию, все-таки останется человеком. Всякий раз решение остается за ним самим. Поэтому неправильно говорить о том, что в концлагере человек по необходимости и принуждению подчиняется давлению на него условий – силы, формирующей его характер. Благодаря тому, что я в другом контексте назвал упрямством духа, человек сохранял принципиально важную возможность оградить себя от влияния этой среды. Если бы мне требовалось подтверждение тому, что упрямство духа действительно существует, концлагерь в этом отношении представляет собой experimentum crusis[108].
Фрейд утверждает следующее: «Попробуйте одновременно заставить голодать некоторое количество самых разных людей. По мере нарастания сильнейшей пищевой потребности все индивидуальные различия будут нивелироваться и их место займут однообразные проявления одного-единственного неудовлетворенного влечения». Оказалось, что это не так. Даже такой психоаналитически ориентированный автор, как Коэн, соглашается: «Действительно, были и такие заключенные, которые не были целиком охвачены эгоизмом, в душе которых еще оставалось место для альтруистических чувств, переживаний и сострадания к другим узникам. По-видимому, условия жизни в концлагере не смогли оказать на них такое же влияние, как на остальных заключенных». В этой же связи Г. Адлер в объемной научной монографии о лагере Терезиенштадт подчеркивает, что «нельзя интерпретировать изменения характера как перемену образа мыслей или как падение устоявшейся морали. В основном в человеке пропадали внешние признаки воспитанности, причем совсем – будто бы ее и не было… Те, кто без большого ущерба сохранили себя среди этой душевной пустоты, совершили нечто исключительное».
Конечно, они были немногочисленны – люди, выбравшие для себя принципиальную возможность сохранить свою человечность: все прекрасное так же трудно, как и редко, как гласит последняя фраза «Этики» Бенедикта Спинозы. Немногие сумели ее сохранить, но они подавали пример другим, и этот пример вызывал характерную цепную реакцию. Они никогда не относились к лагерной жизни как к простому эпизоду – для них она была, скорее, испытанием на прочность, кульминацией их бытия-в-мире. Во всяком случае, об этих людях никак нельзя сказать, что они пережили регрессию; напротив, в моральном отношении они пережили прогресс, претерпели эволюцию – и не только в моральном, но и в религиозном отношении. Ведь у многих узников именно в заключении и благодаря ему появилась подсознательная, или вытесненная, обращенность к Богу.
Итак, мы подошли к обсуждению третьей фазы в психологии жизни в концлагере – фазы освобождения.