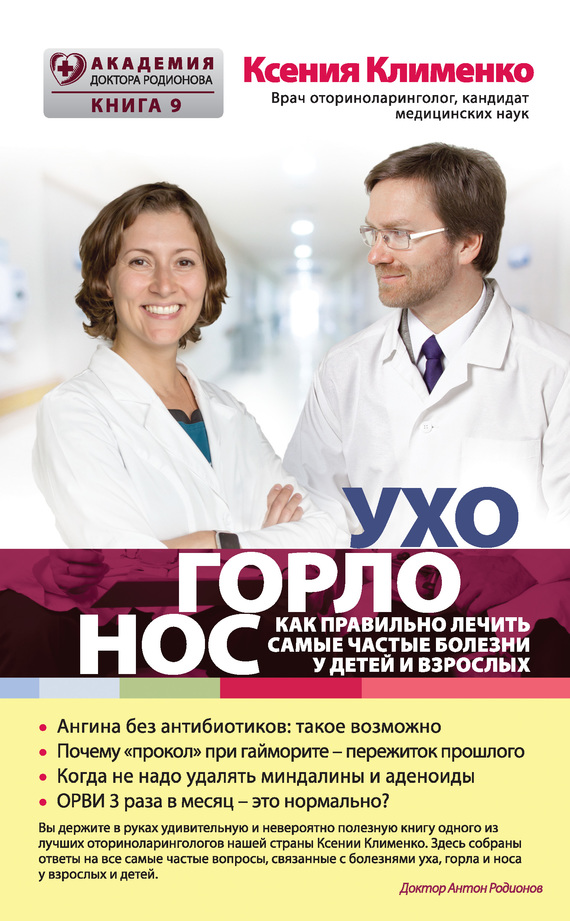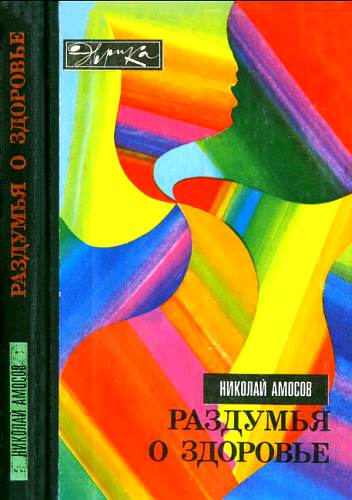Женская «ночь мира»
К сожалению, ближайшее рассмотрение развеивает эту кажущуюся похожесть, хотя и не обесценивает ее. Великое достоинство Вейнингера, которое следует принять во внимание феминизму, – его полный отрыв от идеологической проблематики «женской загадки», женственности qua Тайны, которая якобы ускользает из рациональной, дискурсивной вселенной. Утверждение «Женщины не существует» никак не касается неосязаемой женской Сути за пределами сферы дискурсивного существования: не существует как раз недостижимое Свыше. Вкратце: играя на несколько поистаскавшейся гегелевской формулировке, можем сказать, что «тайна женщины», в конечном счете, скрывает, что скрывать нечего[255]. Однако Вейнингеру не удалось добиться вот чего: Гегелева рефлексивного переворота – признания в этом «ничего» само?й негативности, определяющей понятие субъекта.
Вспомним известную шутку про еврея и поляка, где еврей забирает у поляка деньги под предлогом того, что расскажет поляку секрет, как евреям удается вытягивать из людей все до последнего гроша[256]. Вейнингерово пылкое антифеминистское выступление – «Нет никакой женской тайны; под маской Тайны – попросту ничего!» – остается на том же уровне, что и ярость поляка, когда он наконец понимает, как еврей, бесконечно откладывая окончательное признание, попросту забирает и забирает у него деньги. Вейнингеру не удается сделать шаг, который можно было бы соотнести с ответом еврея на вопли поляка: «Ну вот, теперь ты знаешь, как мы, евреи, вытягиваем из людей деньги…», т. е. шаг, который бы перетолковал, переопределил падение как успех, что-нибудь вроде: «Смотрите, это ничто, которое под маской, – та самая абсолютная негативность, относительно которой любая женщина есть субъект par excellence, а не ограниченный объект, противостоящий силе субъективности!»[257].
Статус Ничего можно объяснить, применив Лаканово различение между субъектом произнесения и субъектом произносимого. Утверждение «Я не существую» – совсем не отметаемый за его бессмысленностью парадокс, он может обрести подлинный экзистенциальный вес, поскольку указывает на сжатие субъекта в пустую исчезающую точку произнесения, которая предшествует любому воображаемому или символическому отождествлению: я запросто оказываюсь исключен из межсубъектной символической системы и потому мне не хватает определяющей черты, которая позволила бы мне торжествующе заявить: «Это я!» Иначе говоря, совсем не в метафорическом смысле «я есть» лишь то, что я есть для других, поскольку я вписан в систему большого Другого, поскольку я имею социосимволический опыт – вне такого приписанного мне существования я есть ничто, лишь исчезающая точка «я думаю», лишенная всякого позитивного содержания. Однако «я тот, кто думает» – уже ответ на вопрос «Кто этот, который думает?», т. е. это уже минимальное позитивное отождествление думающего субъекта. То же различение лежит в основе утверждения Витгенштейна, что «я» – не демонстративное местоимение:
Говоря «я страдаю», я не указываю на человека, который страдает, поскольку в некотором смысле я не знаю, кто страдает… Я не сказал, что такой-то человек страдает, я сказал «я»…[258]
Слово «я» не означает то же самое, что и «Л. В.», даже если я – Л. В.[259]
Именно с учетом этого разрыва следует мыслить утверждения о верховенстве символического: когда я беспомощно утверждаю, что «я, Людвиг Витгенштейн, президент этого общества, назначаю…», я взываю к своему символическому мандату, к своему месту в социосимволической системе, чтобы тем самым узаконить поступок вручения и обеспечить ему перфомативную силу. Мысль Лакана здесь такова: непреодолимый разрыв навеки отделяет то, что я есть «в действительности», от символического мандата, который обеспечивает мне социальная личность: первородный онтологический факт – пустота, пропасть, возникающая потому, что я недоступен самому себе в своем состоянии действительной субстанции, или же, цитируя уникальную формулировку Канта из «Критики чистого разума»[260], согласно которой я никогда не узнаю, что я такое как «я или он или это (вещь), которая думает [Ich, oder Er, oder Er (das Ding), welches denkt]». Любая символическая личность, присваиваемая мною, в конечном счете есть не что иное как дополнительная черта, чья функция – заполнять эту пустоту. Эту чистую пустоту субъективности, порожнюю форму «трансцендентного восприятия» следует отличать от картезианского Cogito[261], которое остается res cogitans[262], маленьким кусочком вещественной действительности, чудесно убереженной от разрушительной силы вселенского сомнения: лишь Кант провел эту грань между пустой формой «Я думаю» и думающей субстанцией, «вещью, которая думает»[263].
Вот тут-то у Вейнингера промах: онтологически толкуя соблазнение мужчины женщиной как «беспредельную жажду Чего-то, что есть у Ничто», он мыслит женщину как объект. В этом намерении Ничто стать Чем-то он не распознает само стремление субъекта к субстанциальной поддержке. Или, поскольку субъект есть «существо языка», Вейнингер в этом стремлении не усматривает врожденное движение субъекта qua пустоты недостаток означающего, т. е. стремление дыры, недостающего звена в цепи означающих, ($) к означающему представителю (S1). Иными словами, вовсе не выражая страх «патологической» скверны у субъекта, страх позитивности инертного объекта, отвращение Вейнингера к женщинам говорит о страхе перед радикальнейшей гранью самой субъективности: Пустоты, которая «есть» субъект.
В рукописи «Jenaer Realphilosophie» (1805–1806) Гегель охарактеризовал этот опыт чистой Самости qua «абстрактной негативности», это «затмение (врожденной) действительности», это сжатие субъекта в себя как «ночь мира»:
Человек есть эта ночь, это пустое Ничто, которое целиком содержится в своей нераздельной простоте: богатство бесконечного множества представлений, образов, ни один из которых не ведет прямо к духу, образов, которые существуют лишь в данный момент. Здесь существует именно ночь, внутреннее-или-интимное Природы – чистое личное-Я. Оно распространяет ночь повсюду, наполняя ее своими фантасмагорическими образами: здесь вдруг возникает окровавленная голова, там – другое видение; потом эти призраки так же внезапно исчезают. Именно эту ночь можно увидеть, если заглянуть человеку в глаза: тогда взгляд погружается в ночь, она становится ужасной[264].
А символический порядок, вселенная Слова, Логоса, может возникнуть лишь из переживания этой пропасти. По Гегелю, эта внутренность чистой самости «должна тоже начать существовать, сделаться объектом, противопоставить себя этой внутренности, чтобы стать внешним; вернуться к бытию. Это язык как сила, наделяющая именами… Обретя имя, объект рождается как индивидуальная сущность из “я”»[265].
Здесь важно не терять бдительности и не упустить уход Гегеля от традиции Просвещения инверсией самой метафоры субъекта: субъект более не Свет Разума, противопоставленный непрозрачному, непроницаемому Веществу (Природы, Традиции…); само ядро субъекта, то, что открывает пространство для Света Логоса, есть абсолютная негативность qua «ночь мира». И что такое Вейнингеровы пресловутые henid – растерянные представления женского, еще не достигшие ясности Слова, самотождественности Понятия – если не сами «фантасмагорические представления», поминаемые Гегелем, т. е. фантастические нагромождения, возникающие там, где Слово бессильно, поскольку их задача – именно заполнить пустоту этого бессилия? В этом и состоит парадокс Вейнингерова антифеминизма: вовсе не результат его обскурантистского антиПросвещенческого умонастроения, антифеминизм Вейнингера говорит о его приверженности идеалам Просвещения – о его стремлении избежать пропасти чистой субъективности[266].
То же касается и знаменитого Вейнингерова антисемитизма, который тоже не может скрыть своего долга перед Просвещением, – помимо этического волюнтаризма Вейнингера, факт остается фактом: его принципиальная философская отсылка к Канту, философу эпохи Просвещения par excellence (эту связь между антисемитизмом и определенного рода мышлением Просвещения уже предлагали Адорно и Хоркхаймер – в «Диалектике Просвещения»[267]). На фундаментальнейшем уровне антисемитизм не ассоциирует евреев с коррупцией как позитивной чертой, а скорее с самой бесформенностью – с недостатком определенного и ограниченного этнического положения. В этом ключе Альфред Розенберг, главный идеолог Гитлера, утверждал, что все европейские нации наделены вполне определенной «духовной формой [Gestalt]», которая дает выражение их этническому характеру – и этой «духовной формы» как раз недостает евреям. И – опять-таки – не в этой ли самой «бесформенности [Gestaltlosigkeit]» и состоит врожденная черта субъективности? Не субъективность ли, по определению, превосходит любую позитивную духовную форму? Теперь уже должно стать ясно, как именно антисемитизм и фашистский корпоративизм образуют две стороны одной медали. В отвержении иудео-демократического «абстрактного универсализма», противопоставленного представлению об обществе qua гармоничной органической форме, в которой любой индивид и любой класс имеет свое отчетливо определенное место, корпоративизм вдохновлен тем самым прозрением, какое многие демократы предпочитают отметать: лишь сущность, которая в себе самой загромождена, не упорядочена, т. е. не имеет «своего места», по определению «не встроена», может непосредственно соотноситься с универсализмом как таковым.
Или же – если ставить вопрос в понятиях отношений между Общим и Частным: как Частное участвует в Общем? Согласно традиционной онтологии, объекты входят в состав общего для них рода, поскольку они «воистину то, что они есть», т. е. покуда они воплощают понятие о себе или подходят под него. Стол, к примеру, включен в понятие стола, поскольку он «воистину стол». Здесь всеобщность остается «немой», безразличной чертой, связывающей частные сущности, вещь в себе, не определенная как таковая, иначе говоря, Частное не относится к Общему как таковому, в отличие от субъекта qua «самосознания», включенного в Общее в точности и исключительно постольку, поскольку его идентичность усечена, отмечена неполнотой, т. е. субъект не во всей полноте есть то, «что он есть», и именно об этом ведет речь Гегель, говоря о «негативной универсальности»[268]. Вспомним показательный случай из политической диалектики: когда некое частное (этническое, сексуальное, религиозное и пр.) меньшинство обращается ко Всеобщему? Именно когда существующие рамки общественных отношений перестают удовлетворять нуждам этого меньшинства и мешают ему воплощать свой потенциал. Как раз в этой точке меньшинство вынуждено предъявить свои требования Всеобщему и признанным им принципам и заявить, что членам этого меньшинства не дают участвовать в образовании, получении работы, свободе самовыражения, общественно-политической деятельности и т. п. наравне с другими.
Яркий пример такого для-себя Всеобщего, т. е. диалектизированных отношений со Всеобщим, предложил Малколм Икс[269] в знаменитом заявлении, что белый человек как таковой есть зло. Смысл этого заявления – не в том, что все белые суть зло, а скорее, что зло свойственно самому? универсальному понятию о белом человеке. Это, однако, не мешает мне как отдельно взятому белому человеку стать «хорошим», достигнув осознания Зла, определяющего саму субстанцию моего существа, полностью приняв вину за это и трудясь, чтобы это Зло преодолеть. (То же касается и христианского представления о греховности, присущей само?й сути человеческой природы постольку, поскольку мы «сыны Адама»: путь к спасению лежит в осмысленном принятии этой вины.)
Процитируем обратную формулировку Эрнесто Лаклау[270] (глубокого гегельянца, невзирая на его заявленное антигегельянство):
…общее есть часть моей личности в той мере, в какой я проникнут врожденной неполнотой, т. е. поскольку моей производной личности не удался процесс становления. Всеобщее возникает из частного не как некий принцип, лежащий в его основе и объясняющий его, а как неполный горизонт, сшивающий неупорядоченную частную личность[271].
Именно в этом смысле «всеобщее есть символ недостающей полноты»[272]: я могу соотноситься со Всеобщим как таковым лишь в той мере, в какой моя частная личность затруднена в себе, «неупорядочена»; лишь в той мере, в какой некое затруднение мешает мне «стать тем, что я уже есть». И как мы уже подчеркивали, доказательство per negationem[273] получается из взаимосвязи двух черт, определяющих фашистский корпоративизм: его одержимость образом общества как органической общины, в коей всякий ее составляющий должен «занимать свое место», его патологическое сопротивление абстрактной всеобщности как силе общественного распада, т. е. идее, что индивид может впрямую, независимо от его или ее места в общественном организме, участвовать в Общем (например, идее, что я располагаю неотъемлемыми правами просто как человек, а не только лишь как член определенного класса, корпорации и т. д.).
В абзаце из «Феноменологии», где «вейнингерианская» нота слышна безошибочно, Гегель формулирует это негативное отношение между Общим и Частным в точности apropos женщины как «внутреннего врага» этической общины:
Сообщая себе устойчивое существование лишь путем нарушения счастья семьи и путем растворения самосознания во всеобщее сознание, общественность создает себе внутреннего врага в том, что она подавляет и что для нее в то же время существенно – в женственности вообще. Последняя – вечная ирония общественности, – пользуясь интригой, изменяет общую цель правительства в частную, превращает его общую деятельность в произведение «этого» определенного индивида и обращает общую собственность государства в достояние и украшение семьи[274].
Отношения между Частным (семьей) и Общим (общиной), следовательно, не состоят в гармоничном встраивании семьи в более широкое сообщество, а опосредованы негативностью: индивид («самосознание») может соотноситься с Общим за пределами семьи лишь посредством негативного отношения к семье, т. е. «предательством» семьи, из которого вытекает распад семьи (эта негативность – в точности то, что корпоративистская метафора общества qua большой семьи стремится устранить). Как раз в этом смысле общество, его публичное пространство, «создает себя из того, что? подавляет», на руинах семьи. И вот еще что поражает нас в процитированном высказывании Гегеля: он сам представляет как неотъемлемую часть диалектического движения то самое, что его критики старательно пытаются отрицать как его убийственное уязвимое место, а именно – что такое устранение [Aufhebung] никогда не происходит без определенного остатка: после «устранения» семьи в обществе семья не только не перестает существовать как непосредственное основание этого общества, но и негативные отношения между семьей и обществом отражаются в самой семье: в виде женщины, которая негативно откликается на общество – своей «вечной иронией». Женщина – циник, способный различать в напыщенных заявлениях об общественном благе личные мотивы тех, кто подобные заявления распространяет.
Может показаться, что Гегель попросту приписывает женщине узость частной точки зрения: женщина есть «внутренний враг» общественного, поскольку она неверно понимает истинный вес общих целей общественной жизни и способна мыслить их лишь как способы достижения целей личных. Это, впрочем, совсем не вся картина: как раз такое положение «внутреннего врага» общества позволяет случиться возвышенному нравственному поступку выявления внутренних ограничений точки зрения само?й общественной всеобщности (Антигона).