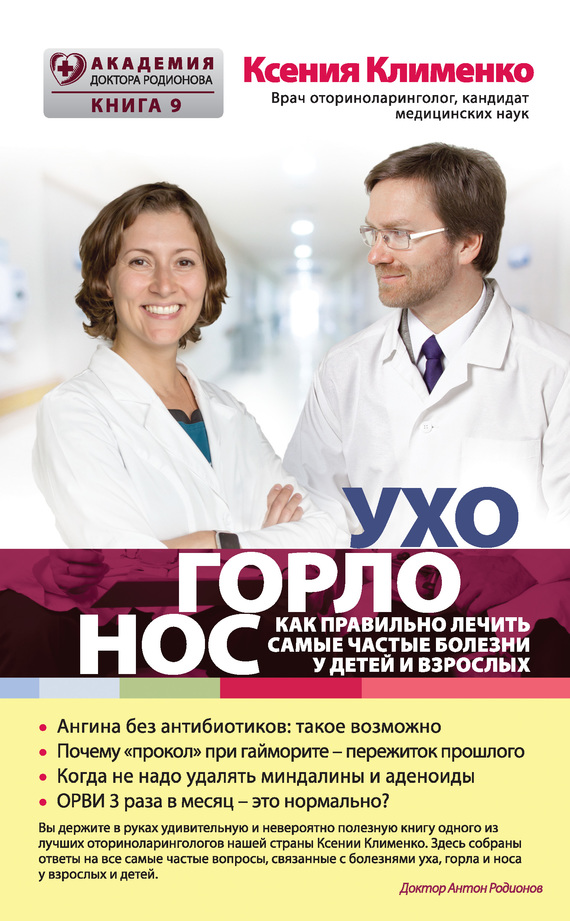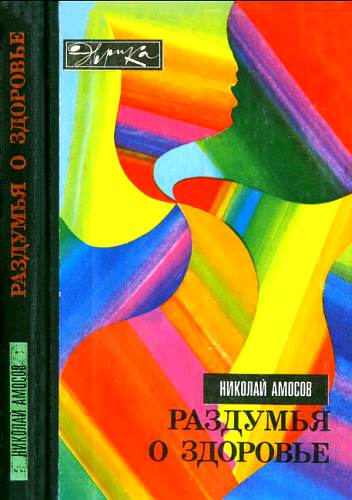Вопросы «действительного зарождения»
Разница между Лаканом и тем, кто, как Хабермас, принимает универсальную среду межсубъектной коммуникации как предельный горизонт субъективности, следовательно, – не там, где ее обычно ищут: она не зиждется на том, что Лакан в постмодернистском фасоне заостряет внимание на некоем остаточном особом случае, что навсегда возбраняет нам доступ к всеобщему и обрекает нас на разнородную текстуру отдельных языковых игр. Лаканов основной упрек Хабермасу и ему подобным, напротив, состоит в том, что такой мыслитель упускает и не тематизирует цену, которую субъект вынужден платить за доступ ко всеобщему, к «нейтральной» среде языка: эта цена, конечно, – не что иное как травматизм «кастрации», жертвование объектом, которые «есть» субъект, переход от S (полного «патологического» субъекта) к $ («перечеркнутому» субъекту). В этом же и разница между Хайдеггером и Гадамером[242]: Гадамер остается «идеалистом» постольку, поскольку для него горизонт языка «всегда-уже есть», а вот у Хайдеггера проблематика различения [Unter-Schied] как боли [Schmerz], неотъемлемой от самой сути нашего бытия в языке, хоть и кажется «обскурантистской», показывает материалистскую проблематику травматического отсечения, «кастрации», что отмечает наше вхождение в язык.
Первым эту материалистскую проблематику «действительного зарождения» как обратного трансцендентальному сформулировал Шеллинг: во фрагментах «Weltalter»[243] 1811–1815 гг. он применяет программу вывода возникновения Слова, Логоса, из пропасти «действительного в Боге», из вихря влечений [Triebe], который есть Бог до сотворения мира. Шеллинг проводит различие между существованием Бога и скрытой, непроницаемой Основой Существования, устрашающей досимволической Вещью как «того в Боге, что еще не Бог». Эта Основа состоит из антагонистического напряжения между «сжатием [Zusammenziehung, contractio]» – схлопыванием-в-себя, эгоистической яростью, всеразрушающим безумием – и «расширением», т. е. Богом отдающим, изливающим свою Любовь. (Как не признать в этом противопоставлении Фрейдову двойственность влечений «я» и влечений любви, что предшествуют фрейдистской двойственности либидо и влечения к смерти?) Это невыносимое противостояние – в безвременном прошлом, в прошлом, которое никогда не было «настоящим», поскольку «настоящее» уже подразумевает Логос, прояснение устным Словом, что переводит антагонистическую пульсацию влечений в символическое различие.
Бог, таким образом, – сначала пропасть «абсолютного безразличия», воля, которая ничего не желает, царство покоя и красоты; в понятиях Лакана: чистое женское jouissance, чистое расширение в пустоте, без всякой последовательности, «раздача», которую ничто не скрепляет воедино. Сама «предыстория» Бога начинается с акта первородного сжатия, посредством которого Бог создает себе твердую Основу, постановляет себя Единым, субъектом, позитивной сущностью. «Подцепив» бытие как болезнь, Бог увязает в безумной, «психотической» череде сжатий и расширений; затем он создает мир, произносит Слово, порождает Сына – все ради того, чтобы уйти от этого безумия. До возникновения мира Бог страдает «биполярным расстройством», и это – отчетливейшая разгадка тайны, почему Бог сотворил вселенную: то была своего рода терапия, что позволила ему вытащить себя из безумия[244]… Поздний Шеллинг, Шеллинг «философии откровения», содрогался от своего былого радикализма и считал, что Бог располагает своим существованием заведомо: самого Бога сжатие уж более не касается, оно означает исключительно акт, в котором Бог творит материю, из которой далее возникает вселенная существ. Таким образом, сам Бог уже не участвует в процессе «зарождения»: зарождение касается только творимого, а Бог лишь следит за историческим процессом с безопасного расстояния вне истории и гарантирует ей счастливый исход. В этом удалении, в этом сдвиге из Weltalter к «философии откровения» проблематика Weltalter облекается в традиционные Аристотелевы онтологические понятия: противостояние Существования и его Основы теперь делается противостоянием Сути и Существования, т. е. Логос воспринимается как божественная Суть, а ей, чтобы исполниться, требуется позитивное Существование, и т. д.[245]
В этом состоит материалистская «ставка» Делёза и Лакана: «десексуация», чудо введения нейтрально-десексуализованной поверхности Смысла-События, не полагается на вмешательство некой трансцендентной, внетелесной силы; ее можно вывести из внутренней безысходности самого сексуализованного тела. В этом точном смысле – каким бы потрясением это ни было для вульгарных материалистов и обскурантистов в их непризнанном единстве – фаллос, фаллическая составляющая как означающее «кастрации», есть фундаментальная категория диалектического материализма. Фаллос qua означающее «кастрации» содействует возникновению чистой поверхности Смысла-События; как таковое это «трансцендентальное означающее» – без-смысленное внутри поля Смысла, распределяющее последовательностью Смысла и управляющее им. Этот «трансцендентный» статус означает, что в нем нет ничего «вещественного»: фаллос – видимость par excellence. Фаллос – «причина» зазора, отделяющего поверхностное событие от телесной плотности: это «псевдопричина», питающая автономию поля Смысла относительно его истинной, действительной, телесной причины. Здесь следует вспомнить наблюдение Адорно за тем, как представление о трансцендентном устройстве вытекает из своего рода инверсии перспективы: то, что субъект (ошибочно) воспринимает как присущую себе силу, на самом деле его бессилие, неспособность выйти за пределы навязанных ему ограничений горизонта – трансцендентальная внутренняя сила есть псевдосила, оборотная сторона слепоты субъекта перед истинными телесными причинами. Фаллос qua причина – чистая видимость причины[246].
Без «фаллической» составляющей как точки пересечения двух последовательностей (означающего и означаемого), как точки замыкания, в которой, как Лакан очень точно подмечает, «означающее падает в означаемое», нет никакой структуры. Точка без-смысла внутри поля Смысла есть точка, в которой причина означающего вписана в поле Смысла, – без этого замыкания структура означающего действовала бы как внешняя телесная причина и не смогла бы произвести следствие Смысла. В этом отношении две последовательности (означающего и означаемого) всегда содержат парадоксальную сущность «с двойной записью», т. е. одновременно и избыток, и нехватка – избыток означающего относительно означаемого (пустое означающее без означаемого) и нехватка означаемого (точка без-смысла в поле Смысла). Иными словами, как только возникает символический порядок, мы имеем дело с минимальной разницей между структурным местом и элементом, который его заполняет: элементу всегда логически предшествует место в структуре, которое он занимает. Две последовательности, таким образом, могут быть описаны как «пустая» формальная структура (означающее) и последовательность элементов, заполняющих пустые места в структуре (означаемые).
С этой точки зрения парадокс состоит в том, что эти две последовательности никогда не пересекаются: мы всегда сталкиваемся с сущностью, которая одновременно – относительно структуры – пустое, незанятое место и – относительно элементов – быстро движущийся, ускользающий объект, жилец без жилья[247]. Так у нас получается Лаканова формула фантазии $ a, поскольку матема субъекта – $, пустое место в структуре, опущенное означающее, а objet a, по определению, – избыточный объект, нечто, чему не хватает места в структуре. Как следствие, дело не в том, что имеется попросту избыток элементов относительно наличных в структуре мест или же избыток мест, для заполнения которых недостает элементов, – пустое место в структуре все равно будет питать фантазию об элементе, который возникнет и заполнит это место; избыточный элемент, которому не хватило места, все равно будет питать фантазию о том, что где-то его ждет неведомое место. Дело, скорее, в том, что пустое место в структуре жестко связано с заплутавшим элементом, которому места не досталось: они не две разные сущности, а аверс и реверс одной и той же – одна и та же сущность вписана в обе поверхности ленты Мёбиуса. Говоря коротко, субъект qua $ не принадлежит глубине: он возникает из-за топологического скручивания самой поверхности.
Однако не оказались ли мы в точке, строго противоположной той, с какой начали? Мы начали с того, что помыслили субъекта как «ночь мира», как пропасть непроницаемой глубины, а теперь субъект представляется нам как топологическая скрутка самой поверхности. Откуда берется эта двусмысленность? Неувязка с Делёзом – в том, что он не проводит различия между телесной глубиной и символической псевдоглубиной. Иначе говоря, есть две глубины: непрозрачная непроницаемость тела и псевдоглубина, которую порождает «изгиб» самого символического порядка (пропасть «души», которую мы переживаем, глядя в глаза другому человеку…). Субъект есть такая псевдоглубина, которая возникает из-за изгиба поверхности. Вспомним последний кадр фильма «Остаток дня» (1993) Айвори: медленное затемнение окна замка лорда Дарлингтона, переходящее в съемку с воздуха всего замка целиком, удаляющегося от нас. Это затемнение длится чуть дольше необходимого, и на миг зрителю не избежать впечатления, что возникла третья действительность, выше и за пределами обычной, где существует окно и замок: словно вместо окна, которое лишь малая часть замка, сам замок, целиком, сводится к отражению в оконном стекле, к хрупкой сущности, которая есть чистая видимость, не сущность и не не-сущность. Субъект – такая вот парадоксальная сущность, возникающая, когда само Целое (весь замок) кажется воплощенным в одной своей части (окне).
Делёз вынужден игнорировать эту символическую псевдоглубину: в его дихотомии тела и Смысла для нее нет места. Здесь, конечно, возникает возможность критики Делёза Лаканом: разве означающее qua дифференциальная структура – не сущность, которая именно что не принадлежит ни телесной глубине, ни поверхности Смысла-События? Говоря конкретно, относительно Моцартовой «Cos? fan tutte»: разве «машина», автоматизм, на который полагается философ Альфонсо, символическая машина, «автоматизм» символического «обычая» – не мощная тема «Мыслей» Паскаля[248]? Делёз проводит различие между собственно телесной причинностью и парадоксальной «фаллической» составляющей, пересечением множеств означающего и означаемого, без-смысла qua псевдопричины, т. е. децентрированной причины смысла, присущей поверхностному потоку самого Смысла. Но не учитывает он резко разнородной природы множества означающих относительно множества означаемых, синхронии дифференциальной структуры относительно диахронии потока Смысла-События. Здесь, вероятно, становится видно ограничение Делёза, который в конце концов остается феноменологом – именно это ограничение и вызвало к жизни его теоретическую «регрессию» в «анти-Эдипа», в протест против Символического. В точном смысле можно сказать, что стоики, Гуссерль и подобные им – психотики, а не извращенцы: именно психотическое отвержение настоящего символического уровня порождает парадоксальные короткие замыкания между смыслом и действительностью («когда вы говорите “повозка”, повозка выкатывается у вас изо рта» и т. д.)[249].
Если браться прояснять это ключевое различие между телесной глубиной и символической псевдоглубиной, определяющей статус субъекта, следует спустится к тому, что есть, вероятно, самая омерзительная точка в европейской идеологии, к автору, доведшему логику антифеминизма до непревзойденного предела: к Отто Вейнингеру.