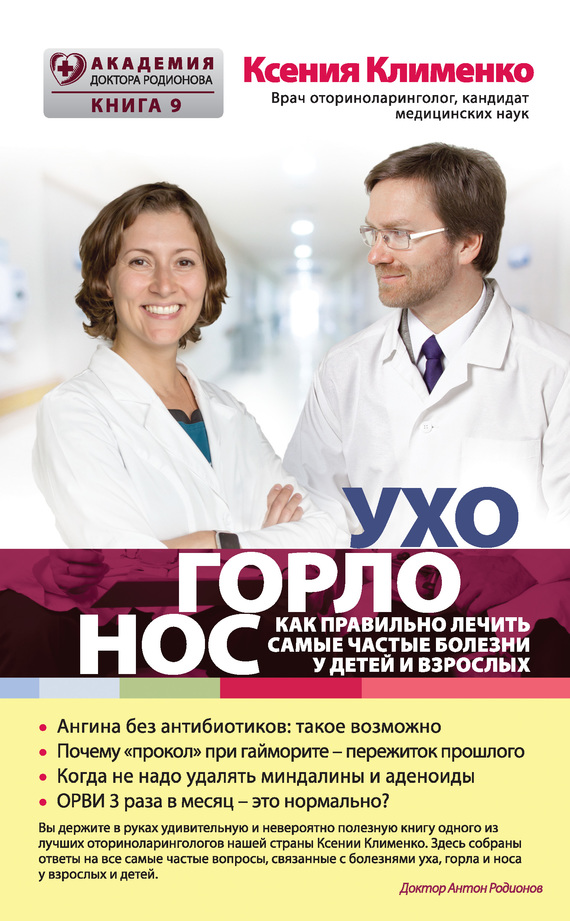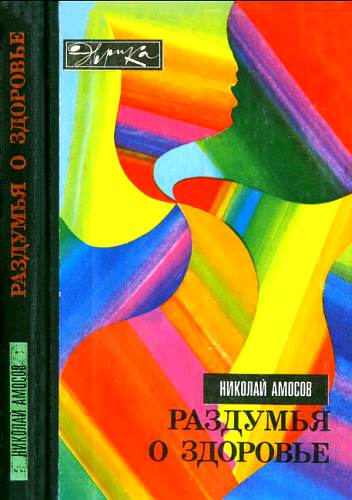От патриархата к цинизму
Одна из устойчивых тем ваших работ – что патриархально-идентитарный фундаментализм в наши дни более не настоящий враг…
Хочется рискнуть и выдвинуть гипотезу, что в наше время, в эпоху позднего капитализма, главенствующая модель – уже не патриархальная семья с детьми, а скорее договорная пара. Ребенок более не дополнение, которое делает семью гармоничным целым, а возмущающая равновесие добавка, от которой следует как можно скорее избавиться.
Обычная критика патриархата совершенно пренебрегает тем, что отцов – два. С одной стороны, эдипов отец: символический/мертвый отец, Имя-Отца, отец-Закон, который не получает удовольствия, не воспринимает саму эту грань – удовольствия; с другой стороны, есть «первобытный» отец, теневая, анальная фигура «сверх-я», которая действительная/живая, «Хозяин Удовольствия». На политическом уровне это противостояние совпадает с таковым между традиционным Хозяином и современным («тоталитарным») Вождем. Во всех легендарных революциях – от Французской до Русской – свержение бессильного старого режима символического Хозяина (французского короля, царя) венчалось приходом к власти куда более «подавляющей» фигуры «анального» отца-Вождя (Наполеон, Сталин). Порядок преемственности, описанный Фрейдом в «Тотеме и табу»[349] (убитый первобытный Отец-Удовольствие возвращается под видом символической власти Имени), оказывается, таким образом, перевернутым: отставленный символический Хозяин возвращается как теневой-действительный Вождь. Короче говоря, тут Фрейд оказался жертвой своего рода зрительной иллюзии: «первобытный отец» – позднейшее, совсем современное, послереволюционное явление, результат устранения традиционной символической властной фигуры.
В наше время «первобытные отцы» обильно представлены в «тоталитарных» политических движениях, а также в сектах «нью-эйдж». Дэвид Кореш, лидер секты «Ветвь Давидова», убитый ФБР в Уэйко (Техас) в 1993 году, ввел фундаментальный закон Фрейдова первобытного отца: половая торговля с женщинами – его, Кореша, личное право, т. е. секс для всех остальных мужчин запрещен. Это проливает новый свет на знаменитый сон Фрейда, в котором покойный сын является к отцу и бросает ему чудовищный упрек: «Отец, ты разве не видишь, что я горю?» – истинное же значение, конечно, таково: «Отец, разве ты не видишь, я получаю удовольствие?». Иными словами, это на самом деле вздох облегчения: «Слава богу, отец не видит!» Лишь мертвый-символический отец оставляет пространство удовольствию; «анальный» отец, «Хозяин Удовольствия», который может увидеть, застать меня и за удовольствием, совершенно перекрывает мне доступ к удовольствию. Символический отец qua мертвец, т. е. не ведающий об удовольствии, позволяет нашим фантазиям выстраивать наши удовольствия, оставлять минимальное расстояние между ними и общественным пространством, а вот «анальный» отец впрямую вмешивается в поддержку, которую дают фантазии нашему существу, и тем самым тут же проникает во всю социальную сферу.
Еще одна тема вашей работы дополняет предыдущую: в наши дни настоящий идеологический враг – неидентитарный «пост-идеологический» настрой циничной отстраненности. Однако, рассматривая нынешний мир в эпоху цинизма, когда никто не принимает преобладающий нравственный кодекс всерьез, не попадаем ли мы неизбежно в характерную идеологическую ловушку ошибочного отношения к предыдущей эпохе как времени подлинной нравственности, когда люди еще верили в свои символические кодексы и относились к ним серьезно, или же, по-гегельянски, как ко временам, когда индивиды были непосредственно погружены в свою нравственную субстанцию? Не ретроактивная или это иллюзия par excellence – подобное понятие о «старых временах»?
В отношении ошибочного восприятия былых времен как эпохи наивной «непосредственности» по своим местам все расставляет книга Эдит Уортон «Эпоха невинности»[350]. Хотя это каноническое произведение высокого искусства, «Эпоха невинности» приближается к мелодраме – на последних страницах романа происходит переворот, когда главный герой узнает, что его якобы непосвященная невинная жена все это время знала, что его истинная любовь – роковая графиня Оленская.
«Эпоха невинности» – история богатого юриста в Нью-Йорке XIX века, обрученного с девушкой из богатой семьи; девушка любит его со всей наивностью неопытной юницы, а сам он страстно влюбляется в женщину постарше, графиню Оленскую, которая вернулась из Европы после развода и поэтому еще не полностью вхожа в высшее общество. Любовники понимают, что для их чувства в существующем общественно-символическом пространстве с жестким этикетом и правилами игры нет места, и что сбежать им тоже некуда, нет такого утопического места, где их любовь могла бы расцвести невозбранно, и потому они отказываются от любви: графиня уезжает в Париж, а наш герой женится на своей невесте и полностью встраивается в общество. В конец, после смерти жены, герой с сыном (ныне – уже состоявшимся молодым дельцом) отправляются в Париж, где намерены навестить графиню Оленскую. По пути к ее квартире сын сообщает отцу, что ему известна цель их визита – встреча с несбывшейся любовью всей жизни отца: мать рассказала ему все, много лет назад… Узнав об этом, герой решает не посещать графиню Оленскую.
В этом и состоит «невинность» его жены: совсем не инженю, блаженно не ведающая об эмоциональных бурях жениха, она знала всё – и тем не менее оставалась в роли инженю, тем самым храня счастье своего брака: если бы муж знал, что она знает, их счастье не было бы возможно. Чтобы понять «невинность», вынесенную в заглавие романа, необходимо ввести Лаканово понятие большого Другого qua поля общественного этикета и приличий: «эпоха невинности» – это не время наивно-непосредственного принятия общественного этикета, а время, когда этикет столь сильно властвовал над людьми, что даже в самой сокровенной сфере – в любовных отношениях – требовалось соблюдать приличия; масок никто не сбрасывал. «Невинность» жены состояла в ее безоглядной преданности общественным приличиям: в некотором смысле она считала их серьезнее внутренних эмоциональных метаний. Таким образом, дело не в том, что это наивное доверие она лишь изображала, а в том, что она полностью и искренне верила в то, что было поверхностью общественного этикета.
Одно из возможных неверных толкований «Эпохи невинности» таково: герой, узнав об осведомленности своей покойной жены, полностью смещает направление своего желания, т. е. ее благородный жест – сыгранная непросвещенность – задним числом возносит ее до истинного объекта его желаний, и потому он отказывается от графини Оленской, пусть та наконец и сделалась доступна. В пику этому толкованию следует настаивать, что в некотором смысле графиня Оленская полностью утвердилась как абсолютный объект желания героя; не навестив графиню, герой повторяет жест «невинности» своей жены и жертвует объектом желания в пользу общественного этикета. Вкратце: объект желания утверждается как абсолютный лишь принесением его в жертву.
Вернемся к цинизму: как, в таком случае, Лакан избегает Сциллы цинической отстраненности, которое представляет язык как всего лишь внешнее средство, которым можно просто пользоваться, но не слишком приближается к Харибде наивной веры в перфомативную силу языка?
Когда у музыкантов из словенской пост-панк-группы «Лайбах» спросили об их отношении к Америке, те ответили: «Как и американцы, мы верим в Бога, но, в отличие от них, мы Ему не доверяем» (отсылка к надписи на долларовой банкноте, разумеется)! Покуда Бог – одно из имен большого Другого, это парадоксальное утверждение вполне складно описывает отношение «Лайбаха» к большому Другому языка: лакановец – не циник, признающий лишь удовольствие, он полагается на действенность большого Другого, но не доверяет ему, поскольку знает, что имеет дело с порядком видимости…
Как же, при ближайшем рассмотрении, нам мыслить «постмодернистскую» форму субъективности?
У Хичкока в «Окне во двор» отношения Джеймса Стюарта с тем, что он видит в окне, в целом есть отсылка к центральности его взгляда: на кону его положение власти (или бессилия) относительно того, что? он видит во дворе, фантазии, которые он проецирует вовне, и т. д. Есть, однако, в этом и другая грань – грань, которая идеально подходит под то, что Лакан определил понятием «смешение субъектов [l’immixtion de sujets]»: привилегированному взгляду Джеймса Стюарта общественная действительность открывается как сосуществование множества индивидуальных или семейных судеб; любая единица этого множества образует свою исключительную вселенную сигнификации, со своими надеждами и горестями, и, хотя сосуществуют как части одного глобального механизма, они совершенно не ведают друг о друге, а вместе их удерживает не какая-то глубинная общая ось смыслов, а многочисленные случайные, «механические» столкновения, порождающие точечные следствия смысла (мелодия композитора спасает жизнь мисс Лонлихартс и т. д.). Главнейшее для опыта «смешения» – вот это понятие смысла как локального следствия глобальной бессмыслицы: смешение отдельных жизней переживается как слепой механизм, в котором, вопреки нехватке какой бы то ни было Цели, управляющей потоком событий, «все работает», и потому от наблюдения этого единства получается таинственный, странно умиротворяющий, почти мистический опыт.
На более высоком технологическом уровне подобный эффект имеется и в «Щепке» (1993): эксцентричный миллионер, хозяин большого многоквартирного дома, обустраивает квартиры скрытыми камерами, чтобы наблюдать на множестве экранов происходящее в самых потайных уголках его башни, – как люди занимаются любовью, растлевают детей, обсуждают финансовые секреты, недоступные публичному взору… Как и в «Окне во дворе», однако, «смешение субъектов» остается привязанным к центральному вуайеристскому взгляду, который есть часть диегетической действительности, – взгляд миллионера из своего убежища.
Великая революция Роберта Олтмена – в том, что он отвязал этот эффект смешения от привилегированного диегетического взгляда. Эта тенденция, впервые проявившаяся в «Нэшвилле» (1975), достигает безупречного пика в «Коротких историях». Судьбы девяти отдельных групп (в основном – семей) связывает воедино не взгляд некоего скрытого вуайериста, а вертолеты, распыляющие инсектицид над Лос-Анжелесом – метафорой разлагающегося мегаполиса. Эти девять линий переплетаются совершенно случайно, и одно и то же событие, вписанное в разнородные последовательности, обретает совершенно несоизмеримые значения. Лили Томлин сбивает на машине ребенка, например: эта авария запускает примирение Томлин с ее пьяным мужем, трагедию в семье ребенка, странную дружбу между сломленными родителями и булочником (Лайл Ловетт), досаждающим им за то, что они забыли именинный пирог ребенка, непристойное неуместное признание дедушки ребенка (Джек Леммон) отцу ребенка, дедушкин неожиданный сердечный контакт с афроамериканской парой в больнице и т. д. (В научно-фантастической истории логика несоизмеримости доводится до предела: в недалеком будущем ученые открывают, что комета, возвестившая о рождении Христа в небе над Вифлеемом, – след громадной космической катастрофы, разрушения благородной, высокоразвитой иной цивилизации.)
Тема «Коротких историй», следовательно, – не распад или невозможность коммуникации, а, скорее, ее полностью случайный характер: тут одновременно и недостаточно, и слишком много ее, поскольку контакт всегда возникает как непредвиденный побочный продукт. Олтмен предлагает самый точный на тот момент портрет человека эпохи позднего капитализма, «постмодернистское» смешение субъектов, где коллективность более не переживается как коллективный Субъект или глобальный Проект, а есть лишь безличный, бессмысленный механизм, производящий множественные и предельно не соизмеримые значения как точечные случайные результаты.
Какова же во всем этом судьба сексуальности? Одно из нынешних общих мест состоит в том, что настоящий половой контакт с «настоящим другим» все более теряет под собой почву, уступает ее мастурбационному удовольствию, единственная опора которого – виртуальный другой: секс по телефону, порнография, компьютеризованный «виртуальный секс»…
Ответ Лакана на это таков: сначала нам следует извлечь на свет миф о «настоящем сексе», который якобы возможен «до» появления виртуального секса; Лаканов тезис «сексуальных отношений не существует» означает в точности то, что структура «настоящего» полового акта (акта с партнером из плоти и крови) – внутренне фантастичен, поскольку «настоящее» тело другого служит лишь поддержкой проекциям нашей фантазии. Иными словами, «виртуальный секс», при котором перчатка воссоздает стимулы того, что мы видим на экране, и т. п. – не чудовищное искажение настоящего секса, а попросту выявление его глубинной призрачной структуры.