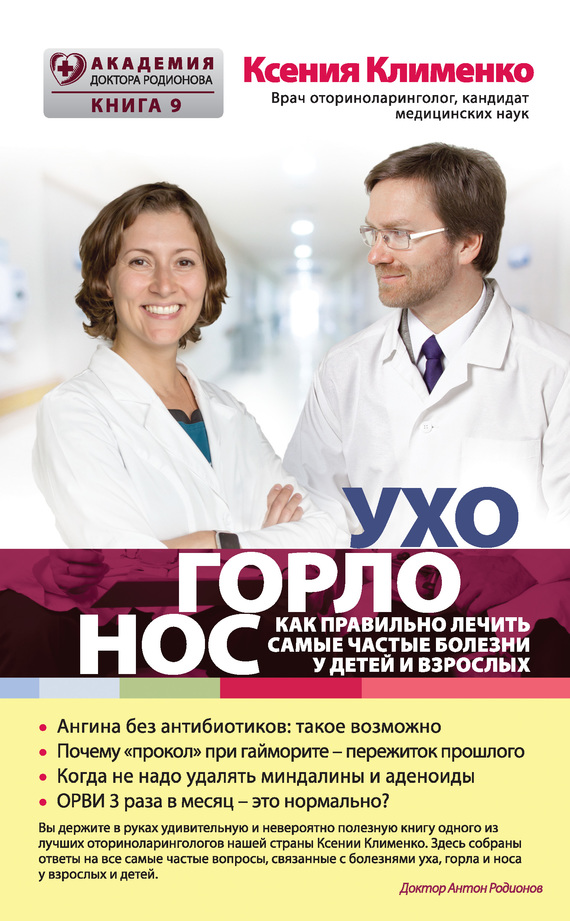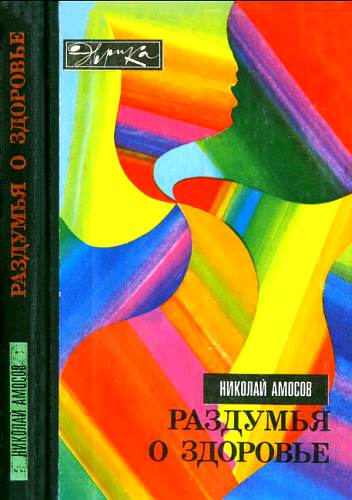Фантазия и objet petit a
Ну хорошо, нужно отказаться от фетиша тайного Сокровища, которое сообщает мне мою исключительность, и осуществить предельное выведение внутреннего вовне, в символическую среду. Однако не находит ли уникальность моей личности выход в фантазии, абсолютно частным манером, неуниверсализируемо, так, как я инсценирую желание?..
Да, но чье желание? Не мое. В самой сердцевине фантазии мы имеем дело с отношениями желания у Другого, с непрозрачностью этого желания: желание, инсценированное в фантазии, – не мое, а Другого. Фантазия – способ субъекта ответить на вопрос, какой он объект в глазах Другого, в его желании, т. е. что Другой видит в желающем, какую роль тот играет в желании у Другого? Ребенок, например, стремится разгадать посредством фантазии загадку роли, которую он играет в среде взаимодействий между его матерью и отцом, загадку, как мать и отец ведут свои битвы и сводят счеты посредством ребенка. Вкратце: фантазия есть высочайшее доказательство того, что желание субъекта есть желание у Другого. Как раз на этом уровне нам и необходимо определить версию «Cogito ergo sum»[311] невротика с навязчивыми состояниями: «То, что, как я думаю, я есть, что? я есть в собственных глазах, для себя, – это я и для Другого, в дискурсе Другого, в моей социосимволической, межличностной сути»[312]. Невротик с навязчивыми состояниями стремится полностью контролировать то, что? он есть для Другого: он хочет предотвращать – посредством навязчивых ритуалов – желание другого, возникающего предельно чужеродно, как несоизмеримое с тем, что он сам думает о себе.
Ключевая составляющая невроза навязчивых состояний – убежденность, что узел действительности крепок лишь благодаря навязчивой деятельности субъекта: если навязчивый ритуал не произвести хорошенько, действительность распадется. Мы находим такую экономику у древних инков, которые верили, что недостаточные человеческие жертвоприношения приведут к возмущениям в природном равновесии (например, солнце больше не встанет и т. п.), а также у заботливой матери, опоры семьи, убежденной, что после ее смерти семья развалится. («Катастрофа», которой все они пытаются избежать, разумеется, есть не что иное как возникновение желания.) Мы избегаем экономики навязчивых состояний, осознавая, что eppur si muove[313]: ничто от меня не зависит, жизнь продолжается, даже если я ничего не делаю… В этом отношении невротик с навязчивыми состояниями – прямая противоположность истерику; невротик верит, что все зависит от него лично, он не может смириться с фактом, что его исчезновение мало что изменит в обычном ходе вещей, тогда как истерик считает себя безучастным наблюдателем, жертвой неудачных обстоятельств, не зависящих от его воли, – этот не может смириться с тем, что обстоятельства, которых он жертва, могут воспроизводиться лишь через деятельное участие истерика.
Вернемся к понятию фантазии: первым делом следует избавиться от упрощенного представления о фантазии как идеализированном образе, скрывающем кошмарную действительность, – «корпоративистская фантазия гармоничного общества без противостояний», например. «Фундаментальная фантазия», напротив, – сущность чрезвычайно травматическая: она описывает отношения субъекта к удовольствию, к травматическому ядру своего существа, к чему-то, что субъект никогда не способен признать целиком, с чем познакомиться, что встроить в свою символическую вселенную. Публичное обнародование этого травматического ядра влечет за собой невыносимый стыд, из-за которого происходит афаниз, самоуничтожение.
Объект фантазии – это знаменитый objet petit a…
Следует всегда помнить, что objet petit a возникает, чтобы устранить тупик поиска субъектом поддержки большого Другого (символического порядка). Первый же ответ, конечно, таков: в означающем, т. е. отождествление себя с означающим в большом Другом, которое далее являет субъекта для других означающих. Однако, раз большой Другой сам по себе противоречив, не-всё, обустроен вокруг пустоты, внутренней несостоятельности, у субъекта есть возможность найти нишу в Другом, отождествившись с самой этой пустотой в нем, с точкой, в которой Другой несостоятелен. Objet petit a позитивирует, придает вещественность этой пустоте в Другом: мы имеем дело с объектом там, где слово несостоятельно.
Лаканово представление об объекте а, таким образом, переворачивает привычное понятие о символическом порядке (означающем) как силе-посреднике, помещающей себя между субъектом и действительностью объектов: по Лакану, субъект и Другой накладываются друг на друга в объекте (или, говоря в понятиях теории множеств: объект есть пересечение $ и большого Другого). «Объект» овеществляет пустоту, которая есть субъект qua $, и пустоту, что зияет внутри большого Другого. Тут мы вновь сталкиваемся с топологией «искривленного» пространства, где внутреннее совпадает с наружным: отождествление с объектом – не внешнее по отношению к Символическому, это отождествление с экстимным ядром самого Символического, с тем, что в символическом есть больше чем символическое, с пустотой в самой его середине.
Первое, о чем никогда не следует забывать касательно объекта а, как это часто бывает с категориями у Лакана: мы имеем дело с понятием, которое содержит и себя, и свою противоположность и/или маскировку. Объект а – одновременно и полное отсутствие, пустота, вокруг которой вращается желание, и как таковой есть причина желания, а также воображаемая составляющая, которая скрывает эту пустоту, делает ее незримой, заполняя ее. Фокус в том, конечно же, что пустоты нет – без элемента, заполняющего ее: заполнитель питает то, что маскирует.
В отличие от чистого «этого», объекта без свойств, а – целый набор свойств, у которых нет бытия. В блистательном очерке Стивена Джея Гулда[314], лакановского биолога – если такой вообще возможен, – экстраполируется до абсурда долгосрочная тенденция в отношениях цены и массы шоколадного батончика «Херши». Некоторое время цена не меняется, а масса одного батончика постепенно уменьшается; затем цена вдруг подскакивает, а с ней – и масса, но она все равно меньше, чем то, что нам досталось при предыдущем росте цен… Изменение массы шоколадного батончика во временно?м интервале, таким образом, представляет собой зигзаг: сначала масса постепенно снижается, затем внезапно растет, потом вновь постепенно снижается и т. д., в долгосрочной перспективе – общее снижение. Экстраполируя эту тенденцию до бессмысленного предела, можно рассчитать не только точный миг, когда масса достигнет нуля, т. е. когда в продаже появится красиво обернутая пустота, но и сколько она будет стоить. Эта пустота, которая, тем не менее, красиво обернута и имеет определенную цену, – практически идеальная метафора Лаканова объекта а.
Именно в этом смысле объект а – анальный. В теории Лакана анальный объект обычно представляется как означающий элемент: по сути, значение имеет лишь роль дерьма в межличностной экономике – действует ли оно как доказательство для Другого, что у ребенка имеются самоконтроль и дисциплина, что ребенок подчиняется требованиям Другого, или как подарок Другому?.. Однако, до символического статуса подарка и т. п. экскремент есть объект а в точнейшем смысле несимволизируемого излишка, остающегося после того, как тело символизировано, вписано в символическую систему: проблема анальной стадии – именно в том, как мы избавляемся от этого излишка. Поэтому Лаканово утверждение, что животное стало человеком, когда столкнулось с проблемой, куда девать свои экскременты, имеет смысл воспринимать буквально и всерьез: чтобы этот неприятный излишек стал проблемой, тело должно сначала быть встроено в символическую систему.
Не менее важно не путать objet petit a с обычным материальным объектом. Даже в конце 1950-х Лакан проводил различие между обычным и возвышенным телом – различие, лучшим примером которому будет, вероятно, монахиня. Монахиня полностью отказывается от положения полового объекта для другого человека, но этот отказ, однако, относится к ее обычному, материальному телу, позволяя ей еще более пылко предлагать свое возвышенное тело, то, которое есть «большее, чем она сама», Богу qua абсолютному Другому.
Необходимо учитывать предельный межличностный статус объекта а: он есть нечто «во мне большее, чем я сам», которое другой видит во мне. Джоан Беннетт в «Тайне за дверью» (1948) Фрица Ланга именно так описывает свой травматический опыт, полученный ею, когда за ней наблюдал Майкл Редгрейв: «Я внезапно почувствовала, что на меня кто-то смотрит… Почувствовала, как взгляд прикасается ко мне, будто пальцами. Между нами тек электрический ток. Теплый и сладкий. И пугающий. Потому что он видел под моим макияжем то, чего никто прежде не видел. То, о чем я сама не догадывалась». Она не догадывалась – и смогла осознать это лишь посредством взгляда другого человека.
Не лучший ли пример объекта а – хичкоковский объект…
…какой встречается не только у Хичкока, но и там, где не ожидаешь с ним столкнуться, – в «Парке юрского периода» (1993), например. Критики в основном отмахнулись от «Парка юрского периода» как от спектакля с техническими наворотами, в котором, кроме спецэффектов, нет ничего интересного, а межсубъектные отношения персонажей – выхолощенные и неразвитые. Но так ли это? А что если и здесь зло содержится в самом взгляде того, что воспринимает зло, т. е. а ну как пренебрежение к «Парку…» как к техно-китчу говорит не столько о качестве фильма, сколько об ограниченности критического взгляда на него?
Первая черта, из-за которой нам следует быть внимательнее, – необычайная статичность этого фильма: действие довольно быстро «застревает» на одном месте, а динозавры всё нападают и нападают. Если «Парк…» – спектакль, тогда он представляет парадокс спектакля камерного. Иначе говоря, я считаю, что «Парк юрского периода» – камерная драма о травме отцовства, в стиле ранних Антониони или Бергмана. Эта грань делается зримой, если направить внимание на хичкоковский объект в этом фильме: коготь динозавра, который Сэм Нилл являет в первой же сцене, чтобы усилить словесный удар в отношении мальчишки, доставшего вопросами. Этот коготь в роли хичкоковского объекта (у Крайтона в романе ее не было, Спилберг добавил) суммирует драму родительства у Нилла, его отказ принять на себя функцию отцовства. И что как не тот же объект – нападающие динозавры, просто раздутый до оживших чудищ и воплощает «сверх-я» отца, т. е. отцову разрушительную ярость, направленную на отпрыска (аналогично тому, как это происходит у Хичкока в «Птицах» (1963), где птицы воплощают материнское «сверх-я»)?
По этой причине еще одна ключевая сцена «Парка…» происходит, когда после стычки со злыми плотоядными динозаврами, Нилл и двое детей прячутся на громадном дереве. Там, в безопасности ветвей, Нилл примиряется с ними и принимает свое отцовство, свою символическую роль как отца – о его преображении нам сообщают так: когда все трое уснули, крошечная кость, объект зла, выскальзывает у Нилла из кармана, падает и теряется из виду. Неудивительно, что на следующее утро атмосфера чудесным образом меняется – воцаряется безмятежный мир: динозавры, подбирающиеся теперь к дереву, – хорошие, травоядные, поскольку отцовская ярость миновала. В понятиях межличностной символической экономики фильм завершается здесь, а все, что далее следует, – мешанина обрывков из других жанров, у которой нет никакого связного либидинального воздействия.
К тому же совершенно не трудно установить связь между «Парком…» и другими фильмами Спилберга, поскольку большинство из них – от «Империи солнца» (1987) до «Списка Шиндлера» (1993) – сосредоточены на травме отцовства. Возьмем «Инопланетянина» (1982): что как не «исчезающий посредник» – сам инопланетный пришелец, который дает семье без отца возможность стать полной (пришелец появляется в семье, из которой ушел отец – сбежал в Мексику с любовницей; в конце фильма «хороший» ученый отчетливо занимает место будущего отца – он уже обнимает мать за плечи…)?
Чем objet petit a отличается от первородной Вещи?
Вероятно, лучше всего различать их посредством отсылки к философской разнице между онтологическим и онтическим. Положение Вещи – чисто онтическое, она означает неуничтожимый избыток онтического, ускользающий от Lichtung, т. е. от онтологического просвета, в котором возникают сущности: Вещь есть парадокс онтического «икс», поскольку оно еще не «внутримирная» сущность, возникающая в пределах трансцендентально-онтологического горизонта. Положение же объекта а, напротив, – чисто онтологическое, т. е. а как предмет фантазии – это объект, который есть пустая форма, рамка, определяющая статус позитивных сущностей. (Так и следует толковать Лаканово утверждение, согласно которому фантазия – последняя поддержка нашего «чувства действительности».) В этом состоит загадка отношений между Вещью и объектом а: как излишек онтического сверх его онтологического горизонта может превратиться в излишек онтологического; как может изобилие Реального превратиться в чистое отсутствие, в объект, который совпадает со своим же отсутствием и как таковой сохраняет внутри себя просвет, где могут возникать онтические сущности?