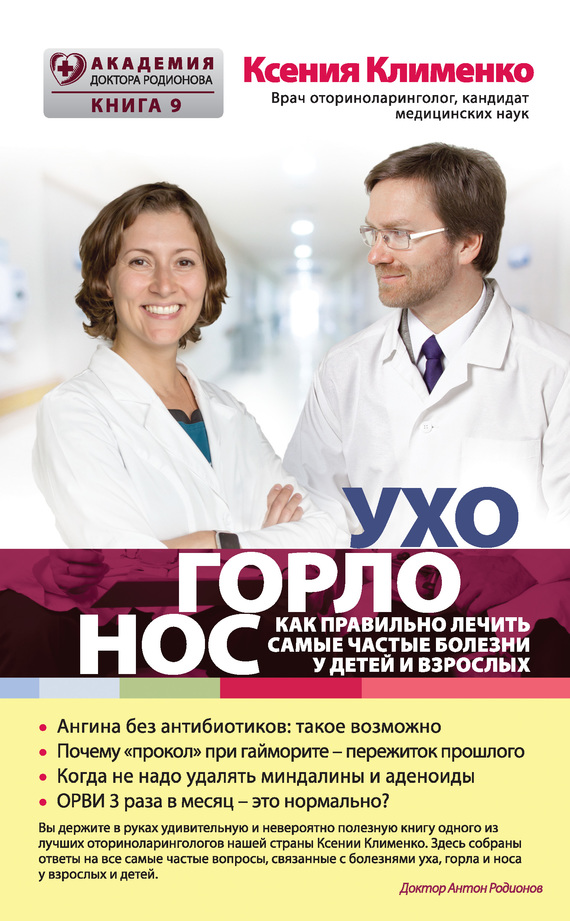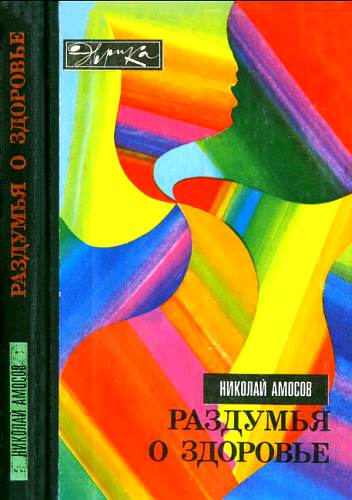«Формулы сексуации»
Подобное представление о половом различии открывает нам множество философских связей; первое, что бросается в глаза, – структурное подобие «формул сексуации» у Лакана и Кантовой двойственности математической и динамической антиномий[287]. В современной философии одна из возможных стыковок – в противопоставлении объектной сигнификации (универсального значения понятий) и нематериального следствия смысла; это противопоставление сформулировал Делёз в «Логике смысла». Делёз ассоциирует это противопоставление с двумя типами парадокса, что идеально соответствует Кантовой двойственности антиномий:
Парадоксы сигнификации – это, по существу, парадоксы ненормального множества (то есть такого, которое включается в себя как элемент или же включает элементы разных типов), а также парадоксы мятежного элемента (то есть такого, который формирует часть множества, чье существование он предполагает, и принадлежит двум подмножествам, которые он определяет). Парадоксы смысла – по существу парадоксы деления до бесконечности (всегда будущее-прошлое и никогда настоящее), а также парадоксы номадического распределения (распределение в открытом, а не в закрытом пространстве)[288].
Не Кантов ли свободный субъект – этот самый «мятежный элемент»: в положении сущности-феномена он – часть причинной связанности, полностью подчиненный естественным законам, тогда как ноуменальная сущность свободна, т. е. прерывает цепь причинности и начинает с себя новое множество? И не проблема ли второй антиномии чистого разума – бесконечной делимости материи?
В более общем плане это понятие полового различия позволяет нам как следует разобраться с утверждением Лакана, которое кажется поначалу парадоксальным: субъект психоанализа есть не кто иной как картезианский субъект современной науки. Этот субъект возникает путем радикальной десексуации отношений человека со Вселенной. Иначе говоря, традиционная Мудрость была глубоко антропоморфной и «сексуализованной»; в ее пределах понимание Вселенной структурировали противопоставления, носившие отчетливо половой отпечаток: инь-ян, Свет-Тьма, деятельный-бездеятельный… Это антропоморфное основание позволило существовать метафорическому соответствию, зеркальным отношениям между микро– и макрокосмом: установление структурных подобий между человеком, обществом и Вселенной (общество как организм с монархом во главе, работники – руки его…; рождение Вселенной совокуплением Земли и Солнца, и т. д.). В современном мире, напротив, мы сталкиваемся с действительностью внутренне не антропоморфной как со слепым механизмом, который «говорит на языке математики» и, следовательно, может быть выражен лишь в бессмысленных формулах – любое исследование «более глубокого значения» явлений ныне воспринимается как остатки традиционного «антропоморфизма». Современный субъект во Вселенной, таким образом, более «не дома»; о трудности выживания в таком одиночестве свидетельствуют постоянные возвращения к антропоморфному-сексуализованному мировосприятию под видом псевдоэкологической Мудрости («новый холизм», «новая парадигма» и т. д.).
Именно на этом фоне можем мы оценить масштабы достижения Лакана: он попросту первым обозначил очертания невоображаемой, не приближенной к природе теории полового различия – теории, которая радикально отходит от антропоморфной сексуации («мужского» и «женского» как двух космических принципов и т. п.) и как таковая соответствует современной науке. Проблема, с которой разбирался Лакан, такова: как нам перейти от животного спаривания, ведомого инстинктивным знанием и управляемого естественными ритмами, к человеческой сексуальности, проникнутой желанием, кое обессмерчено и поэтому неутолимо, внутренне возмущено, обречено на неудачу и т. д.? (Даже вывод из идиллического пасторального романа вроде «Дафниса и Хлои» – в том, что невозможно достичь «нормальных» половых отношений, следуя природным позывам или подражая животному половому поведению: требуется наставление опытной женщины, т. е. отсылка к символической традиции. В этом суть учения Фрейда об эдиповом комплексе: то, что мы (или, по крайней мере, большинство из нас) переживаем как самые «естественные» половые отношения, есть следствие научения, усвоения путем череды травматических отсечений, вторжений символического Закона.) А потому решение проблемы Лакана таково: мы оказываемся в человеческой сексуальности посредством вторжения символического порядка qua чужеродного паразита, возмущающего природный ритм спаривания.
Касательно двух асимметричных антиномий символизации («мужской» стороны, связанной с универсальностью фаллической функции, укоренной в исключении; «женской» стороны, связанной с полем «не-всё», которое, по этой самой причине, не имеет исключения из фаллической функции) вопрос ставится с некой самоочевидностью: что есть звено, связывающее эти две полностью логические антиномии с противопоставлением мужского женскому, кое, как бы символически опосредовано и культурно обусловлено ни было, остается очевидным биологическим фактом? Вот ответ на этот вопрос: этого звена нет. То, что мы переживаем как «сексуальность», есть в точности следствие случайного акта «прививки» фундаментального тупика символизации на биологическое противопоставление женского и мужского. Ответ на вопрос: «Разве эта связь между двумя логическими парадоксами универсализации и сексуальности не запрещена?», следовательно, таков: именно это Лакан и имеет в виду. Лакан попросту переносит эту «запрещенность» с эпистемологического уровня на онтологический: сексуальность, то, что мы переживаем как высочайшее, ярчайшее утверждение нашего существа, есть bricolage, монтаж двух чужеродных составляющих. В этом и состоит Лаканова «деконструкция» сексуальности.
Паразитическая «прививка» символического тупика к животному спариванию подрывает инстинктивные ритмы этого спаривания и налагает на него неустранимый отпечаток несостоятельности: «половых отношений не существует»; любые отношения между полами могут происходить лишь на фоне их фундаментальной невозможности и т. д. Эта «прививка» предельно случайна – в том смысле, что опирается на однородность между, с одной стороны, членом у мужчины и, с другой стороны, тем, что в «мужских» формулах мы имеем дело с исключением, которая есть основа универсальности: короткое замыкание между ними преобразует пенис в материальную поддержку фаллического означающего, означающего символической кастрации. Как же, если разобраться, устроены «мужское» и «женское»?
Типичный пример поля «не-всё» есть в марксистском понятии классовой борьбы: какую бы позицию мы ни заняли относительно классовой борьбы, включая теоретическую, – это уже классовая борьба; она связана с выбором, «на чьей мы стороне», и потому непредвзятой объективной точки зрения, позволяющей нам описать классовую борьбу, не существует. Именно в этом смысле «классовой борьбы не существует», поскольку «нет элемента, который вне ее», т. е. мы не можем понять ее «как таковую», мы постоянно имеем дело со следствиями предвзятости, отсутствующая причина которых есть классовая борьба. (В дискурсивной вселенной сталинизма, напротив, классовая борьба существует, поскольку из нее есть исключение: технология и язык мыслятся как нейтральные инструменты, доступные всем, и как таковые они вне классовой борьбы.)
Впрочем, обратимся к более абстрактному примеру – к философии. Из беглого знакомства с любым учебником философии делается ясно, что любое универсальное, всеобъемлющее понятие о философии коренится в философии частной. Нейтрального понятия о философии, делимой на аналитическую, герменевтическую и т. д. философию, нет; любая частная философия охватывает себя саму и (свой взгляд на) все остальные философии. Или же – как Гегель сформулировал это в «Уроках по истории философии» – любая эпохальная философия есть своего рода вся философия, не часть Целого, а само Целое, постигаемое в специфической модальности. Следовательно, речь здесь не о простом сведении Всеобщего к Частному, а, скорее, эдакий излишек Общего: никакое Общее не охватывает полностью содержание частного, поскольку любое Частное имеет свое собственное Общее, т. е. содержит специфическую точку зрения на все поле целиком.
Мужская позиция предписывает именно стремление выбраться из этого тупика «прибавочного Общего» исключением одного парадоксального Частного; это парадоксальное Частное тут же воплощает Общее как таковое и одновременно отрицает его свойства присущности. Вот так и возникает Общее «как таковое», в противовес частному содержанию. Показательный случай – фигура Дамы в куртуазной любви, полностью принадлежащая мужской символической экономике. В фигуре Дамы женщина qua сексуальный объект обретает существование, но цена этому – превращение в недосягаемую Вещь, т. е. десексуализованную, преображенную в объект, из-за которого, именно поскольку он воплощает Сексуальность как таковую, мужской субъект делается импотентом[289].
Избранный способ блюсти вымысел о существовании Женщины как Исключения, которое тут же воплощает Общее, – оперная ария: ее апогей, когда сопрано «вкладывает всю себя в голос», возможно, – точнейший пример того, что Лакан именует jouis-sense, у-до-вольствие, миг, когда чистое полностью захватывающее удовольствие голоса затмевает волю к смыслу (словам арии). В этот миг можно ненадолго побыть в иллюзии, что «в женщине это есть» – objet petit a, голос-объект, причина желания, – а значит, женщина существует.
Ключ к этим парадоксам Общего, коренящийся в Исключении, есть в понятии Гегеля о «вещи для себя» Общего, т. е. разницы между «немым» Общим, составляющим бездеятельную связь индивидуальных понятий между собой, и рефлексивным поворотом, посредством которого Общее постановляется как таковое. Во введении к «Grunrisse»[290] Маркс утверждает, что сформулировать абстрактно-универсальное понятие труда можно лишь когда в настоящей общественной жизни царит «настоящее неразличение» частных форм труда, т. е. когда люди в действительности переживают свой конкретный труд как нечто случайное, полностью безразличное их сути, короче говоря – как (свободно выбранную) «профессию». Или, с отсылкой к евроцентризму: настоящий мультикультурализм может возникнуть лишь в культуре, внутри которой ее собственная традиция, общинное наследие, возникает как случайное; иными словами, в культуре, которая безразлична к себе самой, к своим особенностям. По этой причине мультикультурализм, stricto sensu, – «евроцентричен»: лишь в условиях современной субъективности можно воспринимать собственную традицию как случайный ингредиент, который в поисках истины следует методологически «брать в скобки». В этом состоит парадокс Всеобщего и его внутреннего исключения: универсальное понятие множественности народов, каждый из которых укоренен в своей особой традиции, предполагает исключение, традицию, которая воспринимает себя как случайную.
У самого Гегеля этот парадокс сформулирован показательно apropos государства, внутреннего напряжения, свойственного самому понятию Государства, поскольку оно расщеплено между «немой» универсальностью (нейтрально-абстрактное понятие Государства, примеры которого – конкретные государства) и твердое понятие Государства как Идеи Разума, которая постепенно воплощается и которой ни одно существующее позитивное государство не соответствует во всей полноте[291]. Поскольку представление о Государстве, «обозначенном как таковое», становится «вещью для себя», оно неизбежно вступает в негативные отношения с частными, на самом деле существующими государствами, т. е. эти конкретные государства выглядят не соответствующими, ущербными относительно Понятия. (Вероятно, то же напряжение обусловливает и матрицу того, что Хайдеггер описал как онто-теологическую структуру метафизики: «онто-» здесь означает нейтральную универсальность абстрактного понятия Государства, а «тео-» – полностью воплощенного Государства как противоположности несовершенным существующим.) Скажем иначе: «фокус» Общего в том, что? оно втайне исключает. «Человек» в смысле всеобщих прав человека исключает тех, кто «не вполне человек» (дикари и нецивилизованные варвары, сумасшедшие, преступники, женщины, дети…) – эта логика была доведена до предела при якобинском терроре, когда любой конкретный индивид был по крайней мере потенциально исключением: любой индивид, отмеченный каким угодно «патологическим» пятном (продажности, эгоизма и т. д.) и как таковой не подходил под понятие Человека, а потому вина, в конечном счете, присуща отдельному существованию как таковому.
Несколько лет назад журнал «Мэд» опубликовал серию карикатур, показывающих четыре возможных уровня отношения субъекта с символической нормой, принятой в его сообществе. Ограничимся нормой моды. На нижайшем уровне – беднота, чье отношение к моде сводится к безразличию, поскольку их единственная цель – просто стараться не выглядеть нищенски, т. е. соблюдать приличия. Далее – низы среднего класса, которые отчаянно стремятся следовать моде, но из-за финансовых ограничений вечно «опаздывают» и носят то, что было модным в предыдущем сезоне. Верхи среднего класса, которые могут себе позволить последнюю моду, не представляют высшего уровня: над ними богатеи, устанавливающие тренды, и они, подобно низшему классу, к моде безразличны, однако по совершенно иной причине: у них нет внешних норм, которым необходимо подчиняться, поскольку они сами эту норму и устанавливают. То, что они носят, – и есть мода.
Особое значение для теории означающего имеет как раз этот четвертый и последний уровень, который, как своего рода парадоксальный излишек, являет полное подчинение свежей моде. На этом уровне есть некое рефлективное обратное предыдущему: в отношении содержания оба уровня совершенно одинаковы; разница между ними – сугубо формального свойства, поскольку устанавливающие тренды богачи одеваются так же, как верхушка среднего класса, однако по иной причине – не потому, что они хотят следовать последней моде, а потому, что носимое ими и есть последняя мода.
С теми же четырьмя уровнями мы имеем дело и в законодательной власти: выше тех, кто безразличен к законам, тех, кто нарушает закон, оставаясь включенными в систему закона и порядка, и тех, кто строго следует букве закона, располагаются те, кто на самой вершине и чьи действия всегда в согласии с законом, – не потому, что они послушно ему следуют, а потому что их деятельность определяет, что такое закон в перфомативном смысле: что бы они ни делали, это – закон (Король в абсолютной монархии, например). В этой точке обратного и есть исключение, которое основа Всеобщего[292].
Гегелев тезис, что в любом роде есть лишь один вид, а другие виды есть сам род, стремится к той же парадоксальной точке инверсии. Когда, к примеру, мы говорим: «Богатые люди – это бедные люди с деньгами», – это определение невозможно обратить, т. е. мы не можем сказать: «Бедные люди – это богатые люди без денег». Нет у нас нейтрального рода «люди», разделенного на два вида, «бедные» и «богатые»: род «бедные люди», к которым, чтобы получился вид «богатые люди», нужно добавить differentia specifica[293] (деньги). Психоанализ мыслит половое различие более или менее в том же ключе: «Женщина есть кастрированный мужчина». В этом случае, опять же, инверсия невозможна: «Мужчина есть женщина с фаллосом». Однако было бы неверным делать вывод, что мужчина qua самец наделен своего рода онтологическим преимуществом. Истинно гегельянский парадокс – в том, что «отсечение» отличительной черты есть составляющее самого? рода. Иначе говоря, кастрация определяет род мужчины; «нейтральная» универсальность Мужчины, не отмеченного кастрацией, – уже показатель отказа от кастрации.
Достижение Лакана – мыслить половое различие на трансцендентном уровне в строго кантианском смысле понятия, т. е. без отсылки к какому бы то ни было «патологическому» эмпирическому содержанию. В то же время его определение полового различия избегает ловушки «эссенциализма», мысля «суть» и того, и другого половых положений как особую разновидность противоречия, антагонизма. «Суть женщины» – не позитивная сущность, а тупик, не позволяющий ей «стать женщиной». В этом отношении Лакан попросту следует Гегелю, чей ответ на упрек в эссенциализме был бы таков: суть сама по себе есть не-эссенциалистское понятие – «суть сути» зиждется на ее же противоречии, внутреннем расщеплении; или же, как сказал бы Деррида, суть сама по себе может утверждать свой «сущностный» характер, лишь обратившись к противоречивым стратегиям а-ля Фрейдово дополнение о заимствованном зонтике из его сна об инъекции Ирме (я вернула вам зонтик в хорошем состоянии; когда я его одалживал, он уже был неисправен…). Показательный случай подобной «деконструкции» – в Гегелевой критике Канта, в книге «Феноменология духа»: Гегель показывает, как Кант, чтобы утвердить свой «нравственный формализм», вынужден проделать целый ряд «незаконных» Verstellungen[294] (чтобы изменить сигнификацию ключевых понятий прямо по ходу выкладок и т. п.).
Вот почему параллель между Лакановыми «формулами сексуации» и антиномиями чистого разума у Канта полностью оправдана: у Лакана «мужское» или «женское» – не предикат, обеспечивающий позитивные сведения о субъекте, т. е. это не присвоение ему тех или иных свойств феномена; напротив, это случай того, что Кант мыслит как чисто негативное определение, которое лишь обозначает, описывает некий предел, а точнее – особую модальность, как именно субъекту не удалась его или ее попытка стяжать личность, которая составляла бы его или ее как объект в действительности явлений. В этом отношении Лакан максимально далек от понятия о половом различии как отношении между двумя противоположными полюсами, дополняющими друг друга и вместе образующими целого Человека: «мужское» и «женское» – не два вида в роде «Человек», а, скорее, две разновидности неудачи субъекта достичь полной личности Человека. «Мужчина» и «женщина» вместе не образуют Целого, поскольку и тот, и другая сами по себе – несостоявшееся Целое.
Также должно быть уже ясно, почему Лаканова концептуализация полового различия избегает ловушки пресловутой «бинарной логики»: в ней «мужское» и «женское» не противостоят друг другу в виде череды противоположных определений (деятельный/бездеятельный, причина/следствие, разум/чувство и т. д.); напротив, «мужское» и «женское» связаны с другой модальностью самих антагонистических отношений между противоположностями. «Мужчина» – не причина женщины-следствия, а особая модальность отношений между причиной и следствием (линейная последовательность причин и следствий с ожидаемой уникальной составляющей – Последней Причиной), в то время как «женщина», предполагающая другую модальность (своего рода затейливое «взаимодействие», где причина есть следствие этих самых следствий). В сфере собственно половых удовольствий, мужская экономика склонна быть «телеологической», сфокусированной на фаллическом оргазме qua удовольствии par excellence, тогда как женская экономика предполагает рассредоточенную систему отдельных удовольствий, не организованных вокруг какого-то одного телеологического принципа. В результате «мужское» и «женское» – не две позитивные вещественные сущности, а две разные модальности одной и той же сущности: чтобы «придать женственности» мужскому дискурсу, достаточно изменить – иногда почти неощутимо – его особую «тональность».
Тут-то и расстаются «конструкционисты» Фуко и Лакан: для «конструкционистов» пол – не природная данность, а bricolage, искусственное объединение разнородных дискурсивных практик; Лакан же отвергает эту точку зрения, не возвращаясь при этом к наивному субстанциализму. Для Лакана половое различие – не дискурсивная символическая конструкция, она возникает в той самой точке, где бессильна символизация: мы разнополые существа, потому что символизация всегда восстает против своей же внутренней невозможности. Тут все дело не в том, что «настоящие», «конкретные» сексуальные существа никогда не будут полностью соответствовать символической конструкции «мужчины» или «женщины», а в том, что сама символическая конструкция создает определенный фундаментальный тупик. Короче говоря, если бы можно было символизировать половое различие, у нас был бы один пол, а не два. «Мужское» и «женское» – не две дополняющие друг друга части Целого, а две (неудачные) попытки символизировать Целое.
Конечный результат нашего толкования Вейнингера, таким образом, – парадоксальная, но неизбежная инверсия антифеминистского идеологического аппарата, поддержанная самим Вейнингером, согласно которой женщины полностью подчинены фаллическому удовольствию, тогда как мужчины имеют доступ к десексуализованной сфере нравственных целей за пределами Фаллического: как раз мужчина полностью подчинен Фаллическому (поскольку составлять Исключение значит поддерживать всеобъемлющее главенство Фаллоса), тогда как женщина, благодаря противоречивости своего желания, достигает сферы «вне Фаллоса». Лишь женщина имеет доступ к Другому (нефаллическому) удовольствию.
Травматическая составляющая, которую Вейнингер полностью отказался признавать, хотя она следует из его же работы, – внутренняя перевернутость его «официальной позиции»: женщина, а не мужчина, может оказаться «вне Фаллоса». Вейнингер предпочел самоубийство – исключительный пример успешного подавления, подавления без возвращения подавленного. Своим самоубийством Вейнингер подтвердил две вещи: во-первых, где-то «глубоко в нем самом», в его бессознательном, он знал, а во-вторых – и в то же время – его знание было ему совершенно невыносимо. Он стоял не перед выбором «жизнь или смерть» или «деньги или смерть», а «знание или смерть». То, что смерть была единственным возможным способом уйти от этого знания, говорит о несомненной подлинности его субъективной позиции. Иными словами, разве невыносимое напряжение субъективной позиции Вейнингера не свидетельствует об истерической природе его речи? Поэтому Вейнингера все еще имеет смысл читать.