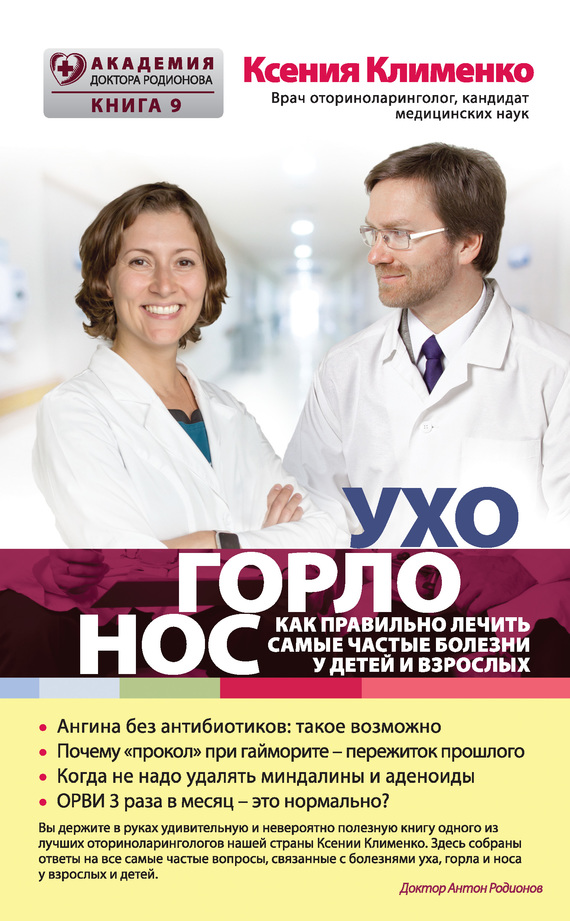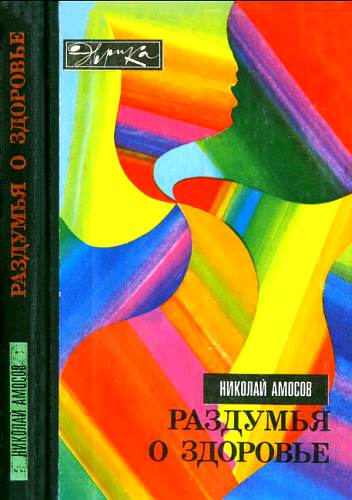Расщепленный субъект интерпелляции
Можно сказать, что этот ночной, теневой закон состоит из proton pseudos, первородной лжи, на которой зиждется община. Иными словами, отождествление с общиной в конечном счете всегда основано на некой одной на всех вины или, точнее, на фетишистском отказе от этой вины. Когда, к примеру, коммунист в Советском Союзе в 1930-е годы отбивается от упрека, что коммунистический режим – предельно террористический, тысячи осуждены и расстреляны бездоказательно, сельское хозяйство в полной разрухе, стратегия ответа состоит не в прямом отрицании этих фактов, а на заявлении, что авторы этих упреков «неспособны прозреть суть происходящего» и постичь возникновение Нового Человека, бесклассовой солидарности: коммунист отлично знает, что миллионы людей умирают в лагерях, но это знание лишь подтверждает его веру в возвышенных «истинных Людей», счастливо и с энтузиазмом строящих Социализм… Чем несчастнее и тоскливее действительность, тем крепче сталинист-коммунист цепляется за свой фетиш.
Любая приверженность той или иной общине так или иначе связана с фетишем, который действует как отмена основополагающей для этой общины вины: не фетиш ли «Америка» бескрайних просторов, где всякий индивид может по-своему стремиться к счастью? Природа этой круговой поруки может быть и гораздо конкретнее; когда, к примеру, Вожака застукали со спущенными штанами, солидарность группы усиливается общим для всех ее субъектов отрицанием ошибки, которая обнажила промах или бессилие Вожака: в группе общая на всех ложь – связь несравненно более действенная, чем правда. Может, стоит перечитать сказку Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля» примерно в таком ключе: разумеется, все понимали, что король – голый, но именно отрицание этого факта объединило субъектов, а утверждением действительности оплошавший ребенок, по сути, уничтожил социальное единство.
Парадокс круговой поруки, впрочем, присущ далеко не только тоталитарным сообществам – достаточно вспомнить нынешние сообщества «прогрессивной» культурной критики: не в их ли основании лежит фетишистское превознесение того или иного автора (типичные претенденты: Альфред Хичкок, Джейн Остен, Вирджиния Вулф…), чьи «неполиткорректные» поступки заранее прощены или перетолкованы как авангардные и прогрессивные в некоем прежде неслыханном, скрытом смысле… Удовольствие общине доставляет именно это коллективное отрицание – к примеру, наша убежденность в «прогрессивной» манере Хичкока, отменяющая символическую действенность того, что очевидно за пределами этого умонастроения.
В этом отношении мы в конечном счете делаем то же, что и западный сталинист-коммунист, который в 1930-е годы преданно следовал изгибам политики партии и первым разглядел главного врага в фашизме, потом заделался увлеченным пацифистом – энергично поддержал советско-немецкий пакт и предупреждал об английском и французском милитаризме, а закончил призывом открытия фронта всеми «прогрессивными» силами коммунистов и буржуазных демократов против фашизма; и все эти перемены настроений никак его не смущали, а лишь укрепляли в коммунистической вере. Или же – по словам Жан-Клода Мильнера[120] – вероятно, главная функция Хозяина состоит в том, чтобы определить ложь, способную поддерживать групповое единство: удивить субъектов утверждением, которое в явном виде противоречит фактам, вновь и вновь заявлять, что «черное есть белое»… Следовательно, недостаточно утверждать «Это моя страна, права она или нет!»: моя страна – по-настоящему моя, лишь покуда она, в определенном важном отношении, неправа.
Это напряжение между публичным Законом и его теневой «сверх-я»-изнанкой также позволяет нам по-новому осмыслить представление Альтюссера об идеологической интерпелляции. Альтюссерова теория «Идеологических государственных аппаратов» и идеологической интерпелляции сложнее, чем может показаться: Альтюссер, повторяя за Паскалем «Действуйте так, будто верите, молитесь, склоняйте колени – и вы уверуете, вера появится сама собой», очерчивает причудливый рефлексивный механизм ретроактивного «самовоспроизводящегося» основания, которое значительно превосходит упрощенческое утверждение зависимости внутренней веры от внешнего поведения. Иными словами, внутренняя логика довода такова: преклоняйте колени – и уверуете, что преклонили колени из-за своей веры, т. е. ваше следование ритуалу есть выражение/следствие вашей внутренней веры. Короче говоря, «внешний» ритуал перфомативно производит свое собственное идеологическое основание. В этом коренится взаимосвязь ритуала, свойственного «Идеологическим государственным аппаратам», и акта интерпелляции: веруя, что преклоняю колени из-за своей веры, я одновременно «осознаю» себя в призыве Другого-Бога, который велит мне преклонить колени…
Все еще сложнее в случае интерпелляции – Альтюссеров «пример» содержит больше, чем его, Альтюссера, рассуждение извлекает. Альтюссер рисует образ индивида, которого, пока он беззаботно шагает по улице, внезапно окликает полицейский: «Эй вы!» Ответив на этот оклик, т. е. остановившись и обернувшись, индивид признает-постановляет себя как субъекта Власти, большого Другого-Субъекта: идеология «преобразует» индивидов в субъектов (всех их) именно этой самой процедурой, которую я именую интерпелляцией, или призывом, и которую можно представить примерно как обыденный оклик полицейского (или еще чей-нибудь): «Эй вы!»
Предположим, что эта придуманная мною умозрительная сценка происходит на улице, и индивид, которого окликнули, действительно оборачивается. Одним этим физическим поворотом на сто восемьдесят градусов он превращается в субъекта. Почему? Потому что он признал, что оклик «действительно» адресован ему, и что «это именно его окликнули» (а не кого-то еще). Опыт показывает: практическая передача оклика такова, что он почти никогда не промахивается: будь то словесный призыв или свист, окликаемый всегда сознает, что окликают именно его. И все же странное это явление, и его никак не объяснить исключительно «чувством вины», невзирая на то, что людей «с нечистой совестью» великое множество.
Естественно, ради удобства и ясности моего маленького теоретического театра, приходится излагать ситуацию по порядку, с началом и концом, т. е. во временно?й последовательности. Вот идут люди. Откуда-то (обычно у них из-за спины) доносится оклик: «Эй вы!» Один индивид (девять из десяти случаев – правый) оборачивается, считая/подозревая/зная, что зовут его, т. е. признавая, что «это действительно он», кому этот оклик адресован. Но на деле все это происходит без всякой последовательности. Существование идеологии и призыв, или интерпелляция, индивидов как субъектов суть одно и то же[121].
Первое, что останавливает взгляд в этом рассуждении, – подразумеваемая Альтюссером отсылка к тезису Лакана о письме, которое «всегда достигает адресата»: интерпеллятивное письмо не может ошибиться адресатом, поскольку, в смысле своего «вневременно?го» характера, лишь опознание-принятие получателем делает письмо письмом[122]. Ключевая черта процитированного рассуждения, впрочем, – в двойном отрицании: отказ объяснять интерпеллятивное признание «чувством вины», а также отказ от того, что процесс интерпелляции протекает во времени (говоря строго, индивиды не «становятся» субъектами, они «всегда-уже» субъекты). Такое двойное отрицание следует читать как фрейдистское: «вневременной» характер интерпелляции делает незримым своего рода не зависящую от времени последовательность, которая гораздо сложнее, нежели «теоретический театр», показанный Альтюссером с сомнительной отговоркой об «удобстве и ясности».
Эта «подавленная» последовательность касается «чувства вины» совершенно формального, «непатологического» (в кантианском смысле) свойства, вины, которая, по этой самой причине, тяжелее всего давит людей, у которых «совесть ничем не обременена». Иными словами, в чем же именно состоит первая реакция индивида на оклик полицейского «Эй вы!»?[123] В непоследовательном смешении двух составляющих: (1) почему я, чего полицейский от меня хочет? Я ни в чем не виноват, шел себе и всё…; однако такой растерянный протест невинности всегда сопровождается (2) неопределимым кафкианским чувством «абстрактной» вины, чувством, что в глазах Власти я априори в чем-то страшно провинился, хотя сам я никак не могу знать, в чем именно виноват, и именно поэтому – потому что не знаю, в чем я виноват, – я виноват еще больше; или, точнее, в само?м этом неведении и состоит моя истинная вина.
Таким образом получается, что вся Лаканова структура субъекта, расщепленного между невиновностью и абстрактной, неопределимой виной, сталкивается с неясным призывом, исходящим от Другого («Эй вы!»), призывом, из которого субъекту непонятно, чего Другой от него хочет («Che vuoi?»[124]) Коротко: здесь мы имеем дело с интерпелляцией до отождествления. До распознания в призыве Другого, посредством которого индивид определяет себя как «всегда-уже»-субъекта, мы вынуждены отметить это «вневременное» мгновение безвыходности, в котором невиновность совпадает с неопределимой виной: идеологическое отождествление, посредством которого я принимаю символический приказ и признаю себя субъектом Власти, происходит именно как ответ на эту безвыходность.
И вот оно вновь – напряжение между публичным Законом и его теневой «сверх-я»-изнанкой: идеологическое признание призыва Другого есть акт отождествления, определения себя как субъекта публичного Закона, принятия своего места в символическом порядке вещей, а абстрактную неопределимую «вину» субъект переживает, попутно имея дело с неисповедимым призывом, который как раз и препятствует отождествлению, признанию символического приказа, отданного индивиду. Парадокс тут в том, что теневая «сверх-я»-изнанка есть одновременно и необходимая поддержка публичному символическому Закону, и травматический заколдованный круг, безвыходность, от которой субъект стремится уклониться, ища прибежища в публичном Законе – чтобы утвердить себя, публичный Закон должен противиться своему же основанию, делать его незримым.
В Альтюссеровой теории интерполяции остается «неосмысленным» то, что до идеологического признания у нас есть промежуточный миг теневой, непроницаемой интерпелляции без отождествления, своего рода «исчезающий посредник», который должен стать незримым, если субъект хочет достичь символического отождествления – завершить движение к субъективации. Вкратце: «неосмысленное» Альтюссера – в том, что загадочный субъект имеется еще до акта субъективации. Не чистая ли теоретическая конструкция этот «субъект до субъективации» и как таковая не бесполезна ли она в предметном социальном анализе? Доказательство обратного предлагается в синтагме, возникающей постоянно, когда социальные служащие пытаются изложить свой опыт работы с «асоциальными» малолетними преступниками, которым недостает того, что мы идеологически именуем «элементарным состраданием и нравственной ответственностью»: смотришь им в глаза, и кажется, что «никого нет дома»[125].
Ключевой текст Альтюссера на эту тему – «Trois notes sur la th?orie des discours» (1966)[126]. В первой «Заметке» Альтюссер выдвигает гипотезу, согласно которой любой из четырех основных типов дискурса предполагает специфический характер субъективности, т. е. привносит свой «эффект-субъект» [effet-sujet]: в идеологическом дискурсе субъект представлен en personne[127], в научном – отсутствует en personne, в эстетическом присутствует в виде персон-посредников [par personnes interpos?es], в бессознательном дискурсе субъект ни присутствует, ни просто отсутствует: он – пустое место, представленное символом-заполнителем[128]. В третьей «Заметке», однако, Альтюссер вдруг, довольно неожиданно, втягивает субъекта в идеологический дискурс и ограничивает его им, подчеркивая, что можно говорить о «субъекте науки» или «субъекте бессознательного» лишь в метафорическом смысле слова. Стоит нам принять его позицию – и придется, разумеется, отвергнуть само представление о «расщепленном субъекте»: по словам Альтюссера, нет никакого расщепленного субъекта, а есть лишь субъект плюс бездна [Spaltung], зияющая между субъектом и порядком дискурса: «le manque du sujet ne peut ?tre dit sujet»[129]. Короче говоря, Альтюссер неоправданно отождествляет пустоту, брешь, из-за которой размывается самоотождествление субъекта, с самим субъектом.
Наша лакановская позиция подталкивает нас принять сторону Альтюссера-I (который за четыре «эффект-субъекта») против Альтюссера-II (который за идеологический статус субъекта): Альтюссерово ограничение субъекта идеологией – явный случай теоретической «регрессии». Четыре «эффект-субъекта» Альтюссера-I явно неравны по весу: два претендента на роль субъекта par excellence – либо идеологический субъект, представленный en personne, либо субъект бессознательного, брешь в структуре ($), которую означающее всего лишь представляет. Альтюссер выбрал первое (идеологический статус субъекта), тогда как с лакановской точки зрения второй вариант кажется куда продуктивнее: он позволяет нам мыслить оставшиеся три «эффект-субъекта» как следствия-затенения $, как три способа примириться с брешью в структуре, которая «есть» субъект.
Дополнительный довод в пользу выбора Лакана – в показательном чтении самого Альтюссера: не сдвиг ли в теории Альтюссера, заявленный в его очерке «Ленин и философия», – самокритическое отвержение «затеоретизированного отклонения», утверждение классовой борьбы в теории, теории рекурсивности, т. е. понятия, что теория включена в свой объект, – своего рода «возвращение подавленного», означающего, как грани субъекта? Показательно здесь новое Альтюссерово определение философии, заключающее в себе этот сдвиг: философия – более не «Теория теоретической практики», а «представляет политику (классовую борьбу) в теории» – не отчетливая ли это версия Лаканова «означающее представляет субъект для другого означающего»? Классовая борьба как разрыв, предотвращающий тотализацию, – единственный истинный «субъект» истории, а философия при этом – Главное Означающее (S1), представляющее субъект – классовую борьбу – для теории, в пределах поля знания (S2)[130].