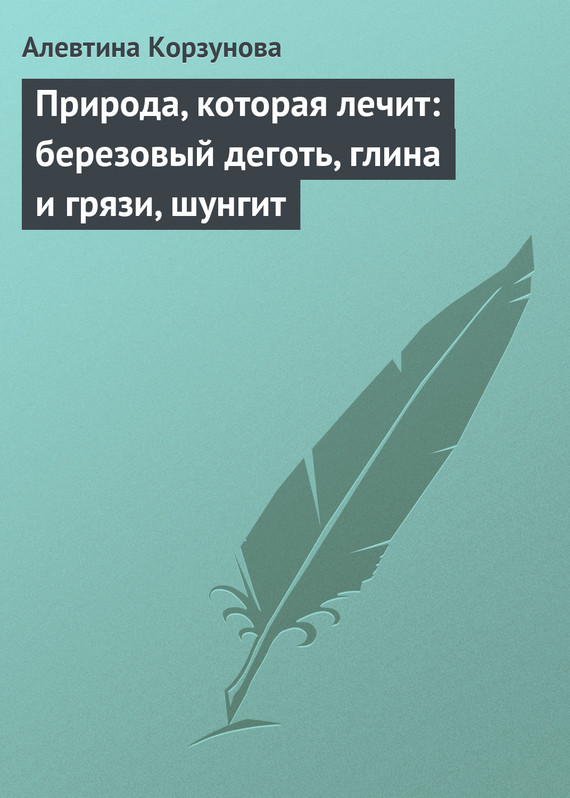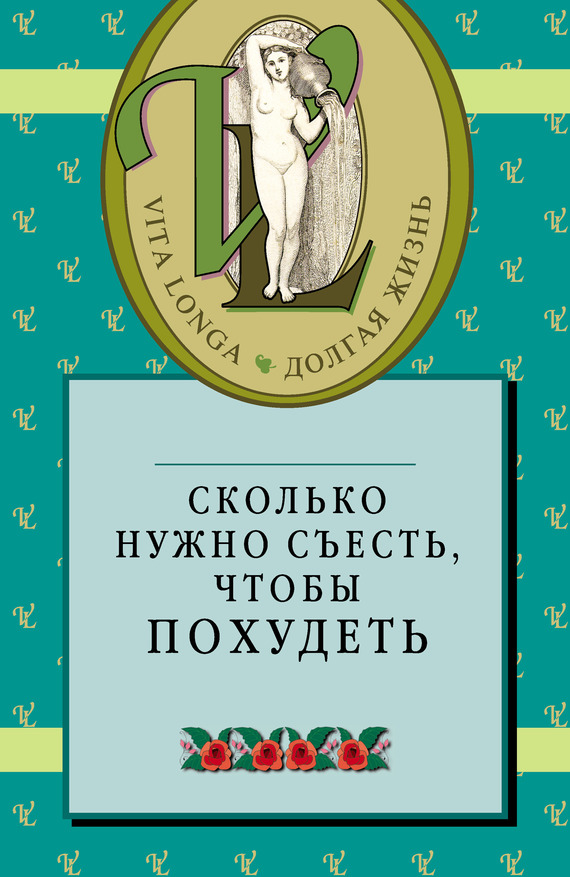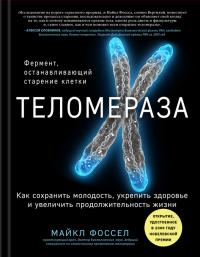Кундера, или Как получать удовольствие от бюрократии
Акцент следует ставить на внутренней политической грани понятия удовольствия – на том, как это ядро удовольствия выступает политическим фактором. Давайте разберемся с этой гранью на примере одной из загадок культурной жизни постсоциалистической Восточной Европы: почему Милан Кундера даже теперь, после победы демократии, остается в эдакой ссылке и сидит в своей Богемии? Работы его публикуют редко, пресса обходит их молчанием, все словно стесняются о нем говорить… Чтобы как-то оправдать подобное отношение, приходится откапывать старые истории о его тайном сотрудничестве с коммунистическим режимом, о том, что он предался личным радостям и избегал прямых столкновений а-ля Гавел и т. п. Но корни этого сопротивления уходят глубже – послание, которое несет Кундера, невыносимо для «нормализованного» демократического сознания:
? На первый взгляд, фундаментальная ось, структурирующая вселенную его работ, – вроде бы противостояние между выспренним пафосом официальной социалистической идеологии и островками повседневной частной жизни, со своими маленькими радостями и удовольствиями, смехом и слезами, не досягаемыми для идеологии. Эти островки позволяют нам сохранять отстраненность, которая делает идеологический ритуал зримым – во всей его суетной, нелепой претенциозности и гротескной бессмыслице: не заслуживает официальная идеология хлопот протеста против него, со всякими патетическими речами о свободе и демократии – рано или поздно такой протест приведет к новой версии «Большого Марша», идеологической одержимости… Если сузить Кундеру до подобного представления, от него легко отмахнуться – фундаментальным «альтюссерианским» прозрением Вацлава Гавела, которое состоит в том, что предельно конформистский настрой есть в точности такая вот «аполитичная» позиция, которая, хоть и публично подчиняется навязанному ритуалу, втихаря позволяет себе циничную иронию: недостаточно утверждать, что идеологический ритуал есть всего лишь видимость, которую никто не воспринимает всерьез, – эта видимость сущностна, и потому следует рисковать и отказываться участвовать в публичном ритуале (см. знаменитый пример Гавела из его очерка «Сила бессильных»[131], об обычном человеке, зеленщике, который, конечно, не верит в социализм, но, когда ситуация требует, прилежно украшает окна своей лавки официальными партийными девизами и т. д.).
? Следовательно, нужно сдвинуться на шаг вперед и принять во внимание, что нельзя попросту отстраниться от идеологии: частный цинизм, увлечение личными удовольствиями и т. д. – именно так тоталитарная идеология и действует в «неидеологической» повседневной жизни, так эта жизнь определяется идеологией, так идеология «присутствует в ней в режиме отсутствия», если мы решим вернуться к этому обороту из героической эпохи структурализма. Деполитизация частной сферы в позднесоветских обществах – «навязчива», отмечена глубинным запретом свободной политической дискуссии; поэтому подобная деполитизация всегда действует как замалчивание того, на что делается настоящая ставка. Это и есть мгновенно замечаемая яркая черта романов Кундеры: деполитизированная частная сфера – совсем не свободное пространство невинных удовольствий; в том, как персонажи стремятся к половым и иным радостям, всегда чувствуется нечто затхлое, клаустрофобное, ненастоящее, даже отчаянное. В этом отношении вывод из романов Кундеры – прямо противоположный наивному упованию на невинное личное пространство: тоталитарная социалистическая идеология отравляет изнутри ту самую сферу личного, в которой мы ищем прибежища.
? Это ви?дение, впрочем, далеко от исчерпывающего. Необходимо сделать еще один шаг, поскольку выводы из Кундеры более расплывчаты. Несмотря на затхлость личного пространства, тоталитарная ситуация породила несколько явлений, запечатленных многими хрониками повседневной жизни социалистического Востока: в ответ на тоталитарное идеологическое подавление происходил не только побег в цинизм и «хорошую жизнь» личных удовольствий, но и необычайный расцвет подлинной дружбы, хождений по гостям, общих ужинов, пылких интеллектуальных дискуссий в закрытых обществах – все это завораживало посетителей с Запада. Загвоздка, понятно, в том, что провести четкую границу между двумя этими сторонами невозможно: это орел и решка одной и той же монеты, и поэтому с приходом демократии утеряны обе. Следует отдать должное Кундере – он не скрывает этой двусмысленности: дух «Средней Европы», подлинной дружбы, интеллектуального общения выжил лишь в Богемии, Венгрии и Польше – как форма сопротивления тоталитарному идеологическому подавлению.
? Возможно, имеет смысл сделать еще один шаг: само подчинение социалистическому режиму порождало специфическое удовольствие – не только удовольствие от осознания, что люди жили во вселенной, освобожденной от неопределенности, поскольку Система располагала (или делала вид, что располагает) всеми ответами, но превыше всего – удовольствие от самой тупости Системы, наслаждение пустотой официального ритуала, в истертых стилистических фигурах преобладавшего идеологического дискурса. (Довольно вспомнить, до какой степени некоторые сталинские обороты сделались частью иронических фигур речи даже среди западных интеллектуалов: «объективная ответственность», например.)
Показательный случай подобного удовольствия, сообщаемого «тоталитарной» бюрократической машиной, есть в сцене «Бразилии» (1985) Терри Гиллиама: по лабиринтам коридоров громадного правительственного здания стремительно идет высокопоставленный служащий, а за ним – стайка младших конторщиков, отчаянно пытающихся не отставать; служащий ведет себя как страшно занятой человек, просматривает документы и выкрикивает указания окружающим, а сам продолжает нестись, будто спешит на какую-то важную встречу. Когда этот служащий натыкается на героя фильма (в исполнении Джонатана Прайса), они обмениваются парой слов, и служащий торопится дальше, занятой-занятой… Однако, полчаса спустя наш герой видит его вновь в одном из удаленных коридоров – служащий продолжает свой бессмысленный ритуальный бег. Удовольствие возникает именно от этой бессмысленности действий служащего: хотя его заполошная беготня и приказы изображают «эффективное» использование каждой свободной минуты, все это, stricto sensu, бесцельно – чистый ритуал, повторяемый ad infinitum.
Современный русский композитор Альфред Шнитке сумел явить эту черту в опере «Жизнь с идиотом»[132]: так называемый «сталинизм» сталкивает нас с тем, что Лакан определил как безмозглость, присущую означающему как таковому. Опера излагает нам историю обычного женатого человека («я»), который в наказание, наложенное на него партией, вынужден поселить у себя в доме человека из психушки; этот идиот, по имени Вава, с виду – вроде бы нормальный бородач-интеллектуал в очках, постоянно изрыгающий бессмысленные политические фразы, – скоро показывает, на что способен: этот мерзкий чужак сначала укладывает в постель жену «я», а потом и самого его. Пока живем во вселенной языка, мы обречены на безмозглость «сверх-я»: можно как-то отстраниться от него и таким образом научиться терпеть его, но избавиться от него не удастся…