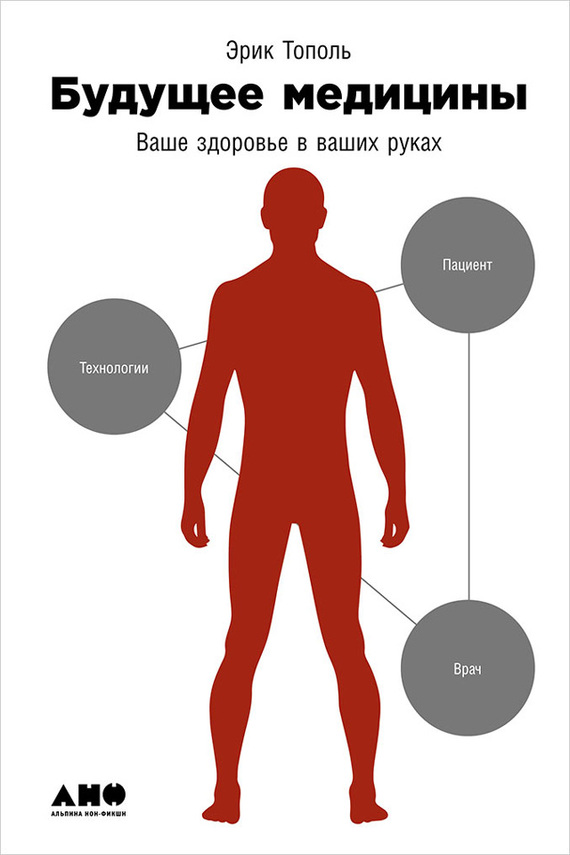Субъективная нищета
В чем состоит воздействие психоанализа, психоаналитического лечения как специфического субъективного опыта? Принято считать, что психоанализом подрывают нарциссизм субъекта, помогая ему пережить свое смещение из центра, зависимость от Другого…
Все это происходит еще до самого? психоанализа, на так называемых предварительных встречах. Эта «коррекция субъективного отношения», как именует его Лакан, двойная: субъект вынужден признать внутреннюю невозможность в том, что ему кажется случайной помехой, результатом неудачных обстоятельств и – та же процедура в обратном порядке – разглядеть успех в том, что ему представляется неудачей. Достаточно вспомнить риторические фигуры, какими изобилуют теоретические тексты: «Ограничения объема данной книги не позволяют более подробного изложения…», «здесь мы можем себе позволить изложить лишь в общих чертах то, что следует объяснять в гораздо более подробном понятийном рассуждении…» и т. д. – во всех подобных случаях можно не сомневаться, что эти отсылки к внешним, эмпирическим ограничениям суть попытки скрыть внутреннюю невозможность: «более подробное изложение» априори невыполнимо – или, точнее, оно ослабит сам тезис, который требовал якобы более подробного изложения. Показательный случай подобной симптоматической отсрочки – заглавия многочисленных марксистских книг, издававшихся в 1960-е, в которых виден неотвязный страх столкнуться с «само?й вещью»: не встретишь среди них заглавия «Теория идеологии», впрямую, а всегда это вот – «К теории идеологии», «Элементы будущей теории идеологии» и т. п.
Что же до противоположного действия – признания успеха в кажущемся поражении: не будем полагаться на типовой пример – оговорки, в которой являет себя истинное желание субъекта, а обратимся к политико-идеологической сфере. Официально «социалистическое» образование в коммунистической Восточной Европе стремилось создать нового Человека-Социалиста – честного, приверженного общественному благополучию, жертвующего узкими частными интересами во имя будущего и т. д. Настоящий результат такого образования, разумеется, – циничный индивид, который, публично участвуя в официальном идеологическом ритуале, оставался внутренне отстранен, насмехался над идиотизмом социалистической идеологии и ограничивал свой подлинный интерес личными удовольствиями. Если оценивать по заявленным целям, «социалистическое образование» было чудовищной неудачей. А что если истинная цель была именно в создании такого деполитизированного циничного индивида, поскольку он – как раз то, что надо для воспроизведения существующих соотношений сил? Куда опаснее циника был бы кто-нибудь, наивно верящий в систему: поскольку такой человек склонен воспринимать все дословно, он уже наполовину диссидент. Я лично был знаком с одной женщиной из бывшей Югославии, которая потеряла работу в ЦК из-за своей искренней веры в самоуправление: циничные партийные бюрократы сочли, что она представляет для них угрозу…
Не возвышенный ли вариант полного унижения, «десубъективации», описанной Оруэллом, среди прочего, в романе «1984», показательный случай которого в «действительности» – чудовищный судебный произвол при Сталине, – подобная нарциссическая потеря, или, скажем резче, «субъективная нищета»? Не означает ли она сдвиг, вынуждающий субъекта отказаться от внутреннего ядра его или ее достоинства?
Отчего ж нет? В психоанализе, если совсем точно, все еще хуже, чем при Сталине. Да, нам приходится отказываться от тайного сокровища в себе самих, от агальмы, которая дарует нам наше глубинное достоинство – все самое дорогое персонализму; да, мы вынуждены пережить преобразование нашего сокровища в «дерьма кусок», в смердящий экскремент – и отождествиться с ним. Однако – и как раз поэтому в психоанализе все еще хуже, – анализант должен завершить это преобразование самостоятельно, без ссылки на кошмарные обстоятельства.
«Субъективную нищету», связанную с позицией аналитика qua объекта а, можно проиллюстрировать историей из жизни американского довоенного Юга. В борделях тогдашнего Нового Орлеана черного слугу не держали за человека, и потому пару белых – проститутку и ее клиента – нимало не побеспокоило, когда в комнату входил слуга с напитками: они попросту продолжали совокупляться, поскольку взгляд слуги за взгляд человека никто не считал. В некотором смысле то же и с аналитиком: разговаривая с ним, мы отрясаем всякий стыд и способны доверить ему самые сокровенные свои любови и ненависти, хотя наши отношения с ним полностью «безличные», в них нет близости настоящей дружбы.
Диалектика близости вообще чрезвычайно интересна: когда в залитой луной тьме мы с моим партнером предаемся чувственной страсти, подлинная половая близость не достижима – я куда сильнее открываюсь своему партнеру, когда выказываю интимность своего удовольствия его или ее взгляду, отстраненному от меня. Vulgari eloquentia, когда я позволяю ему или ей наблюдать за мной, пока я мастурбирую, мне нужно гораздо больше доверять партнеру, нежели при совокуплении с ним или с нею. Вероятно, поэтому Брехт предпочитал неодновременный оргазм: сперва ты, чтобы я на тебя смотрел, а потом можешь поглядеть, как дохожу до пика я сам… В этом потребно доверие, поскольку я обнажаюсь перед опасностью, что есть во взгляде наблюдающего партнера – для безразличного же наблюдателя я вдруг сделаюсь смешон: половой акт неизбежно кажется бессмысленным повторением механических движений, сопровождающихся мучительными вздохами. Чтобы половой акт показался нелепым, довольно отстраниться от его на Форманово расстояние – я имею в виду процедуру «отстранения», которую Милош Форман применял в своих ранних чешских фильмах; этот прием основан на «недоброжелательной бесстрастности камеры». Сам Форман вызвал сдвиг в нашем восприятии, какой бывает, когда из-за каких-то технических неполадок вдруг отказывает звук в телевизоре: пылкая речь политика или потрясающая оперная ария внезапно превращаются в абсурдное комическое кривлянье и взмахи руками…
Но давайте вернемся к уникальной фигуре аналитика. Аналитик «безличен» еще и в том, что он полностью отвечает за следствия своих слов. Когда результат нашего поступка – противоположность того, на что мы рассчитывали, мы, обычные люди, каждый со своими ограничениями, имеем право сказать: «О господи, я совсем не этого хотел!»; аналитик же, напротив, – некто, кому «Я не этого хотел!» никогда не дозволено. Поэтому аналитический дискурс как общественная связь – нечто исключительное и чрезвычайно удивительное. Необычайно в нем не то, что он может исчезнуть, а его возникновение.
Как «субъективная нищета» влияет на положение Хозяина?
В одном из недавних романов-триллеров фасона «корпоративный кошмар», «Виртуальный босс»[295], компанией управляет компьютер (сотрудники – в неведенье), который вдруг «слетает с катушек», выходит из-под контроля и начинает принимать меры против старших управленцев (подстраивает конфликты между ними, отдает приказы об увольнении и т. д.); наконец он приводит в действие смертельный план против своего же программиста… «Правда» этого сюжета в том, что Хозяин в некотором смысле всегда виртуален, это случайный человек, занимающий предписанное место в структуре, а игру на самом деле ведет «большой Другой» qua безличная символическая машина. Вот что приходится принимать во внимание Хозяину через опыт «субъективной нищеты»: что он, Хозяин, по определению самозванец, безмозглый, ошибочно воспринимающий за следствия своих решений то, что происходит из-за автоматического действия символической машины.
В конечном счете то же самое относится к любому субъекту: Альтюссер в своей автобиографии пишет, что его всю взрослую жизнь преследовала мысль, будто он не существует, страх, что другие узнают о его не-существовании, т. е. о том, что он – самозванец, который лишь притворяется, что существует. Величайший страх Альтюссера после издания «Читать “Капитал”», например, был в том, что какой-нибудь проницательный критик обнаружит скандальный факт, что главного автора этой книги не существует…
В некотором смысле психоанализ – как раз это и есть: психоаналитическое лечение, по сути, завершено, когда субъект теряет страх и свободно принимает свое несуществование. Таким образом, психоанализ – полная противоположность субъективистскому солипсизму: в отличие от представления, что я могу быть уверен лишь в собственных мыслях, а существование действительности вне меня – уже приблизительное допущение, психоанализ утверждает, что действительность вне меня со всей определенностью существует; проблема как раз в том, что не существую я сам…
Именно в этом отношении «субъективная нищета» близко связана с другой ключевой темой Гегеля-Лакана – с «жертвованием жертвой». В одном из жутковатых рассказов Роальда Даля про жену, у которой муж погиб молодым, посвящает ему всю свою жизнь, приняв на себя роль хранительницы его памяти и вознося его до идеализированной утраченной вещи; однако через двадцать лет она случайно обнаруживает, что непосредственно перед смертью ее муж был пылко влюблен в другую женщину и собирался оставить семью… Пустота, в которой обнаруживает себя жена, – «утрата утраты», по Гегелю. Этим интересен фильм Кесьлёвского «Синий», первая часть трилогии «Цвета», в котором жена знаменитого композитора (Жюльетт Бинош), травмированная смертью супруга и сына в автокатастрофе, вдруг обнаруживает, что у мужа была любовница, которая теперь, после его смерти, ждет от него ребенка; нравственная красота фильма зиждется на том, что жена, сделав это неожиданное открытие, не впадает в ярость по отношению к любовнице, а примиряется с ней и даже, в общем, радуется будущему ребенку своего покойного мужа…
Кстати, «Синий» интересен еще и заметной формальной чертой: необычным применением затемнения. Речь вот о чем: обычное затемнение – переход от одной сцены (пространственно-временной непрерывности) к другой. В «Синем» же этот переход осуществляется прямым монтажом; посреди связного разговора изображение говорящего вдруг исчезает, но следующий кадр возвращает нас в ту же сцену. Тут мы имеем дело с лакановской практикой переменного окончания психоаналитической встречи: жест аналитика, возвещающий об окончании встречи, как затемнения у Кесьлёвского, не следует внешне навязанной логике (предписанному пятидесятиминутному промежутку), он случается внезапно, посреди сцены, и потому действует как пояснительный жест sui generis[296], подчеркивая элемент в речи анализанта (или, как у Кесьлёвского, – в речи персонажа на экране) как особенно значимый.
Так, значит, в этой «субъективной нищете» Лакана есть по крайней мере какое-то эхо отказа от «мушки субъективности», т. е. от требования полной самоинструментализации, которую партия Сталина предписывала субъекту? В конце концов большинство лакановцев кружка Жака-Алена Миллера[297], по крайней мере в первом поколении его собратьев по оружию, – бывшие маоисты…
Следует признать открыто, что многая критика якобы «тоталитаристской», «сталинистской» природы лакановских сообществ в значительной мере происходит по аллюзии: да, «дух», структурирующий принцип, выраженный искаженно в сталинизме, обрел подобающую форму в лакановском сообществе аналитиков, в обращении travail du trasnfert, работе переноса, которая возникает во время психоаналитического лечения, в transfert du travail, «перенос работы» qua абсолютного перемещения вовне результатов самоанализа анализанта в «матеме», т. е. теоретической формулировке, освобожденной от малейшей тени «посвящения» и как таковой полностью прозрачной для сообщества аналитиков. Именно в этом смысле passe означает упразднение переноса. Анализант в процессе переноса узнает в любых словах или жестах аналитика de la fabula narratur[298]: «он действительно говорит обо мне, он нацелен на мою агальму, на непостижимую тайну моего существа». Аналитическое лечение завершается, когда анализант способен сформулировать результат анализа в матеме, которая больше не «применима к нему», а в пределе – безлична. В этом и есть ставка passe: сообщить сокровеннейшему ядру нашего существа формулу анонимной «бессмысленности», в которой не отзывается никакая уникальная субъективность.
Выбор неизбежен, т. е. что? возникает после passe, когда психоанализ завершен? С одной стороны, имеем «обскуранистский» выбор: passe как сокровенный опыт, экстатический миг подлинности, который можно передать от человека к человеку в инициирующем акте коммуникации. С другой стороны, «сталинистский» выбор: passe как акт полного вынесения вовне, посредством которого я безвозвратно отказываюсь от непостижимого драгоценного ядра в себе, делающего меня уникальной сущностью, и отдаюсь без остатка аналитическому сообществу. Подобие лакановского аналитика и коммуниста-сталиниста можно развить еще дальше: к примеру, лакановский аналитик, как и сталинский коммунист, в некотором смысле «непогрешим» – в отличие от обычных людей, он не живет «методом проб и ошибок», ошибка (идеологическое заблуждение) не присуща его речи. И потому, когда он эмпирически «ошибается», причины ошибки – полностью внешние: «усталость», «нервное напряжение» и т. д. Ему требуется не теоретически понять свои ошибки, а просто отдохнуть и восстановить здоровье.
Не означает ли такая «непогрешимость» лакановского аналитика, что лакановский дискурс – полностью подчинен Главным означающим, проникнут им?
Как раз наоборот: как ни парадоксально, это означает, что аналитическое сообщество – единственное, способное обойтись без Главного означающего. Что такое Главное означающее, говоря строго? Означающее переноса. Яркий пример: читая текст или слушая кого-то, мы полагаем, что у каждой фразы есть некий скрытый глубинный смысл, а поскольку загодя этого ожидаем – обычно и находим. Рассмотрим следующий фрагмент из воспоминаний о Витгенштейне Мориса О’Коннора Друри[299]:
Следующий день выдался ясным и солнечным, и мы отправились гулять за холм, в дюны Тулли.
ВИТГЕНШТЕЙН: Какие красивые в этом пейзаже цвета. Даже поверхность дороги – и та цветная.
Дойдя до дюн, мы принялись ходить туда и сюда вдоль моря.
ВИТГЕНШТЕЙН: Совершенно понятно, почему дети любят песок[300].
Вполне обычные, будничные замечания, однако то, как эта цитата выделена, подталкивает нас искать в ней какие-то немыслимые глубины… Иначе говоря, стал бы кто это записывать, произнеси эти слова какой-нибудь престарелый дядюшка-маразматик? Подобные отношения переноса – то, чего сообщество лакановских аналитиков избегает благодаря «непогрешимости»: это сообщество не основывается на том или ином «предполагаемом» знании, а попросту есть сообщество людей, которые знают.
Вкратце: именно «субъективная нищета», полный вывод вовне делает Хозяина избыточным: Хозяин есть Хозяин, лишь поскольку я, его подданный, не полностью вывел все вовне; лишь пока я держу где-то у себя в глубине свою агальму, тайное сокровище, уникальное свойство своей персоны, Хозяин делается Хозяином, признавая во мне мою уникальность. Внутренне свойственная религиозному дискурсу иллюзия, к примеру, – в том, что Бог обращается к каждому человеку по имени: я знаю, что Бог помнит меня лично…