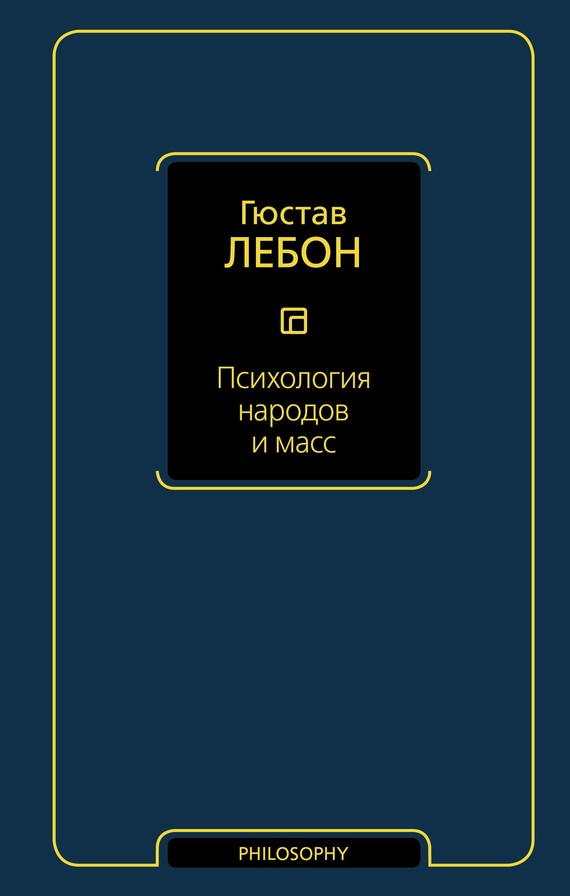Введение
Как социальный психолог я смотрю на мир безо всякого намерения управлять им, а с единственной целью понять его и передать это понимание окружающим. Социальные психологи – часть той самой социальной матрицы, которую они взялись анализировать, а следовательно, они могут опираться на собственный опыт как на источник знаний. Трудность в том, чтобы при этом не засушить окружающий мир, лишив его всей радости, спонтанности и живости.
Стремление понять социальное поведение присуще, разумеется, не только психологам, – это нормальное человеческое любопытство. Однако с точки зрения социальных психологов эта задача более насущная, более интересная, поэтому они идут на шаг дальше и превращают ее в дело всей жизни.
Исследования из этого сборника велись в течение 20 лет; их целью было изучить, как социум влияет на поступки и опыт отдельной личности. При этом мы исходили из предположения, что личность, на которую влияют социальные силы, зачастую убеждена, что не зависит от них. Таким образом, это социальная психология реагирующей личности, реципиента сил и воздействий, исходящих из внешнего мира как такового. Это, разумеется, лишь одна сторона медали общественной жизни, ведь мы, отдельные личности, также совершаем действия исходя из внутренних потребностей и активно строим социум, в котором живем. Однако изучение комплементарной стороны нашей социальной природы я предоставил другим исследователям.
Социум сталкивается с нами не как набор отдельных переменных, а как живой, непрерывный поток событий, чьи составные части можно выделить лишь при анализе и чье воздействие можно убедительнее всего показать посредством логики экспериментов. Более того, социальная психология как раз и претендует на способность реконструировать разнообразные типы социального опыта в формате эксперимента, чтобы прояснить и выявить действие неочевидных общественных сил – и тогда их можно исследовать в терминах причинно-следственных связей.
Источник экспериментов, описанных в этой работе, – не учебники, не абстрактная теория, а фактура повседневной жизни. Они опираются на строго феноменологический подход. Каждый эксперимент – это ситуация с открытым финалом, не до конца понятная, неопределенная, чреватая неудачей. Иногда эксперимент лишь подтверждает очевидное, а иногда приводит к неожиданным открытиям. Неопределенность результата и есть самое интересное.
Эксперименты могут быть объективными, но редко бывают полностью нейтральными. Все эксперименты так или иначе проводятся с определенной точки зрения. Так, например, при изучении конформности и подчинения моральное превосходство всегда на стороне того, кто сопротивляется группе или власти. Похоже, в такой ситуации предпочтительнее одиночки. Однако сам экспериментатор, разумеется, задает условия так, что морально приемлемым вариантом может быть только сопротивление. Всеохватное влияние подобных имплицитных оценок само по себе не подрывает значимости экспериментов, однако придает им определенную окраску, которую невозможно определить строго научными методами.
Я не имею в виду, что эксперименты по социальной психологии сводятся к эмоциональному катарсису, главное в котором – чувства и потребности исследователя. Напротив! Даже если стимулом к исследованию были личные интересы, задачи или предвзятые представления, оно не может долго задерживаться на этом уровне. Эмоциональные факторы строго подчиняются экспериментальному методу и идеалам научной объективности.
Самые интересные эксперименты по социальной психологии рождаются на грани наивности и скептицизма. Экспериментатор должен быть достаточно наивным, чтобы усомниться в том, в чем уверены все остальные. Однако ему следует проявлять скептицизм на всех этапах – и при интерпретации данных, и при искушении поспешно подогнать то или иное открытие под общепринятые представления.
Хотя в большинстве статей из этого сборника изложены идеи экспериментов, цель некоторых работ состоит в том, чтобы обосновать эти идеи или отстоять их под напором критики. Иногда же они экстраполируют выводы экспериментов на более масштабные вопросы. Скажем, в раздел о личности и власти я включил статью в защиту этики эксперимента по изучению подчинения. В другой статье отстаиваются его методологические предпосылки. Конечно, без таких статей работа социального психолога немыслима, однако мне всегда было жаль отвлекаться ради них от более приятного занятия – изобретения экспериментов.
Приведу интервью, которое взяла у меня Кэрол Таврис для журнала «Psychology Today».[9] В нем подробно разъясняются некоторые замечания из этого введения и затрагивается широкий спектр моих методологических и предметных представлений.
КЭРОЛ ТАВРИС: В основном ваши работы посвящены опыту городской жизни, и в них выявляются некоторые неосязаемые особенности, отличающие Осло от Парижа, Топику от Денвера и Нью-Йорк – от всех остальных городов. Как вам удается определять подобные особенности?
СТЭНЛИ МИЛГРЭМ: Во-первых, надо смотреть во все глаза, делать обобщения на основании большого числа конкретных случаев, понимать, складываются ли эти конкретные случаи в определенную закономерность, затем попытаться найти глубинные соответствия между мириадами поверхностных явлений в том или ином городе. Обобщаешь на собственном опыте и формулируешь гипотезу.
Затем надо подойти к делу систематически. Спрашиваешь разных людей, какие конкретные инциденты, с их точки зрения, характерны для жизни в том или ином городе, и смотришь, не проявляются ли какие-то закономерности или измерения. Если попросить американцев перечислить конкретные инциденты, которые, по их мнению, типичны, например, для Лондона, они зачастую сосредотачиваются на характерной для лондонцев вежливости. Если речь идет о Нью-Йорке, упоминают, как правило, бурный темп жизни и разнообразие. Отличие психолога от романиста или автора путевых заметок именно в том, что он пытается измерить, действительно ли эти черты – темп, приветливость, разнообразие – соотносятся с реальностью и отличают атмосферу одного города от другого. Так что вклад социальной психологии в многовековую традицию путевых заметок состоит как раз в измерении различий.
ТАВРИС: Какие особенности городской жизни интересуют вас в последнее время?
МИЛГРЭМ: Я уже много лет езжу на работу на электричке. И заметил, что на моей станции есть люди, которых я вижу много лет, но никогда с ними не разговаривал, люди, которых я стал про себя называть знакомыми незнакомцами. Мне почудилась в этом специфическая проблема: люди относятся друг к другу как к деталям окружающей среды, а не как к личностям, с которыми можно взаимодействовать. Такое происходит сплошь и рядом. Но все равно при этом ощущаешь горечь и неловкость, особенно если на станции вы только вдвоем – вы и человек, которого вы видите каждый день, но так и не познакомились с ним. Возникает барьер, который непросто преодолеть.
ТАВРИС: Как вы изучаете феномен знакомого незнакомца?
МИЛГРЭМ: Студенты из моего исследовательского семинара фотографировали на одной станции пассажиров, ожидающих поезда. Они делали копии фотоснимков, нумеровали лица, а через неделю раздавали групповые фотографии всем пассажирам на станции. Мы просили постоянных пассажиров отметить тех, кого они знают и с кем разговаривали, тех, кого они не узнают, и тех, кого они узнают, но с кем никогда не разговаривали. Пассажиры заполняли вопросники по дороге в поезде и возвращали их на Центральном вокзале.
Так вот, оказалось, что в среднем постоянные пассажиры знают 4–5 знакомых незнакомцев, и у них зачастую масса фантазий по поводу этих людей. Более того, среди знакомых незнакомцев оказались социометрические звезды. 80% пассажиров узнали одну женщину, хотя никогда с ней не разговаривали. Она была визуальным центром толпы на станции – вероятно, потому, что всегда носила мини-юбку, даже в холода.
ТАВРИС: Чем отношение к знакомым незнакомцам отличается от полных незнакомцев?
МИЛГРЭМ: Феномен знакомого незнакомца состоит не в отсутствии взаимоотношений, а в особого рода замороженных отношениях. Например, если нужно задать какой-то простой вопрос или узнать, который час, скорее обратишься к полному незнакомцу, а не к человеку, которого видел много лет, но ни разу с ним не заговаривал. Вы оба сознаете, что между вами существует история не-коммуникации, и оба считаете, что это нормально.
Однако отношения со знакомыми незнакомцами обладают скрытым качеством, которое в определенных случаях становится явным. Я слышал историю, как одна женщина потеряла сознание у входа в свой подъезд. Ее соседка, которая видела ее 17 лет, но никогда с ней не разговаривала, тут же принялась действовать. Она ощутила себя ответственной, вызвала врача и даже поехала с ней в больницу. Вероятность заговорить со знакомым незнакомцем возрастает и в случае, если встречаешься с ним в необычном месте, не там, где всегда. Если бы я гулял по Парижу и наткнулся на кого-то из попутчиков со станции «Ривердейл», мы бы, несомненно, поздоровались – в первый раз. А поскольку знакомые незнакомцы часто начинают разговаривать друг с другом в чрезвычайной ситуации, это заставляет задать интересный вопрос: есть ли способ пробудить солидарность, не рассчитывая на чрезвычайные ситуации?
ТАВРИС: Чтобы изучить знакомых незнакомцев, ваши ученики непосредственно обращались к пассажирам. Характерно ли это для вашего стиля эксперимента?
МИЛГРЭМ: Методы сбора информации всегда следует согласовывать с решаемой задачей, и не все жизненные явления можно воссоздать в лаборатории. Часто приходится сталкиваться с задачей лицом к лицу, а чтобы задать человеку вопрос, лицензия не нужна. Мой стиль эксперимента нацелен на выявление социального давления, влияния которого мы не замечаем.
К тому же эксперимент осязаем – своими глазами видишь, как люди себя ведут, а это наталкивает на открытия. Вопрос в том, чтобы сводить вопросы на уровень, где они становятся очевидными, делать процессы видимыми. Социальная жизнь очень сложна. Все мы – хрупкие создания, запутавшиеся в паутине общественных ограничений. Эксперименты часто служат прожектором, который освещает мрачные аспекты бытия. А я уверен, что ящик Пандоры скрыт прямо под поверхностью повседневной жизни, так что нередко стоит лишь усомниться в том, что кажется тебе самым очевидным. И найдешь такое, что сам удивишься.
ТАВРИС: Например?
МИЛГРЭМ: Недавно мы изучали обстановку в метро – характернейший аспект нью-йоркской жизни. Если задуматься, что в час пик совершенно незнакомые друг другу люди прижаты друг к другу в шумном душном вагоне, и их со всех сторон толкают локтями, просто поразительно, что в метро так мало агрессии. Эта ситуация на диво регламентированная, и мы попытались разобраться, какие нормы позволяют держать ее под контролем. Для начала лучше всего было подойти к проблеме упрощенно, без лишних хитростей, поскольку хитрости слишком многого требуют от структуры, которую хочешь осветить.
ТАВРИС: Что же вы сделали?
МИЛГРЭМ: Я предложил студентам просто подойти к кому-то в вагоне и попросить уступить место. Сначала группа отреагировала точно так же, как и вы, – расхохоталась. Многие студенты подумали, что жители Нью-Йорка ни за что не уступят место незнакомому человеку только потому, что их об этом попросили. Затем мои студенты сделали еще кое-что, выдавшее их предвзятое отношение. Они сказали, что в таком случае нужно обосновать просьбу, сослаться на нездоровье, тошноту, головокружение, – они предполагали, что самой по себе просьбы будет недостаточно, чтобы заполучить место. Третья подсказка: я спросил у группы аспирантов, кто вызовется добровольцем, но они en masse сжались и попрятались. Очень красноречиво. Ведь им нужно было всего-навсего обратиться с тривиальной просьбой. Почему эта перспектива так их пугала? Иначе говоря, сама формулировка исследовательского вопроса генерировала эмоциональные подсказки для ответа на него. Наконец один храбрец по имени Айра Гудман взял на себя эту геройскую задачу и отправился на подвиги в сопровождении соученика-наблюдателя. Гудман должен был обращаться с этой просьбой очень вежливо, но не приводить никакого обоснования и охватить 20 пассажиров.
ТАВРИС: И что потом?
МИЛГРЭМ: Не прошло и недели, как по рядам аспирантов поползли слухи: «Встают! Встают!» Эта новость вызвала изумление, восторг и восхищение. Студенты ходили к Гудману на поклон, словно он обнаружил какой-то величайший секрет выживания в нью-йоркской подземке, а на следующем семинаре он объявил, что половина тех, к кому он обратился с просьбой, встали и уступили ему место. Ему не пришлось даже приводить причину.
Однако в рассказе Гудмана мне бросилось в глаза одно несоответствие. Он обратился лишь к 14 пассажирам, а не к 20, как мы рассчитывали. Поскольку обычно Гудман очень добросовестно относился к заданиям, я спросил, почему так вышло. Он ответил: «Не мог – и все. Это было одно из самых трудных заданий в моей жизни». Была ли это какая-то личностная черта самого Гудмана или его слова открыли нам глаза на фундаментальное свойство общественного поведения в целом? Выяснить это можно было лишь одним способом. Каждый из нас должен был повторить эксперимент – не исключая ни меня самого, ни моего коллеги профессора Ирвина Курца.
Откровенно говоря, несмотря на опыт Гудмана, я считал, что задача очень проста. Я подошел к сидевшему пассажиру и приготовился произнести волшебные слова. Однако они словно застряли у меня в горле и не желали выходить. Я стоял, словно окаменелый, – а потом отошел, так и не выполнив задания. Студент-наблюдатель уговаривал меня попытаться еще раз, но я был сокрушен и парализован своей неспособностью ничего сказать. Я убеждал себя: «Не будь таким трусишкой! Ты же сам дал студентам это задание! Как ты будешь смотреть им в глаза, если не сумел выполнить собственное требование?» Наконец после нескольких безуспешных попыток я подошел к какому-то пассажиру и выдавил: «Простите, сэр, вы не уступите мне место?» Меня охватила неизъяснимая паника – но тут незнакомец встал и уступил мне место. Тут меня ждал второй удар. Сев, я ощутил непреодолимое желание вести себя так, чтобы оправдать свою просьбу. Голова у меня сама собой склонилась между коленей, я чувствовал, как лицо у меня побелело. Я не играл. У меня и правда было такое чувство, будто я сейчас умру. И третье открытие: стоило мне выйти на следующей станции, как все напряжение как рукой сняло.
ТАВРИС: Какие глубинные общественные принципы выявляет подобный эксперимент?
МИЛГРЭМ: Во-первых, это указывает на мощные механизмы подавления, которые мешают нам нарушать общественные нормы. Попросить человека уступить место – это тривиально, однако высказать эту просьбу необычайно трудно. Во-вторых, это подчеркивает сильнейшее стремление обосновать просьбу, для чего нужно, чтобы у тебя был больной или усталый вид. Должен подчеркнуть, что это не простое притворство, а полное погружение в свою роль в социальных взаимоотношениях. Наконец, поскольку все эти сильные чувства синтезируются в определенной ситуации и ею ограничиваются, это показывает, как влияют на поведение и чувства непосредственные обстоятельства. Стоило мне выйти из поезда, как я почувствовал себя гораздо лучше и вернулся в нормальное состояние.
ТАВРИС: Судя по вашим словам, реакция у вас была типичной для испытуемых в эксперименте по изучению подчинения. Многие из них чувствовали себя обязанными исполнять приказы экспериментатора и ударять током невинную жертву, хотя ощущали при этом сильнейшую тревогу.
МИЛГРЭМ: Да. Случай в метро позволил мне лучше понять, почему некоторые испытуемые подчинялись приказам. Я на собственном опыте понял, как им было тревожно, когда у них возникала мысль отказать экспериментатору. Эта тревожность создает прочный барьер, который нужно преодолеть и при важных поступках – отказе подчиниться властям, – и при тривиальных – просьбе уступить место в метро.
Вы знаете, что есть люди, предпочитающие погибнуть в горящем здании, лишь бы не выбежать на улицу без штанов? Неловкость, стыд и страх нарушить тривиальные на первый взгляд нормы зачастую ставят нас в безвыходное положение и обрекают на непереносимые мучения. И это не мелкие регулирующие силы в общественной жизни, а самые ее основы.
ТАВРИС: Можете ли вы порекомендовать похожий эксперимент для тех из нас, кто живет в городах без метро?
МИЛГРЭМ: Если вы считаете, что нарушить общественные ограничения легко, сядьте в автобус и запойте. Как полагается, во все горло, никакого мурлыканья себе под нос. Многие скажут, что нет ничего проще, однако способен на это лишь один из сотни. Главное – не думать, как запоешь, а сделать это. Только в действии полностью понимаешь, какие силы определяют социальное поведение. Потому я и экспериментатор.
ТАВРИС: Однако мне представляется, что многие эксперименты при всей их занимательности не идут дальше того, что подсказывают чувство и чуткость. Вашу работу по исследованию подчинения зачастую критикуют словами «Это мы и так знали». Ведь сотни лет истории человечества пестрят случаями, когда люди исполняли приказы. Что пользы проводить эксперимент, подтверждающий исторические данные?
МИЛГРЭМ: Цель исследования подчинения – не подтвердить или опровергнуть исторические данные, а изучить психологическую функцию подчинения, какие для него нужны условия, какие механизмы защиты оно задействует, какие эмоциональные силы заставляют человека подчиняться приказам. Критическое замечание, которое вы приводите, – это все равно что сказать, мол, всем известно, что от рака умирают, так зачем его изучать?
Далее, людям трудно отличить то, что они знают, от того, что они только думают, будто знают. Самый яркий показатель нашего невежества по поводу подчинения – то, что, когда психиатров, психологов и так далее просили предсказать поведение испытуемых в ходе моего эксперимента, они катастрофически ошибались. Например, психиатры говорили, что лишь один из тысячи способен нанести даже самый слабый удар, так что ошиблись они в 500 раз.
Более того, мы должны задаться вопросом, действительно ли люди усваивают исторические уроки. А может быть, всегда есть «тот, другой», ни стыда, ни совести, который подчиняется властям, даже если при этом приходится нарушить элементарные моральные нормы? Думаю, многим трудно признать, что сами они потенциально способны на безграничное подчинение власти. Чтобы общество осознало эту проблему, нам следует задействовать все доступные педагогические средства – в форме как истории и литературы, так и экспериментов.
Наконец, если одна группа критикует эксперименты только за то, что они просто подтверждают исторические данные, не менее красноречивая группа яростно отрицает, что американские граждане способны подчиняться приказам в такой степени, какую показывает мой эксперимент, а следовательно, отмахивается и от меня самого, и от эксперимента. Советую прочитать мою книгу и сделать самостоятельные выводы.
ТАВРИС: Ваши исследования – и подчинения, и городской жизни – касаются сети социальных ограничений. Какие факторы кажутся вам самыми важными, скажем, в составе атмосферы большого города?
МИЛГРЭМ: Очевидно, степень моральной и социальной вовлеченности во взаимоотношения и те ограничения, которые накладывают на это объективные обстоятельства городской жизни. Людей и событий, с которыми нужно как-то взаимодействовать, настолько много, что часто приходится отказываться от потенциальных вложений в отношения, иначе не справиться с жизнью. Если живешь у проселочной дороги, можешь здороваться с каждым прохожим, но на Пятой авеню это, конечно, невозможно.
Например, в качестве меры социальной вовлеченности мы сейчас исследуем реакцию на потерявшегося ребенка в мегаполисе и маленьком городке. Девятилетний мальчик просит помочь позвонить домой. Аспиранты зарегистрировали огромную разницу между жителями мегаполисов и маленьких городков: в городе многие отказывались помогать девятилетнему ребенку. Постановка задачи мне понравилась, поскольку нет более значимой меры качества культуры, чем то, как там обращаются с детьми.
ТАВРИС: Неужели в больших городах вырабатывается безразличие друг к другу? И с этим ничего нельзя поделать? На улицах китайских городов не встретишь пьяниц и попрошаек, но если бы такое случилось, все почувствовали бы себя обязанными помочь. Моральные нормы требуют помогать окружающим, так что никому не пришлось бы играть роль одинокого доброго самаритянина.
МИЛГРЭМ: Я бы не стал сравнивать город вроде Пекина, где вся атмосфера пронизана политическими доктринами и императивами, с западными городами. Но и с этой поправкой большие города не всегда одинаковы. Однако в целом намечается движение в сторону адаптации, одинаковой во всех городах. Сегодняшний Париж больше похож на Нью-Йорк, чем 20 лет назад, а через 50 лет они будут еще сильнее похожи, поскольку потребности в адаптации перевешивают местный колорит. Какие-то культурные различия останутся, но и они поблекнут, и лично меня это очень огорчает.
ТАВРИС: Вы только что провели год в Париже за изучением ментальных карт города. Что это такое?
МИЛГРЭМ: Ментальная карта – это картина города, запечатленная в сознании человека: улицы, соседи, площади, которые играют важную роль в его жизни, как они взаимосвязаны, какой эмоциональный заряд несет каждый элемент. Идею я почерпнул в книге «Образ города» Кевина Линча (Kevin Lynch. «The Image of the City»). Внешний город закодирован в мозге, и можно говорить о городе, существующем в сознании человека. Даже если внешний город будет разрушен, его можно воссоздать, опираясь на ментальную модель.
ТАВРИС: А что вы узнали о Париже?
МИЛГРЭМ: Во-первых, связь между реальностью и ментальными картами несовершенна. Например, Сена течет через Париж по большой дуге, практически описывает полукруг, однако парижане представляют себе гораздо более плавную кривую, а некоторые считают, что река течет через город по прямой. А закономерности в распределении знакомых и незнакомых районов просто поразительны – на востоке Парижа есть огромные области, которых не знает вообще никто, кроме жителей этих кварталов. Старики обычно хранят в сознании карту Парижа прежних лет, им трудно включать в нее новые элементы, даже самые масштабные.
ТАВРИС: А разве ментальные карты у разных людей не разные? Наверное, они зависят от жизненного опыта и экономического положения?
МИЛГРЭМ: Существует и универсальная ментальная карта Парижа, общая для всех парижан, и специализированные карты, основанные на личной биографии и классовой принадлежности отдельного человека. Мы опросили более 200 парижан – и рабочих, и квалифицированных профессионалов, – и классовые различия бросаются в глаза. Например, 63% квалифицированных профессионалов узнали снимок площади Фюрстенберга, ничем не примечательного уголка, который профессионалы считают буржуазно-сентиментальным; из рабочих ее узнали лишь 15%. И 84% профессионалов опознали комплекс ЮНЕСКО на площади Фонтенуа, в отличие от всего лишь 24% рабочих. Так что у ментальной карты есть мощная классовая подоплека. С другой стороны, площадь Сен-Мартен опознало одинаковое количество рабочих и профессионалов. А Нотр-Дам до сих пор, как и тысячу лет назад, олицетворяет для всех психологическое сердце города. Так что у ментальных карт есть и универсальные, и уникальные черты.
ТАВРИС: А для чего они нужны, эти ментальные карты?
МИЛГРЭМ: Многие важные решения люди принимают на основании именно своей концепции города, а не его реалий. Это давно доказано. Так что планировщикам важно знать, как укладывается город в головах горожан. А как познавательно было бы составить такие ментальные карты для Афин времен Перикла, для Лондона эпохи Диккенса! К сожалению, тогда не было социальных психологов и некому было составить подобные карты на основании систематического подхода, однако сейчас мы понимаем, насколько это нужно, и исполняем свой долг.
ТАВРИС: Мне бы хотелось обратиться еще к одному вашему исследованию реального мира – к насилию на телеэкране. Вы провели восемь тщательно организованных исследований и не выявили никаких различий между теми, кто смотрел телепередачу, где рассказывалось об антиобщественном поступке, и контрольной группой. Может быть, воздействие телевидения на поведение переоценивают?
МИЛГРЭМ: Переоценивают или нет, не знаю, но мы с коллегами не сумели установить причинно-следственную связь. С моей точки зрения, идеальным экспериментом было бы поделить страну пополам, исключить всякое насилие на телеэкране к западу от Миссисипи, а к востоку от Миссисипи его ввести, принять закон, чтобы никто не мог переезжать из одной части страны в другую, и посмотреть, что будет лет через пять-десять. Но мне сказали, что это технически неосуществимо, так что пришлось работать с тем, что есть.
Подход был таков: взять какой-то антиобщественный поступок, вписать его в реальную телевизионную программу (сериал «Медицинский центр»), потом одним показать серию с этим поступком, другим – без, а затем создать условия, в которых любой может повторить его. Я думал, мы сможем зарегистрировать подражание, но мы не смогли. В эксперименте контролировать можно что угодно, кроме результата.
ТАВРИС: Почему же вы не выявили связи?
МИЛГРЭМ: Вероятно, сам антиобщественный поступок – кража денег из кружек для пожертвований – был недостаточно эффектен. Вероятно, общественность так пресыщена насилием в СМИ, что один эпизод ни на что не влияет. Вероятно, такой связи нет. Этот эксперимент, как и большинство, – всего лишь крошечный кусочек сложной мозаики. Никакое исследование не даст полной картины. Мы не установили, что изображение насилия ведет к насилию, однако отказываться от этой гипотезы тоже не можем.
ТАВРИС: Планируете ли вы и дальше исследовать влияние телевидения?
МИЛГРЭМ: Не знаю. Честно говоря, мне думается, что на самом деле на человеческое восприятие пагубно влияет не содержание, а форма телепередач, – я имею в виду прерывание программ каждые 12 минут материалом, не имеющим отношения к теме, то есть рекламой. Хорошо бы выяснить, как ухудшается усвоение и понимание, когда дети смотрят телепередачу с такими помехами. По-моему, это важная проблема.
ТАВРИС: Если можно, вернемся ненадолго в прошлое. Почему вы заинтересовались психологией?
МИЛГРЭМ: В детстве я увлекался естественными науками. Был редактором школьного научного журнала, а первая моя статья в 1949 году была о воздействии радиации на частотность лейкемии среди выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Эксперименты я проводил всю жизнь, это для меня естественно, как дышать, и я хотел разобраться, как что устроено. В колледже я отвлекался от науки ради курсов по политологии, музыке и изобразительному искусству. Однако в конце концов мне пришло в голову, что, хотя мне и интересно изучать вопросы, которые поднимали Платон, Томас Гоббс и Джон Локк, их метод получать ответы меня не устраивает. Меня занимали гуманитарные вопросы, на которые можно было ответить объективно. В 50-е годы фонд Форда запустил программу по привлечению исследователей в область поведенческих наук. Мне показалось, что это отличный вариант, и я стал заниматься социальной психологией на факультете общественных отношений в Гарварде. Тогда там управляли люди необычайно мудрые, и они создали климат, в котором всячески поощрялись и поддерживались новые идеи и стремление к совершенству.
ТАВРИС: Кто оказал на вас самое сильное влияние в Гарварде?
МИЛГРЭМ: Долгое время моим другом и наставником был Гордон Олпорт. Он был человек скромный, легко красневший, и от него исходило ощущение вселенской любви. Поскольку теория личности меня не интересовала, он не повлиял на сферу моих занятий с интеллектуальной точки зрения, зато помог мне вполне оценить мой собственный потенциал. Олпорт поддерживал меня духовно и эмоционально. Он был невероятно чуткий.
ТАВРИС: Если Гордон Олпорт был вашим духовным наставником, кто оказал на вас основное интеллектуальное влияние в студенческие годы?
МИЛГРЭМ: Соломон Аш – человек яркий и творческий, с большими философскими глубинами. Несомненно, он самый влиятельный социальный психолог, какого я только знаю. Когда он работал в Гарварде, я был его ассистентом, а позднее работал с ним в Институте передовых исследований в Принстоне. Он всегда был очень независимым. Вспоминаю день, когда США успешно запустили космический зонд после нескольких неудач. Было видно, как рады этому сотрудники Института, и я в том числе, как всех интересуют перспективы космических исследований. Однако Аш был удивительно спокоен, говорил, что у нас и на Земле хватает нерешенных проблем, и сомневался, так ли уж разумно отвлекаться на космос. Несомненно, это была поистине пророческая точка зрения, но тогда этого никто не понял.
ТАВРИС: А как же Генри Мюррей?
МИЛГРЭМ: Большой оригинал, чуждый ненужным академическим правилам и установлениям. Однако ярче всего мне помнится история с песней. Когда мне было едва за двадцать, я увлекался сочинением песен. И написал для Мюррея песню, которая, как он утверждает, помогла ему найти здание для психологического центра. Тогда снесли старую психологическую клинику, памятник истории, на Плимптон-стрит, и все, кто знал ее, конечно, очень огорчились. Мюррей попросил меня сочинить песню об этом, чтобы исполнить ее на званом обеде с ректором Гарварда Нейтаном М. Пьюси. Сначала я отказался, поскольку был по уши в работе. Однако песня более или менее материализовалась сама. Я отдал ее Мюррею и поехал в Европу собирать материал для диплома. И только через два года узнал, чем обернулась эта история.
ТАВРИС: И чем же?..
МИЛГРЭМ: Я разыскал Мюррея, чтобы отдать ему статью, которую давно должен был написать. Я был готов каяться, однако первое, что он мне сказал, было: «Стэнли Милгрэм! Жалко, что вы не видели, как все было! Представляете, благодаря вашей песне нам выделили здание!» Моя песня была для него важнее опоздания со статьей. Таких весельчаков, как Генри Мюррей, в Гарварде было полно, кое-кто и сейчас там работает. Роджер Мюррей 20 лет назад был подающим надежды ассистентом – а сейчас он выдающийся ученый; Джером Брунер был настоящим мотором, движущей силой Гарварда, – сейчас он, правда, остепенился и обосновался в Оксфорде.
ТАВРИС: Как вы считаете, какие качества необходимы хорошему социальному психологу?
МИЛГРЭМ: Сложный вопрос. С одной стороны, ему нужно быть отстраненным и объективным. С другой – он никогда ничего не откроет, если не чувствует эмоциональный пульс общественной жизни. Понимаете, общественная жизнь – это хитросплетение эмоциональных привязанностей, которые ограничивают, направляют и поддерживают человека. Чтобы понять, почему люди ведут себя именно так, а не иначе, надо понимать, какие чувства возникают в повседневных социальных взаимодействиях.
ТАВРИС: А кроме того?
МИЛГРЭМ: Восприятие этих чувств позволяет сделать кое-какие выводы. Это могут быть и формулировки принципов социального поведения. Но чаще открытия делаются в символической форме, и этот символ – эксперимент. Я хочу сказать, что то, как, например, драматург понимает человеческую ситуацию, принимает в его сознании форму пьесы, и точно так же творческая интуиция исследователя транслируется непосредственно в экспериментальный формат, который позволит ему одновременно и выразить свои интуитивные представления, и критически изучить их.
ТАВРИС: Были ли у вас в прошлом какие-то идеи, которые вам не удалось осуществить, а теперь вы об этом жалеете?
МИЛГРЭМ: Честно говоря, только одна. Она пришла мне в голову летом 1960 года, когда мы с приятелями решили разыграть сценки, как в уличном театре. Мы останавливались у ресторанов на Массачусетском шоссе и изображали обычные житейские ситуации – например, разгневанная жена застала мужа с другой женщиной и кричит на него на какой-то неописуемой тарабарщине. Меня потрясло, что, несмотря на крайнюю эмоциональную насыщенность сцены, прохожие явно избегали вмешиваться, даже когда муж тряс и бил «жену» в ответ.
Когда я вернулся в свой гарвардский кабинет, то обдумал реакцию посетителей ресторанов и разработал серию экспериментов, в которых испытуемые сталкивались бы с людьми, которым нужна помощь. Испытуемые сидели бы в комнате ожидания и слышали бы за закрытой дверью спор между мужчиной и женщиной; мужчина вел бы себя все более агрессивно, постепенно распаляясь, и наконец женщина должна была позвать на помощь. Я собирался изучить, в какой момент люди стали бы вмешиваться и при каких условиях. Придумал даже встроить таймер в дверь, чтобы точно знать, сколько времени человек ждал, прежде чем прийти на помощь.
ТАВРИС: Синдром постороннего.
МИЛГРЭМ: Да, хотя тогда я назвал это «проблемой социального вмешательства». Через месяц после разработки экспериментов я начал преподавать в Йеле и готовить эксперименты по подчинению. У меня не было времени параллельно исследовать еще и социальное вмешательство, однако раз в год я торжественно объявлял студентам, что если они будут изучать синдром постороннего, то сделают существенный вклад в социальную психологию. Каждый год очень умные и перспективные студенты слушали меня с большим интересом – и каждый год отправлялись изучать изменение установок: тогда в Йеле это была модная тема.
ТАВРИС: Когда они осознали свои заблуждения?
МИЛГРЭМ: После убийства Китти Дженовезе, которое молча наблюдали 38 свидетелей. Этот случай привлек внимание всей страны, и специалисты в области социальных наук наконец-то подступились к экспериментальной формулировке проблемы. Мои студенты и аспиранты провели полевое исследование, в ходе которого актер, изображавший пьяного, приставал к женщине в прачечной-автомате, однако опубликовано оно не было. Женщина звала на помощь, вопрос состоял в том, сколько пройдет времени, прежде чем кто-то вмешается. Студентов это исследование очень увлекло. Однако тут нас настиг Zeitgeist. Вскоре началась целая волна подобных исследований. Лучшее из них – работа Бибба Латане и Джона М. Дарли, которые тогда работали в Колумбийском университете и Университете Нью-Йорка. Они выбрали нужные переменные, соотнесли их со случаем Дженовезе, проявили техническую сметку и рассказали о своей работе четким и понятным языком. И получили заслуженную премию Американской ассоциации содействия науке. Поле исследований синдрома постороннего процветает и по сей день.
ТАВРИС: Что вы тогда почувствовали?
МИЛГРЭМ: Утешали меня ровно два обстоятельства: во-первых, наконец-то начали исследовать вопрос, который я считал важнейшей социально-психологической проблемой, во-вторых, мой собственный экспериментальный анализ подобного рода ситуации послужил своего рода пророчеством, поскольку я провел его за три года до трагедии Китти Дженовезе, однако во многом предсказал ее.
Обычно считают, что социальные психологи придумывают свои эксперименты на основании реальной жизни, и в этом есть существенная доля правды. Однако правда и другое: события вроде случая Дженовезе – неизбежное проявление сил, на которые экспериментальный анализ зачастую указывает первым. В основе дурацкой сценки в ресторане лежал важнейший принцип общественного поведения, и если сосредоточиться на нем и обобщить его в ходе конкретного театрализованного эксперимента, можно предсказать некоторые неизбежные следствия такого принципа. Случай Дженовезе – всего лишь одно из множества выражений этого принципа, ставшее достоянием общественности. Поэтому, если провести анализ, а затем придумать ему некоторое драматическое воплощение, это позволит предвосхитить события на годы и десятилетия вперед.
ТАВРИС: У вас столько идей. Что с ними случается потом?
МИЛГРЭМ: Одни реализуются, другие витают в воздухе и вдохновляют других исследователей. Иногда их воплощают мои студенты. Иногда они просто блекнут и исчезают. Однако Лео Силард, несомненно, был прав, когда утверждал, что характер ученого определяют не те идеи, которые у тебя появляются, а те, которые ты воплощаешь. Любой ученый, наделенный воображением, уносит с собой в могилу массу отличных идей, так и не добравшихся до печати.
ТАВРИС: Как вам пришла в голову идея эксперимента по изучению подчинения?
МИЛГРЭМ: Я пытался придумать, как придать эксперименту Аша по изучению конформности больше личной значимости. Мне совсем не нравилось, что конформность изучалась на основании суждений о длине каких-то там отрезков. Я задался вопросом, сможет ли группа заставить человека совершить поступок, имеющий более очевидное отношение к собственно человечности – может быть, повести себя агрессивно по отношению к другому человеку, скажем, наносить ему все более сильные удары током. Однако для эксперимента по воздействию группы необходим еще и контроль: надо знать, как поведет себя испытуемый в отсутствие всякого давления группы. В этот миг меня и осенило – и я придумал, какой будет контроль в этом эксперименте. Как далеко зайдет человек, подчиняясь приказам экспериментатора? Это было настоящее озарение, слияние обобщенной идеи об эксперименте по подчинению с конкретной технической процедурой. Не прошло и нескольких минут, как на меня хлынул поток идей по поводу того, какие релевантные переменные надо задействовать, – только успевай записывать. Но потом, когда после завершения экспериментов по подчинению прошло уже много лет, я вдруг обнаружил, что начал размышлять о подчинении власти задолго до этого, еще на первом курсе аспирантуры.
ТАВРИС: Как это вышло?
МИЛГРЭМ: Во-первых, основные вопросы были символически выражены в одном рассказе, который я тогда сочинил. Коротко говоря, история была вот о чем. Некий служитель просит двух человек пойти за ним в старый грязный кабинет, и они соглашаются. Одному из них служитель сообщает, что на этот день назначена его казнь, и предлагает выбрать из двух способов. Тот говорит, что оба способа ему не подходят, и просит служителя убить его более гуманно. Так и происходит. А второй, тоже оказавшись в этой странной ситуации, просто встает и тихо выходит. И остается цел и невредим. Когда служитель замечает, что он ушел, то просто запирает кабинет, радуясь, что можно уйти с работы пораньше. Рассказ был довольно жуткий, однако помог мне разобраться в некоторых поразительных чертах общественного поведения. Кроме того, в нем заложены многие элементы будущего эксперимента по подчинению – особенно то, как герой принимает предложенные ему варианты. Он не подвергает сомнению легитимность всей ситуации в целом и думает только о том, какой выбор предлагает ему клерк, а не о том, нужно ли ему вообще здесь находиться. И забывает, что можно просто уйти, как сделал его друг. В точности так же наши испытуемые то тянут время, то слишком строго следуют инструкциям, то тревожатся из-за мелочей в попытке найти формулу, которая положит конец внутреннему конфликту. Они не видят более широкие рамки ситуации и, следовательно, не понимают, как из нее вырваться. Чтобы освободиться, нам нужна именно способность видеть более крупный контекст.
ТАВРИС: Каково же в таком случае решение проблемы хорошего человека, «просто исполнявшего приказы»?
МИЛГРЭМ: Прежде всего – понять, что простых решений нет. Чтобы получить цивилизацию, необходима какая-то степень власти. А когда власть установлена, неважно, как называется система – диктатура или демократия: обычный человек реагирует на политику правительства с предсказуемой покорностью что в фашистской Германии, что в демократической Америке.
ТАВРИС: То есть вы не думаете, что разные правительства требуют разной степени подчинения – с вашей точки зрения, вопрос в том, какую степень неподчинения они готовы терпеть?
МИЛГРЭМ: В каждом обществе должна быть структура власти, но это не означает, что диапазон свободы одинаков во всех странах. И, разумеется, то, что Германия уничтожила в концлагерях миллионы невинных мужчин, женщин и детей – это самый злокачественный избыток подчинения, какой мы только видели. Однако требованиям американской демократии тоже случалось быть и жесткими, и негуманными – истребление индейцев, порабощение чернокожих, лагеря для японцев во время Второй мировой войны, Вьетнам. Всегда находятся те, кто подчиняется приказам, кто претворяет политику в жизнь. И если власть срывается с цепи, у отдельных людей, похоже, не хватает ресурсов ее удержать.
Однако это сложная проблема. Индивидуальные стандарты совести сами по себе тоже генерируются из матрицы отношений с властью. Мораль, как и слепое подчинение, насаждается властью. На каждого человека, совершающего аморальный поступок под влиянием власти, находится тот, кто воздерживается от этого.
ТАВРИС: Тогда как же нам защититься от злоупотреблений власти?
МИЛГРЭМ: Во-первых, нам надо осознавать проблему безоговорочного подчинения власти. И я всячески способствовал этой осознанности своей работой. Это первый шаг. Второй, поскольку мы знаем, что люди будут подчиняться даже самым злонамеренным властям, наш долг – выдвигать на позиции власти тех, кто скорее всего будет мудр и гуманен. Однако и у надежд тоже есть широкий диапазон. Люди изобретательны, и разнообразие политических форм, которые мы наблюдали последние пять тысяч лет, еще не исчерпало всех возможностей. Вероятно, наша задача – изобрести политическую структуру, которая даст совести больше шансов выстоять против заблуждений власти.