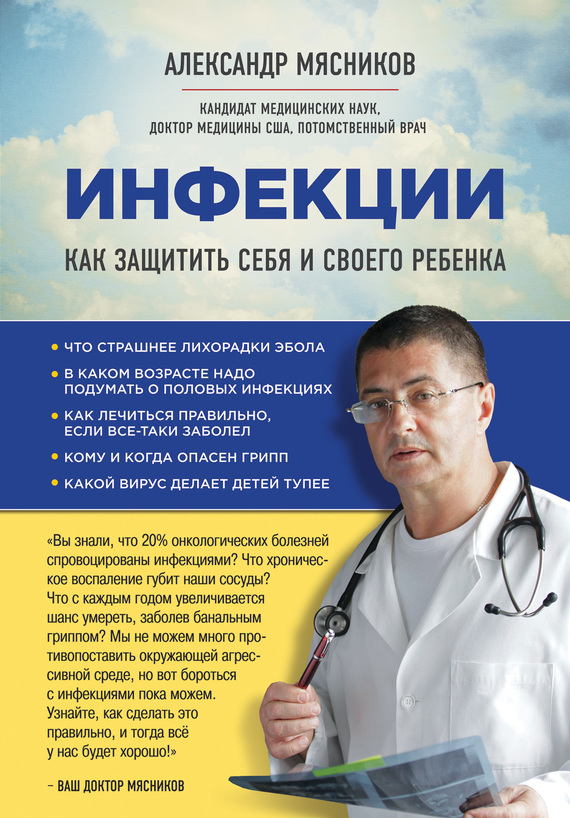Почему Гегель не гуманист-атеист?
Главное не упустить одну особенность – пропасть, которая по-прежнему отделяет Гегеля от гуманистического атеизма, согласно которому Бог есть продукт коллективного человеческого воображения. Иначе говоря, на первый взгляд может показаться, что Гегель толкует философское содержание христианства как постановляющее именно такую «смерть Бога»: разве смерть Бога на кресте и его последующее воскресение в духе религиозной общины не равносильны факту, что Бог уходит, прекращает существовать как трансцендентное Свыше, властвующее над жизнями людей (а слово «Бог» именно это и значит в обиходном религиозном применении), чтобы восстать к жизни под видом духа сообщества, т. е. как следствие-продукт общинной деятельности людей?
Почему Гегель не поддается такому прочтению? Не поддается он никак не из-за своей непоследовательности, уступкам традиционной теологии или даже политического конформизма; скорее, это результат того, что Гегель обдумал все последствия «смерти Бога», т. е. последствия сведе?ния всего объективного содержимого к чистому «я». Если мыслить так, «смерть Бога» более не кажется освобождающим опытом, отступлением этого самого Свыше, дарующим волю человеку, открывающим ему пространство земной деятельности как поле, на котором ему утверждать свою творческую субъективность; напротив, «смерть Бога» приводит к утрате само?й связной «земной» действительности. «Смерть Бога» вовсе не объявляет о торжестве автономных творческих возможностей человека, она больше похожа на то, что великие тексты мистицизма обычно именуют «ночью мира»: распад (символически составленной) действительности.
В понятиях Лакана, мы все имеем дело с устранением большого Другого, что гарантирует субъекту доступ к действительности: в опыте смерти Бога мы натыкаемся на факт, что «большой Другой не существует [l’Autre n’existe pas]» (Лакан)[93]. В Святом Духе большой Другой постановлен как символическая, десубстанциализированная выдумка, т. е. как сущность, которая не бытует как вещь в себе, а лишь в той мере, в какой в нее вдыхает жизнь «работа всех и каждого», иными словами – под видом духовной субстанции. Почему же, в таком случае, эта духовная субстанция не постигается как продукт коллективного субъекта? Почему место Святого Духа – неизбежно Другое применительно к субъекту? Ответ получаем, обратившись к понятию большого Другого у Лакана.
Что такое этот большой Другой? Вспомним сцену из второго акта Моцартовой «Cosi fan tutte»[94], где Дон Альфонсо и Деспина соединяют две пары – преодолевают их неуступчивость, буквально общаясь вместо них (Альфонсо обращается к дамам от имени двух «албанцев»: «Se voi non parlate, per voi parlero…», а Деспина организует согласие дам: «Per voi la risposta a loro daro…»[95]). Комическая, карикатурная суть этого диалога ни на миг не должна нас обмануть: все по-настоящему, «все решено» – в этой вынесенной вовне форме. Именно благодаря представителям возникают две новые влюбленные парочки, а все последующее (выраженное признание любви) – дело техники. Поэтому, как только пары берутся за руки, Деспина и Альфонсо могут быстро устраниться и позволить всему идти своим чередом – их посредническая задача выполнена…[96]
В совершенно иной сфере – в детективных романах – Рут Ренделл применяет чрезвычайную власть и заставляет некую материальную систему действовать как метафору большого Другого. В «Ковре царя Соломона» [97], к примеру, эта метафора – система лондонской подземки. Все ключевые герои романа увязли в замкнутой психотической вселенной, у них нет нормальной связи с себе подобными, и они толкуют случайные обстоятельства как осмысленные «ответы действительного», т. е. как подтверждения своих паранойяльных предчувствий. Из-за этого кажется, что их приключениями управляет незримая рука, словно они все – часть некого скрытого плана, воплощенного в переплетении подземных тоннелей и поездов, этого темного подземного Другого Места (метафора Бессознательного), которое копирует «дневной мир» суматошных лондонских улиц[98].
Здесь мы сталкиваемся с децентрированием Другого относительно субъекта, применительно к которому субъект – как только он возвращается из «ночи мира», из абсолютной негативности «я = я», в «дневной» мир логоса – застрял в сети, чьи воздействия априори ускользают от понимания. Вот поэтому самосознание жестко взаимосвязано с бессознательным во фрейдистском смысле слова, подобном кантианскому бесконечному суждению: утверждение, что та или иная мысль «бессознательна», – не то же самое, что утверждение, будто эта мысль «не сознательна». В последнем случае – когда я отрицаю определение «сознательный» – (логический) субъект просто располагается в области непсихического (а биологического и пр. – короче, в обширном пространстве всего, что происходит у нас в теле и не доступно сознанию). Однако, если я утверждаю «не»-определение и подчеркиваю, что та или иная мысль бессознательна, я таким образом открываю новую зловещую сферу, которая подрывает само различие между психически-сознательным и соматическим, пространство, в котором нет места онтологически-феноменологическому различению между психическим и соматическим, и чей статус поэтому, по словам Лакана в «Семинаре XI», «до-онтологический»[99].