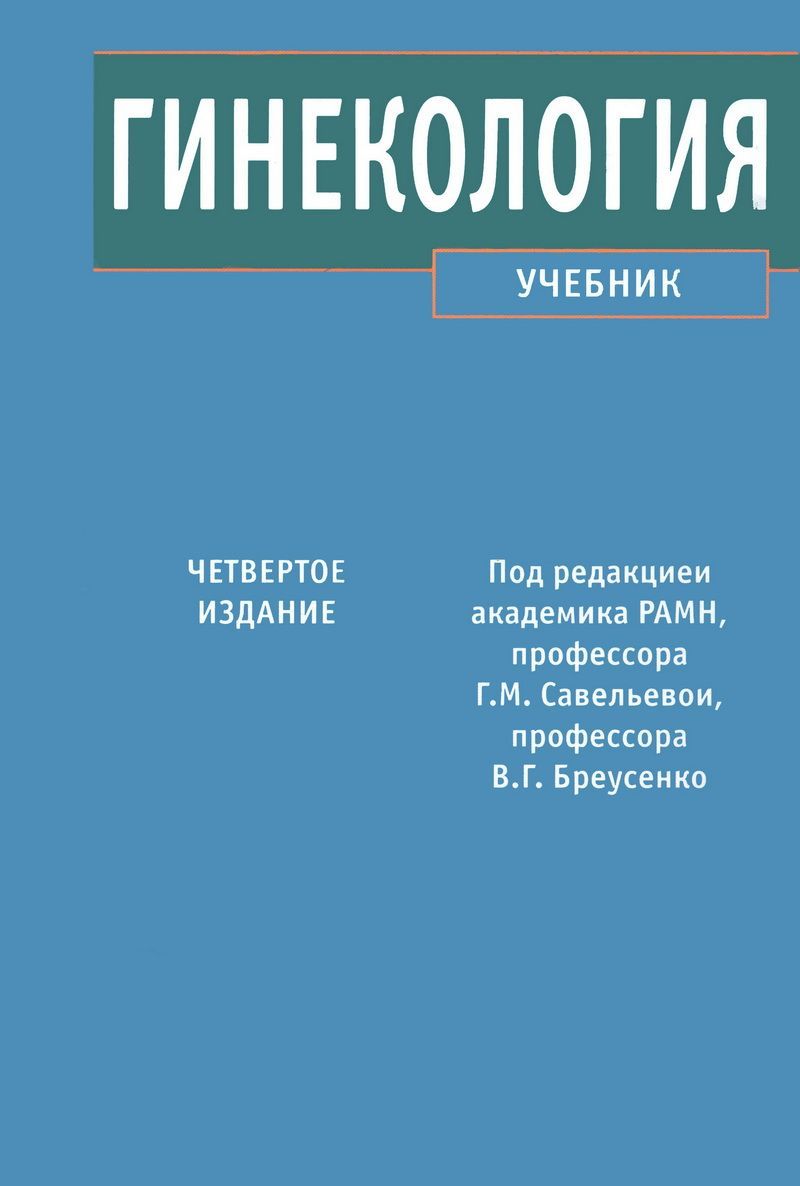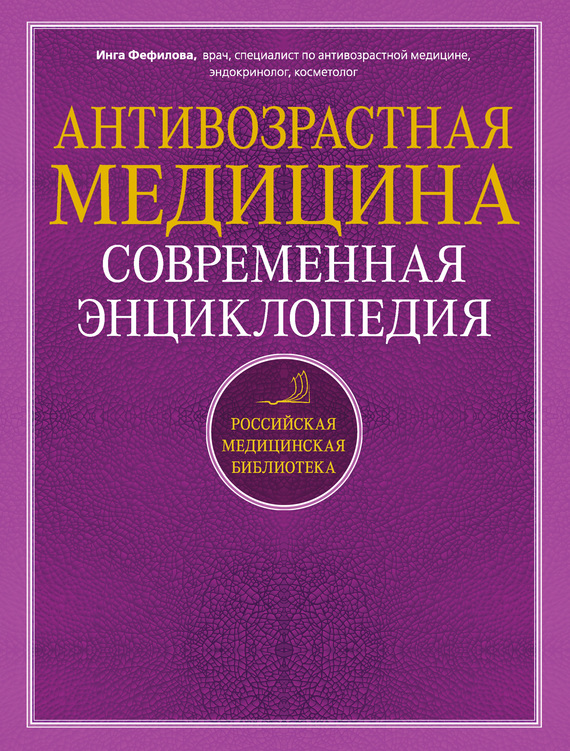Безопасность. А зачем?
В обществе, как мне кажется, все делается из подражания власть имущим. Зажиточные буржуа хотят жить – пусть в более скромном масштабе, но как князья. Рабочие хотят жить по образцу зажиточных буржуа. Это не классовая борьба, это идеализация образцов: идеализируется сильный. С одной стороны, то, что демонстрирует сильный, желанно для других, и он этому рад, а с другой – те, кто хочет ему подражать, возлагают на него чувство ответственности: он не пользуется преимуществами свой силы в одиночку, а частично распределяет их среди тех, кто его окружает. И я полагаю, что об этом еще никогда не говорилось применительно к классовой борьбе: как примириться с противоречием, которое состоит в том, что человек выступает против своего господина, но этот господин является для него образцом и, сам себе обеспечивая безопасность жизни, делится этой безопасностью с другими. Он словно владеет элеватором, а люди могут складывать туда свое зерно, но за это они платят ему налог своим временем и трудом. Вдобавок тем людям, которых сильный отличает, он дает возможность достичь этой безопасности. То же самое происходит и в школьном образовании: некоторых учеников выделяют и назначают им стипендии, чтобы обеспечить безопасность их обучения, а затем, после успешного прохождения конкурсного отбора, им предоставляют государственную должность, тоже надежную и безопасную, – ведь теперь им не надо рисковать, занимаясь свободной профессией или работая у частного предпринимателя, не имеющего отношения к государству.
Безопасность, надежность! Эти слова не сходят с языка у всех родителей, которые приводят к нам детей с нарушениями и не желающих учиться. Все родители – будь то служащие или те, кто хотели бы ими быть, – в ответ на мой вопрос: «А зачем им (их детям) учиться?» – говорят: «Чтобы иметь хорошую работу!»
– Такую же хорошую, как у вас?
– Ну, как вам сказать…
– А вы любите вашу работу?
– Не то что люблю, но она надежная!
Итак, мы желаем для наших детей чего-то надежного. Пусть так. Но ради чего эта надежность и безопасность?.. Если платой за безопасность оказываются отказ от воображения, от креативности, от свободы, то, полагаю, что, хоть безопасность и относится к первоочередным потребностям, ее не должно быть слишком много. Переизбыток безопасности подсекает тягу к риску, которая необходима человеку, чтобы чувствовать себя «живым», «значительным». А тот взрослый, который до такой степени помешан на безопасности, что начисто утратил воображение, – как знать, не был ли он когда-то малышом, которому с первых годов, с первых дней жизни мучительно недоставало этой самой безопасности?
Переизбыток безопасности подсекает тягу к риску, которая необходима человеку, чтобы чувствовать себя «живым», «значительным».
Все мы таковы: малыши, лишенные безопасности, если ее лишены наши родители. Психоанализ показывает, что этот страх распространяется на много поколений: такой-то, думающий только о безопасности, происходит от родителей, которые в детском возрасте сами не получили чувства безопасности от родителей, которые в свою очередь были его лишены. Я думаю, что нужно рассматривать общество на протяжении многих поколений, потому что любое человеческое существо чувствует себя беззащитным, если взрослый не передает ему чувства безопасности. Ребенок выживает только потому, что в самом начале жизни взрослый обеспечивал ему эту безопасность и, главное, разрешил ребенку добывать ее самому ценой опыта. Невозможно самостоятельно добиться безопасности, пока зависишь от других людей. В начале жизни такая зависимость неизбежна, но затем эта зависимость от тех, кто тебя вскормил, если она продолжается, препятствует развитию веры в себя. А ведь дело не только в материальной безопасности ребенка, но еще и в безопасности его родителей, унаследованной ими в свою очередь от их родителей, и я думаю, что она-то и передается ребенку и позволяет ему проявить свой потенциал. Приведу в качестве примера саму себя (что вообще свойственно психоаналитикам): почему мне захотелось заниматься медициной? Причиной тому война четырнадцатого года… Вокруг себя я видела множество женщин, сходивших с ума от чувства незащищенности, и множество детей, страдавших от душевных потрясений и социального крушения из-за того, что их отцы пропали без вести или погибли, а им самим со дня на день будет нечего есть и их матери не имеют никакой профессии. И я, тогда совсем еще маленькая, сказала себе: когда я вырасту, у меня во что бы то ни стало будет профессия. Коль скоро несешь ответственность за своих детей, надо уметь что-то делать, чтобы заработать себе на жизнь, если останешься без мужа… Позже появились органы социального обеспечения, медицинское страхование, пенсии для всех. А кроме того, появилась безработица. И вот теперь у всех есть страхование труда, то есть в случае безработицы всем полагаются пособия и все располагают относительной защищенностью, даже если ничего не делают. Сегодня даже в случае, если отец ушел из семьи, мать получает пособие на детей и т. д. И все эти законы появились потому, что другие люди прошли через то же, что и я; все люди, когда были так же малы, как я, не испытавшая на себе, но наблюдавшая такую незащищенность, узнали ее на собственном опыте. После катастрофических наводнений в окрестностях Лиможа в 1982 году страховые компании обязаны заключать договоры о страховании на случай климатических катаклизмов. До этого существовало страхование только от индивидуальных бедствий, но не от всеобщих социальных и природных катастроф. Теперь с этим покончено: страховые компании уже не имеют права уклоняться от такого страхования. Получается, что опыт предыдущего поколения служит следующему, чтобы победить незащищенность, которая слишком дорого обошлась старшим. Чувство незащищенности у малыша возникает не столько оттого, что мать боится, что не сумеет его вырастить, сколько оттого, что она опасается, что в сознательном возрасте, от девяти до двадцати лет, он не сможет реализовать свой потенциал по причине социальной катастрофы или раннего исчезновения отца в обществе, не страхующем его от этой опасности.
Старики заставляют молодых испытывать чувство тревоги, если те должны, как это было когда-то, брать на себя ответственность за них. Такое общество, как наше, сумело с этим справиться. Но беда, если оно зайдет в этом слишком далеко: оно превратит в нахлебников всех своих членов. А это опасно: если человек не рискует, он утрачивает либидо. Между тем, когда молодые люди отправляются путешествовать в одиночку, они часто сталкиваются с непониманием окружающих, которые вопрошают: «К чему вести себя так вызывающе?»
Эта жажда приключений часто живет по ту сторону реальности. Желательно, чтобы она вступала в единоборство с повседневными опасностями, которым подвергаются определенные группы людей, поставленные в неблагоприятные условия. Показателен опыт одной молодой австрийки, которая поселилась среди индейцев ваяпи в Гвиане. Первые месяцы они терпели ее присутствие, но ею самой, казалось, не интересовались. На самом деле ее изучали. Им требовалось время, чтобы ее проверить. Так, она захотела половить рыбу в местной речушке, насадила на крючок червяка и вернулась с пустыми руками. Ваяпи не сказали ей, что рыба в этой речушке травоядная и, чтобы ее поймать, надо насаживать на крючок дикие ягоды. Что же делать, как привлечь их внимание? Показать свою храбрость. Прекрасно умея управляться с лодкой, она привезла с собой байдарку. Однажды утром она спустилась в лодке по порогам, где индейцы плавать не отваживались. Она благополучно миновала все пороги. Индейцы же посмотрели на нее с легким недоумением… Просто потому, что, она, как оказалось, не вызвала у них ни малейшего восхищения своей отвагой. Они сказали ей: «Но ведь ты рисковала без всякой пользы». В лесах Амазонии и без того шла непрестанная борьба за выживание, поэтому индейцам и в голову не приходило совершать лишние подвиги[68].
Человек должен получать свою долю риска в отношениях с себе подобными и в отношениях с космосом, но, удовлетворяя свою потребность в риске, ему нет необходимости рисковать ради прихоти.
Молодая австрийка прекрасно поняла, что для того, чтобы не оставаться больше вне племени, ей следует идти лишь на тот риск, который необходим для выживания, а не изобретать дополнительные испытания.
В средневековой Европе князь, не выходя из дома, имел возможность удовлетворить и свое любопытство, и свою любознательность: трубадуры, шуты, бродячие торговцы приносили ему вести из внешнего мира и обогащали его все более. Для всех и каждого князь являл собой вершину развития. Подражая ему во всем, люди превратили жилье в собственность; собрав все свое добро, обзаводились обстановкой. Но одновременно с этим они утратили чувство защищенности, достаточной безопасности перед лицом незваных гостей. Если к государю проникал какой-нибудь вор, в доме всегда было человека три-четыре, чтобы выставить его за дверь. Для частного лица это было невозможно… И вот буржуа оказались вынуждены разыгрывать из себя господ, на самом деле ими не являясь, то есть не обогащаясь за счет встреч с внешним миром. Я думаю, что они стали сокращать контакты с посторонними, и именно это создало ту удушливую атмосферу буржуазной жизни XVIII и XIX веков, атмосферу, которая внушала людям все большее недоверие к чужому образу жизни. Примечательно все же, что, искренне желая следовать примеру господина, который широко пользовался своим либидо[69] и своей сексуальностью, путешествовал, интересовался искусством, принимал художников, артистов, ученых, они, напротив, жили так закрыто, что это вообще мало напоминало жизнь, разве что время от времени они отворяли двери каким-нибудь, к примеру, бродячим торговцам пряностями, которые заглядывали к ним и мимоходом делали ребенка-другого их заброшенным женам.
Социальное заточение, будучи следствием приватизации жилища, процветало в пору открытых границ. И гадкие утята из хороших семей, в которых они чувствовали себя маргиналами, несмотря на все богатства своего либидо, уезжали в колонии, в неведомые страны. Не всем было по душе во имя безопасности все время подавлять в себе свои собственные желания. Эти люди и отправлялись на поиски приключений или, оставшись дома, вступали на стезю правонарушений. В последнем случае от них избавлялись, высылая в Америку или в Гвиану. Преодолевая испытания, рискуя, проявляя изобретательность, они расселялись по свету. Кто были эти правонарушители? Изначально – такие же люди, как и их соседи, просто их либидо задыхалось в границах нормы.
Откуда берутся дети-правонарушители или дебилы? Они или получили травму в раннем возрасте, или генетически наделены такими потребностями и желаниями, что их личность не вмещается в установленные рамки. Тогда они и начинают хитрить, обманывать, и от них так или иначе избавляются… или они сами избавляются от рутины и принуждения, отправляясь на поиски приключений. Всегда были войны, на которые можно было пойти наемниками, рискнуть жизнью… Можно было уплыть на корабле в какие-нибудь неведомые страны и т. д. Если бы не было приватизации, не было бы, может быть, и великих путешественников, эмигрантов, уезжавших в Новый Свет… Сегодня мы живем в совсем другом обществе, границы которого закрыты. Куда деваться тем, кому не подходит кодекс обязательной безопасности? Это серьезная проблема, и именно по этой причине люди стараются поменьше рожать. Они упираются в этот барьер. Говорят: «Ох, нет… с кучей ребятишек нас ждет чертовски необеспеченное, ненадежное существование». На самом деле все не так: чем больше детей, тем больше способов переменить жизнь открылось бы перед ними. Именно это могло бы изменить общество.
Государства замкнуты в самих себе, колониальной экспансии больше нет; иностранный легион уже не тот, что раньше, каторга упразднена, тюрьмы переполнены, и люди справедливо опасаются как строить новые тюрьмы, так и отпереть те, что перенаселены. Даже те, которые уже есть, содержат очень неохотно: заключенные обходятся недешево.
Положение безысходно; чистилища тоже больше нет, поскольку никого не посылают в ад; вот почему закрытые общества взрывоопасны. Те, кто не соглашается стать послушной копией, уже не могут вырваться на простор, и отовсюду изгнанные маргиналы предаются озлобленному ничегонеделанию. Именно поэтому люди сейчас в планетарном масштабе регрессируют в сторону мальтузианского[70] мышления. Следствие этого – ограничение рождаемости и усиленное сведение к норме тех, кому удается родиться и кто собирается родиться. От них всё настоятельнее требуют, чтобы они подчинились общему кодексу.
Когда-то существовала солидарность «касты». Это было, так сказать, единение собратьев по ремеслу, к какому бы классу они ни принадлежали. Так братались на войне рядовые и офицеры. В настоящее время эта потребность в единодушии сместилась. Люди обретают ее только в требованиях, сообща добиваясь права на удовлетворение общих потребностей и желаний. Таким образом, маргиналы остаются сегодня без поддержки: переводятся помогавшие им реализовывать либидо через музыку, живопись, путешествия, экспедиции меценаты – могущественные покровители артистов, изобретателей… И эта ощутимая потеря несомненно вредит культуре. Либидо, вовлеченное в творчество, в искусство, невозможно подчинить закону большинства, жаждущего не новизны, а стандарта… Стало быть, массе не дано поддержать творца, создающего нечто новое. Почему это делали меценаты? Вероятно, их либидо влекло их не только к защите собственных исключительных прав; они были скованы обстоятельствами, но тем не менее и им были не чужды занятие искусствами или страсть к путешествиям, и они платили людям, которые были способны делать это вместо них и от их имени, будучи не в состоянии зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и пользоваться авторитетом без княжеского покровительства. Меценатство давало возможность реализовать стремление идентифицировать себя с художниками, по крайней мере, позволяло быть с ними рядом и иметь доступ в другой мир – мир духа. В большинстве же своем класс буржуазии желал причастности к этому миру лишь в силу обладания реальной властью. Богатые знали, что им нечего желать, кроме воображаемого. А простой люд, стремясь «причаститься», хотя бы через те крохи внимания, какие выпадали на его долю «сверху», прислуживая богачам, ощущал собственную значимость.
Иметь хорошего хозяина и быть хорошим слугой было делом профессиональной чести. Слуги гордились своей ливреей.
Несправедливо было бы утверждать, что такое положение было для всех унизительно и невыносимо: прежде всего, это зависело от хозяина, а также, разумеется, и от индивидуальных побуждений; некоторым людям это, в сущности, нравилось. К тому же, сменить можно было хозяина, но не сословную принадлежность. Слуги хотели гордиться своим господином, своим домом и входить в члены семьи.
Помню, в детстве, когда я проводила каникулы в Довиле, хозяйских шоферов, которые отвозили машины на стоянки, выкликали по громкоговорителю. Шоферов звали по именам их господ, например: Ротшильд… Ларошфуко! Кто служил в таких семьях, принадлежал к их Дому. Этим гордились. Но последние полвека узаконили мнение, что работа прислуги – социальный позор; при этом забылась средневековая традиция отдавать юношей из богатых семей в учение. Люди посылали своих сыновей к другому сеньору.
До XIX века богатые фермеры отдавали своих сыновей с двенадцати до шестнадцати лет в услужение к другим фермерам. В Нормандии, например, носильные вещи припасали сыну на три года вперед и складывали в так называемый шкаф слуги – огромный сундук, разделенный на две части: с одной стороны вешалки, а с другой – полки для сложенной одежды и нижняя полка для обуви. На шкафу было выгравировано имя юноши: Жан-Мари… Лоик, и т. д. Этот сундук погружали на телегу и отвозили сына, наряженного в праздничное платье, в учение. Наиболее уважаемые люди отправляли сыновей к равным себе. Взамен принимали как равного сына другого фермера. Часто слуга женился на дочери своего хозяина. Юноша уезжал к людям, равным ему по положению, чтобы изучить ремесло, которым позже будет заниматься в доме собственного отца. В Шаранте «стажер» привозил с собой шкаф, который назывался «стоящий человек». «Стоящий человек» выше, чем нормандский «шкаф слуги»: примерно 1 метр 70 сантиметров в высоту, в человеческий рост… В нем дверца на петлях вверху, посредине ящик, а внизу еще одна дверца. Это не то же самое, что «свадебный шкаф», широкий и двустворчатый – такой шкаф давали в приданое девушке вместе с постельным и столовым бельем. Эти две разновидности шкафов, «стоящий человек» и «шкаф слуги», многое говорят нам о нравах эпохи: слуга не находился на содержании у господина, он приезжал к хозяину со своим платьем; все было оплачено его родителями, что свидетельствовало об их богатстве…
Судя по всему, образование молодежи во всех зажиточных слоях общества происходило без участия школы; только клирики как самые бедные получали школьное образование у священников. Внутри касты жизнь познавалась через совместную со взрослыми деятельность и слушание их разговоров. Постепенно такая организация образования все больше и больше изживала себя, оттого что образование клириков не было тем образованием, что приобретается вместе с культурой, то есть тем, что входит в плоть и кровь молодого человека благодаря общению со взрослыми и с их друзьями. Ученики существовали таким образом, что только школа давала им что-то новое, а семья не давала ничего. Но что такое культура? Это встречи с людьми, которые переживают то, чему учат. Однако преподаватели не переживают то, чему они учат. В процессе уроков, на которых в определенные часы присутствует целая группа, ни ученики, ни учителя не переживают предмета изучения. Это полное оскудение. Либидо не вписывается в пережитое ребенком, как это было раньше, когда он был еще маленьким; либидо не помечает культуру; информация не впечатывается в тело, по мере того как протекает жизнь этого тела. Как будущий учитель получает образование? Через речь какого-то человека, который сидит перед ним неподвижно, как мертвый. Книжная культура – мертвая буква. Дети с большим опозданием начинают понимать, что посредством школьного учебника к ним доверительно обращается его автор. За книгой есть человек из плоти и крови. Даже если это учебник истории, или физики, или арифметики. В детстве я всегда читала предисловия к учебникам, другие этого не делали. И меня очень удивляло, что в этих предисловиях я встречала живых людей. Предисловие к грамматике – это потрясающе! Именно читая все эти введения и вступления, я поняла, что есть люди, которые ставят перед собой проблему преподавания грамматики, что они, как видно, любят грамматику (удивительно, но, кажется, и в самом деле любят…) и что они вкладывают в каждый параграф свои размышления и сомнения, ради того чтобы мы лучше поняли и усвоили правила языка. И все предисловия к учебникам представляют для детей большой интерес. Почему не предложить детям: «Давайте для начала почитаем предисловие»? Не тут-то было, предисловий как раз детям и не читают, потому что они, мол, предназначены для взрослых. Учитель мог бы первым делом знакомить учеников с автором. Разве учебники не называют очень часто по фамилиям их авторов? Говорят: «Возьмите вашего Жоржена…», «Возьмите вашего Бледа!» Все видели месье Бледа по телевизору, это прекрасный человек. А вот книга его, признаться, ужасно скучная.
По-моему, все это утрачено нашим образованием, между тем как можно было все это сохранить без малейшего ущерба для необходимой эволюции.