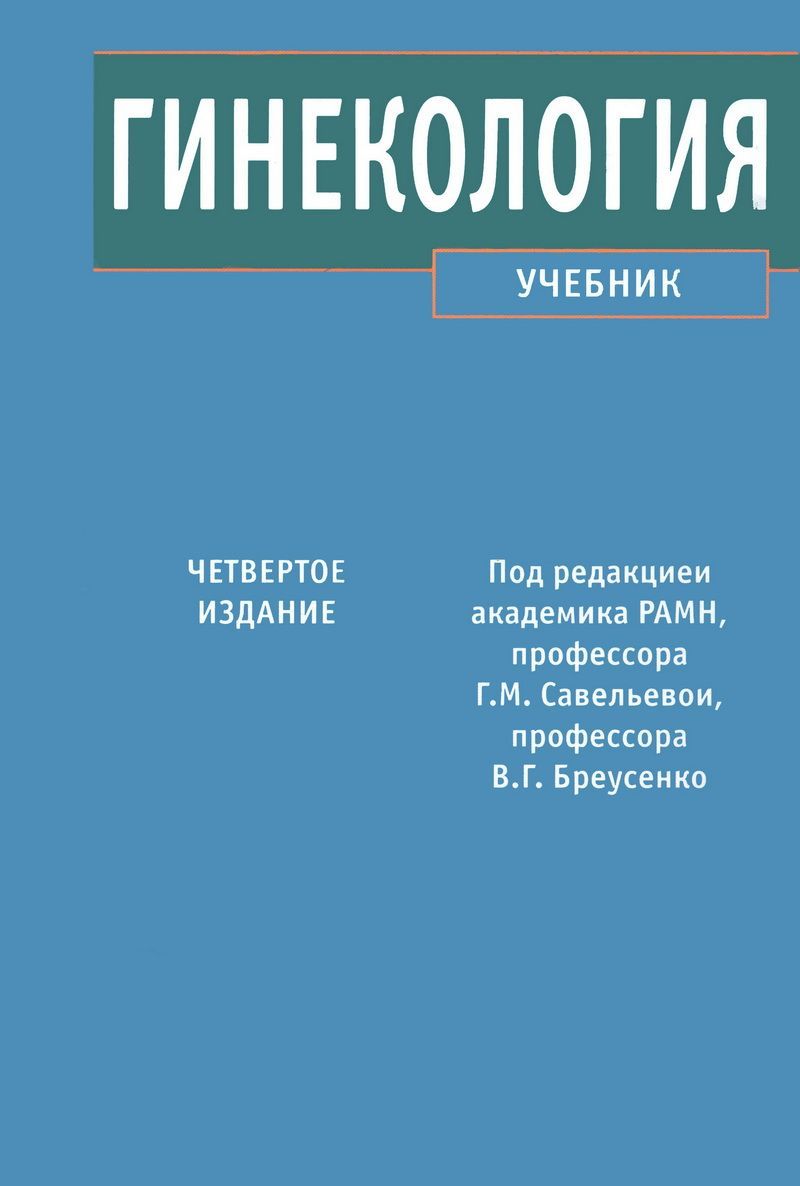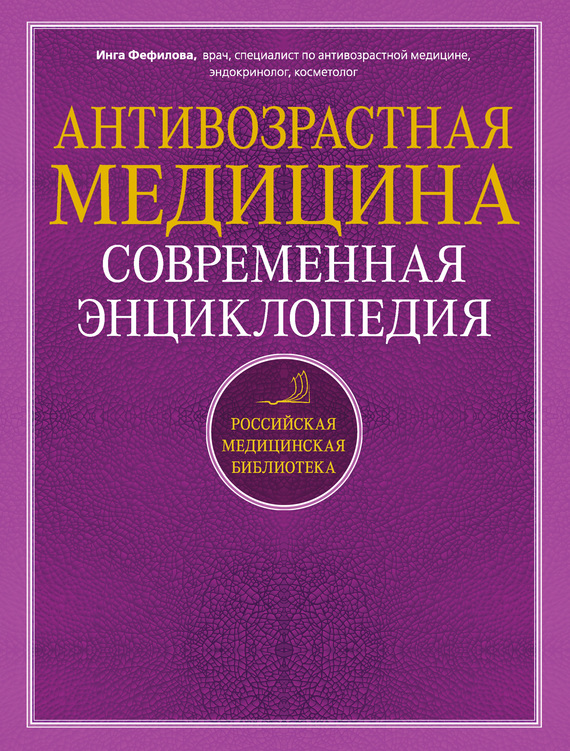Двойное рождение
Чтобы общаться с совсем маленьким ребенком, бесчисленные поколения матерей прибегали к детскому лепету, полагая, что так оно лучше.
Детский лепет – это необщение. Пока ребенок находится в младенческом возрасте, матери склонны использовать применительно к нему язык так, как он используется применительно к домашним животным: о них говорят, но с ними не разговаривают. Более того, многим людям легче говорить с собакой или кошкой, чем с ребенком. Думаю, это вот отчего: чтобы структурировать себя как взрослых, мы вынуждены вытеснять в себе все, что идет от детства. Находиться под обаянием прошлого, которое для нас является давно минувшим, – это все равно, что беседовать с собственным призраком. И мы стараемся этого избегать. Мы отказываемся говорить с нашими младенцами, но все же при виде их мы идентифицируем себя с собственной матерью в то время, когда мы сами были младенцами. У родителей это происходит спонтанно: они отождествляют себя со своими родителями и одновременно с самим младенцем. Они демонстрируют, вместо реального общения с младенцем, нарциссическое общение с самими собой в «воображаемом» младенце. И они объективируют это общение, вступая в общение с другим взрослым, с которым они говорят о ребенке, вместо того чтобы говорить с самим ребенком.
Что происходит, когда мы обращаемся к своему детству?
Часто слышишь, как люди говорят сами с собой, обращаясь к себе, например, с такими словами: «Девочка моя, ты бросишь курить!» Или: «Я спросила себя, что я буду делать в этой ситуации?» Многие люди говорят с собой, обращаясь к себе на «ты», реже говорят о себе, называя себя «он».
Однажды у нас был к обеду гость, мы предложили ему взять добавку какого-то блюда, но он возразил (это был артист): «Нет, он уже вволю наелся… Мне не хотелось бы, чтобы он брал добавку». Это не было шуткой. Для него это было эффективным средством против обжорства.
У общественных деятелей часто появляется искушение говорить о себе в третьем лице, когда их популярность входит в легенду. Так, де Голль говорил о себе: «Де Голль принадлежит Франции». Знаменитые писатели даже изобретают себе псевдонимы (Гари-Ажар), которые сильно облегчают им возможность говорить о себе как о постороннем человеке. Когда говоришь о себе в прошлом, в сущности правильнее говорить о себе в третьем лице – как о постороннем человеке.
Если я говорю: «Когда я была маленькой, я делала глупости» или «Когда я была маленькой, родители считали, что я гораздо подвижнее других детей», я говорю о себе в прошлом – это не сегодняшняя я. Невозможно говорить в настоящем времени о себе, каким ты был в прошлом. Нам не удается говорить с ребенком в настоящем времени, потому что тогда мы говорили бы с тем ребенком, который пребывает в прошедшем времени внутри нас. Именно поэтому мы можем говорить с собакой: это настоящее и вместе с тем неговорящее существо, в котором мы видим наше собственное домашнее животное, принадлежащее нам, как наше тело. И мы говорим домашнему животному: «Ты недоволен…» – как сказали бы части своего тела, если бы она испытывала дискомфорт. Но с ребенком мы отождествляем себя «в прошедшем времени», поэтому нам трудно говорить с ним «взаправду», – считая его столь же понятливым, как мы сами, и часто даже понятливее нас. Мы не в силах с этим согласиться. Вечно это смешение ценности и силы, отсутствия опыта и глупости, рассудительности и умения запугать.
Когда завершаешь курс психоаналитического лечения, устанавливаешь точные связи между «я» сегодняшним и «я» в прошлом, ощущаешь дистанцию между ними.
Это больше чем дистанция. Совершенно перестаешь интересоваться самим собой, и сегодняшним своим «я», и прошлым. По-моему, это – главный результат моего анализа: я почувствовала, что мое прошлое совсем перестало меня интересовать. Это как фотографии: время от времени о них вспоминаешь в кругу семьи. Но для тебя самого они мертвы. Они поддаются «воскрешению» только потому, что вокруг существуют другие люди, словно свидетели, при которых мы пережили то-то и то-то. Это «принадлежит истории». Бывает, что встретишь кого-то из родственников, и он (или она) скажет: «Но когда все собирались вместе, у тебя был такой вид, будто ты о чемто напряженно размышляешь; ты так таращилась… Ты молчала, а все говорили: «О чем только она там думает про себя и т. д.». Я совершенно не помню, чтобы я о чемнибудь думала тогда, но, когда мне об этом рассказывают, я посредством их рассказов вместе с ними вижу себя маленькой и допускаю, что я, должно быть, была той маленькой девочкой, которая изображена на фотографиях. Для меня это едва улавливаемые следы счастливых воспоминаний. Может быть, кому-то запомнилось и страдальческое выражение моего лица. Но я этого не помню. Радостей, правда, тоже не помню; помню только, что была непосредственным свидетелем определенных моментов жизни; та личность, которая, должно быть, была мной, радовалась. Зато запах весны, пробуждение природы во время пасхальных каникул в деревне… Апрельские грозы в Париже… Помню об этом и о своем очень точном ощущении радости оттого, что все это есть. Это все-таки связано со мной сегодняшней, и временами я это в себе воскрешаю. Если это – существующее в собственном «я» вновь обретенное единство между ребенком и взрослым, тогда не исключаю, что этот момент и в самом деле переживается в настоящем. С чувством облегчения и примирения с собой. Когда говорят о поисках цельности, по-моему, имеют в виду именно это. Не надо это путать с тем единством, в котором, как думают люди, пребывает зародыш с матерью внутри ее утробы. Это иллюзия. Такого единства никогда не было. Мать и плод никогда не пребывали в слиянии: яйцо в оболочке внутри материнской утробы – это не единство, и единства восприятия здесь не было. Происходила, разумеется, физическая и химическая контаминация: материнское тепло, материнская жизнь передавались зародышу; сахар в материнской крови питал кровь зародыша; это физиологическое общение, это слуховое восприятие того, что доносится снаружи, в том числе отчасти и голоса матери, но это никогда не является слиянием с ней; то единство с нею, которого мы якобы все ищем, – не думаю, что это в самом деле единство с матерью. В воспоминаниях я с волнением возвращаюсь к ощущениям дыхательного или обонятельного порядка, которые связаны с космическим началом. Я задаю себе вопрос: неужели это та самая личность, отделившаяся от истории своих отношений с отцом и с матерью? В этот момент освобождается особая чувствительность, которая появляется у нас в наших отношениях с миром, – теперь она наконец очищена от всего лишнего. У меня есть воспоминания, связанные с другими людьми. Поскольку я не была единственным ребенком (я была четвертой из семи), вокруг меня всегда кто-то был. Но то, что я чувствовала, – это в самом деле чувствовала только я. И окружающие, может быть, тоже это чувствовали, но не делились со мной этим. Они не говорили мне: «Как я наслаждаюсь весной…» Эти ощущения были, несомненно, знакомы всем нам, но о них никогда не говорилось. Стало быть, помимо меня, есть другие люди, которые испытывают то же самое в другие моменты своей теперешней жизни одновременно с тем, как я тоже переживаю это вновь под влиянием какого-нибудь пейзажа, например, или погоды… И в эти минуты я становлюсь той же самой, какой была в раннем детстве, происходит реминисценция, это что-то вроде сенсорной вспышки.
У каждого из нас есть мимолетные воспоминания о своем внезапно просыпающемся нарциссизме. И если это воскрешение происходит благодаря какой-нибудь встрече или рассказам третьих лиц, оно наверняка менее устойчиво, чем в том случае, когда навеяно географическим пространством, климатическими или космическими условиями. В природе ситуация может повториться, точно или почти точно, – а люди, какими они были когда-то, уже исчезли.
Коль скоро мы вынуждены брать на себя ответственность за прошлое, за пережитое предками, – не входит ли освобождение от знаков и травм внутриутробной жизни, вообще говоря, в условия человеческого существования?
Мы структурированы таким образом, что не можем от этого освободиться. Ребенок, родившийся в 1981 году – не такой, как тот, что родился в 1913 или 1908-м. Нельзя думать, что это такой же французский ребенок, родившийся на той же французской земле… Он обладает прошлым своих родителей, в каждом случае другим, и другим до-сенсорным капиталом, который ему предстоит развить. Это существует в его восприимчивости с самого начала. Никто не рождается кроманьонцем с памятью, как девственно чистая доска. Отнюдь нет. В нас заключены все воспоминания наших родителей, наших предков. В своей жизни все мы, пускай мы об этом и понятия не имеем, – представители какой-либо истории, исходя из которой начинается наше развитие.
Каждый из нас, прежде чем сможет по-настоящему расцвести и высвободить то, что в нем уникально, специфично, то есть присуще именно данному человеку, должен пройти целый цикл испытаний.
Чтобы это понять, следует провести сравнение между человеком с продолжительной семейной историей, которого вырастили родители, ставшие для него и кормильцами, и воспитателями, – и другим, который был покинут родителями, чьи лица и история навсегда остались для него неизвестны. Он их представитель, и он никогда не слышал и не видел людей, которые связывают его с родственниками по обеим линиям. Он в самом деле дитя и даже младенец своего времени: историю его родителей, в результате которой он появился, никто не может ему рассказать словами. И этого ему не преодолеть. В этом глубинная драма брошенных детей, даже если их усыновили. Даже если они найдут свою фамилию на семейном надгробии или место, где умерли родитель или родительница, они уже не найдут своей истории. Если такой брошенный ребенок найдет своих родителей спустя годы, их история, к которой он не причастен, останется ему чужда; и они тоже не причастны к его истории, они не участвовали в ней, когда он был маленьким. Что могут сказать мать и отец своему ребенку, если к моменту, когда он их нашел, им уже шестьдесят, а ему двадцать или тридцать: «Ах, как ты похож на своего (или моего) отца!» или «Как ты похожа на маму, на тетю, на бабушку!» Они будут толковать ему о физическом сходстве с людьми из его истории, но кроме этого не смогут сообщить ему ничего.
У брошенных детей эдипов комплекс не может по-настоящему разрешиться, потому что они остаются пленниками тайны.
Каждый из таких детей – пленник какой-нибудь тайны. Он разгадывает определенную загадку Эдипа, в которой замещающими фигурами являются воспитавшие его люди. Но он вечно ищет родителей и братьев. Подтверждением этому служит фантазия, свойственная всем брошенным или усыновленным детям: боязнь по неведению влюбиться в собственную сестру – или брата. Это побуждает их искать себе пару в местностях, отдаленных от той, где они появились на свет, то есть где их родила мать. На них давит табу инцеста. Если они проникаются к кому-нибудь симпатией, то боятся, не окажется ли избранник их братом или сестрой. И чтобы быть уверенными, что избежали инцеста, они выбирают того, кто не имеет никакого отношения к их родным местам. Значит, где-то здесь прячется эдипов комплекс.
Каков бы ни был личный опыт индивидуума, даже если он обошелся без дородового стресса и послеродовых осложнений, переход от внутриутробной ко внеутробной жизни сам по себе является травмой; это что-то вроде инициационного испытания, от которого никогда полностью не оправиться; это утрата плаценты, первая из наших «кастраций», болезненных необратимых потерь.
Это потеря основополагающей части нашего метаболизма[141], утрата амниотических[142] оболочек и плаценты. Оправиться после этого можно только пройдя через много испытаний и инициаций. И все эти мутации будут происходить лишь по образцу, заданному рождением. Когда доживаешь до моих лет, повидав множество детей, зная, как они рождались, каков процесс их рождения, их появления на свет, приходишь к выводу, что всякий раз в их существовании происходила мутация, и что их жизнь прошла так же, как их роды. Я говорю о детях, которые появились на свет без химического или хирургического вмешательства – родились естественным путем. Все люди рождаются по-разному. Приведу слова одной матери, родившей семь или восемь детей в те времена, когда еще не было мониторинга (в наше время роды полностью механизированы и подчинены науке): «Я-то знаю: как мой ребенок рождался, так он и пройдет через переходный возраст, через свои одиннадцать-двенадцать лет». То же самое мне говорили многие другие матери. Кстати, они включали в этот процесс и себя, говоря: «Я волнуюсь, думая о том, как у него (у нее) все обойдется, но не слишком беспокоюсь; когда он (или она) рождался, я тоже волновалась, и все у них прошло хорошо… теперь, когда ему (ей) предстоит какая-то перемена, я всегда волнуюсь…» Сталкиваясь с трудностями, эти дети вели себя так же, как во время перехода от внутриутробной жизни к младенческой.
Когда люди с бессознательной уверенностью идут навстречу значительным событиям и радикальным изменениям в жизни, это означает, вероятно, что их роды прошли легче обычного, без помех и без боли.
Условия человеческого существования таковы, что человек не может достичь полного расцвета своей личности иначе чем через второе рождение. Об этом говорит Евангелие. Люди думают, что все это мистика, а на самом деле это просто-напросто процесс очеловечивания. Первое рождение – это рождение млекопитающего, переход из растительного состояния в животное, а второе рождение – это переход из животного состояния зависимости к человеческой свободе сказать «да» или «нет», рождение духа, осознания символической жизни. Именно эта мутация, эта способность родиться дважды, эта смертельная опасность, за которой следует преображение, превращает высшее млекопитающее в человека.
Когда люди с бессознательной уверенностью идут навстречу значительным событиям и радикальным изменениям в жизни, это означает, вероятно, что их роды прошли легче обычного, без помех и без боли.
Первое рождение разлучает нас с тем способом общения, который возможен для зародыша и о котором мы, взрослые, ничего не знаем. Кроме того, с перерезкой пуповины происходит языковое рождение. Второе рождение, без которого нам не удастся стать самими собой, есть то, что погружает нас в предшествующий код, общий для нас и наших родителей, и помогает обрести нашу природу, включая и те элементы культуры, которыми закодирован язык. Таким образом получает истолкование евангельское: «Если не станете как дети…» И, переживая свои отношения с другими – отношения логические, в которых опорой нам служит смысл слов, мы в то же время переживаем отношения, лежащие в другом регистре, на которые не обращаем внимания, отношения из области бессознательного – они существовали всегда. Но в обычной речи при общении людей сохраняется только то, что доступно логике, имеет точку отсчета. А между людьми, поддерживающими общение, есть много нелогичного, но мы уже об этом не знаем. И нам нужно возродиться для принятия и осознания этой нелогичности, которая иногда гораздо динамичнее, чем то, что логично, и существует по законам логики. Членораздельная речь, если она является спонтанной, одновременно с ясным сообщением передает латентное, передает речь бессознательного. Можно сказать, что второе рождение служит для того, чтобы окончательно расстаться с первым, умертвить в нас человеческое млекопитающее, сохранив, однако, то, что есть в нас живого и доступного передаче – бессловесную коммуникацию. Необходимо пережить первое рождение как смерть – только тогда возможно возрождение, то есть мутация для другой жизни: переход от соматической плаценты к воздушной. С точки зрения дыхания атмосфера для нас – та же плацента, и эта воздушная плацента одна на всех; а с точки зрения пищеварения мы пребываем на земле, у которой берем и съедаем питательные элементы, а отдаем ей ненужное через задний проход и наружное отверстие мочеиспускательного канала. После того как материнское чрево нас извергло, питание уже не поступает к нам в виде крови через пуповину и мы не возвращаем его плаценте – теперь нас питает земля: мы строим наше тело из питания, которое получаем через рот и проглатываем. Рот одновременно заменяет нам и пуповину – так же как и нос – и вместе с тем служит для извержения звуков, в том числе криков и речи, позволяя нам говорить, – а это уже совсем другое дело; мы выражаем свои чувства, чего не могли делать во внутриутробной жизни. В этом и состоит обновление: пускай мы выражаем себя с помощью языкового кода, который понятен другим людям, но все, что не входит в этот код, тоже не исчезает; оно остается в бессознательном. И наше бессознательное общается с бессознательным других людей, хотя у нас имеется сознательный и кодированный язык – но он не позволяет нам высказать, а другим людям понять все, что мы выражаем.
На самом деле адаптация к этой другой жизни происходит не сама собой и может продолжаться всю жизнь человека. Наше «историческое расследование» свидетельствует: внимание исследователей чаще всего привлекает незрелость человека, связь его интеллектуального развития с периодом образования центральной нервной системы, и гораздо реже – истинное овладение возможностью общения, хотя, возможно, что именно общение является условием развития личности. Никогда еще все исследования, все усилия ученых не концентрировались по-настоящему на этом условии существования человека, который постоянно, с самого рождения и, так сказать, на протяжении всей жизни непрерывно утрачивает сам себя.
Пора покончить с тем лепетом, к которому сегодня сводится пренатальная и неонатальная психология, и в какой-то мере очертить всеобщий «Закон» созидания, присущий представителям рода человеческого, которые, благодаря своей памяти о прошлом, обладают воспоминаниями, а благодаря воображению, предвосхищают будущее, опасаются будущего или надеются на него.
Я придаю большую важность присущей психоанализу точке зрения, согласно которой перерезка пуповины есть кастрация, в том смысле, что это – физическое расчленение тела с потерей той части, которая до сих пор была чуть ли не самой главной для жизни индивидуума, и переживается оно как фундаментальная альтернатива: «Выйди из своей оболочки. Выйди! Плацента – или смерть. Если ты останешься с плацентой – ты умрешь. Если ты оставишь плаценту позади – у тебя есть шансы на жизнь, но все равно тебе грозит смерть – это зависит от твоей способности дышать…» Выйти из-под защиты оболочки, неотделимой от материнского организма и неотрывной от плаценты. Покинуть плаценту, покинуть оболочку – то есть расстаться с пассивным насыщением кислородом, с пассивным питанием, и в то же время с полной безопасностью для всего тела – это значит расстаться с жизнью, с единственным известным ее состоянием; это значит умереть. Но в результате этого предельно рискованного эксперимента внезапно, с первым криком расправляются легкие и в тот же миг закрывается сердце: ребенок перестает слышать собственное сердце и слышит что-то вроде биения материнского, которое раньше перекликалось с исчезнувшим быстрым биением сердца зародыша. Ему больше не слышны оба ритма, которые искали друг друга и сочетались друг с другом. Я думаю, что вся эта органическая жизненная сила человека как млекопитающего в архаической языковой форме заключена в тамтамах и звучании ударных инструментов. Африканцы и индейцы часами пляшут под барабанный бой, не испытывая усталости, словно вне времени и пространства, как когда-то in utero, под дробный ритм, поддерживающий в них жизненную силу, перетекающую из этой непрерывности звука. Благодаря искусству ритма они обретают внутриутробную жизненную силу, которая словно поддерживает сама себя, – это не стоит им никакого труда и не приносит усталости. Но они не в одиночестве. В пляске участвует целая группа, и вся эта группа несет каждого плясуна, как мать несет плод в своем лоне.
Может быть, это новая версия утраченного рая? Биологическая?
Говоря о регрессии, имеют в виду историю тела человека и сферу его эмоций. Само же по себе слово «регрессия» подразумевает то, что с точки зрения биологического существования возможно как прогрессировать, так и пребывать в застое: стагнация не исключается. Регрессия означает: возврат к таким средствам выражения, или поддержки, или обмена жизненными силами с внешним миром, которые ныне для нас архаичны: прежде они входили в нашу историю или были желанны в определенную эпоху нашей истории, а теперь бездействуют и не связаны с речью. Вернуться к ним – означает укорениться в силах, чтобы идти дальше.