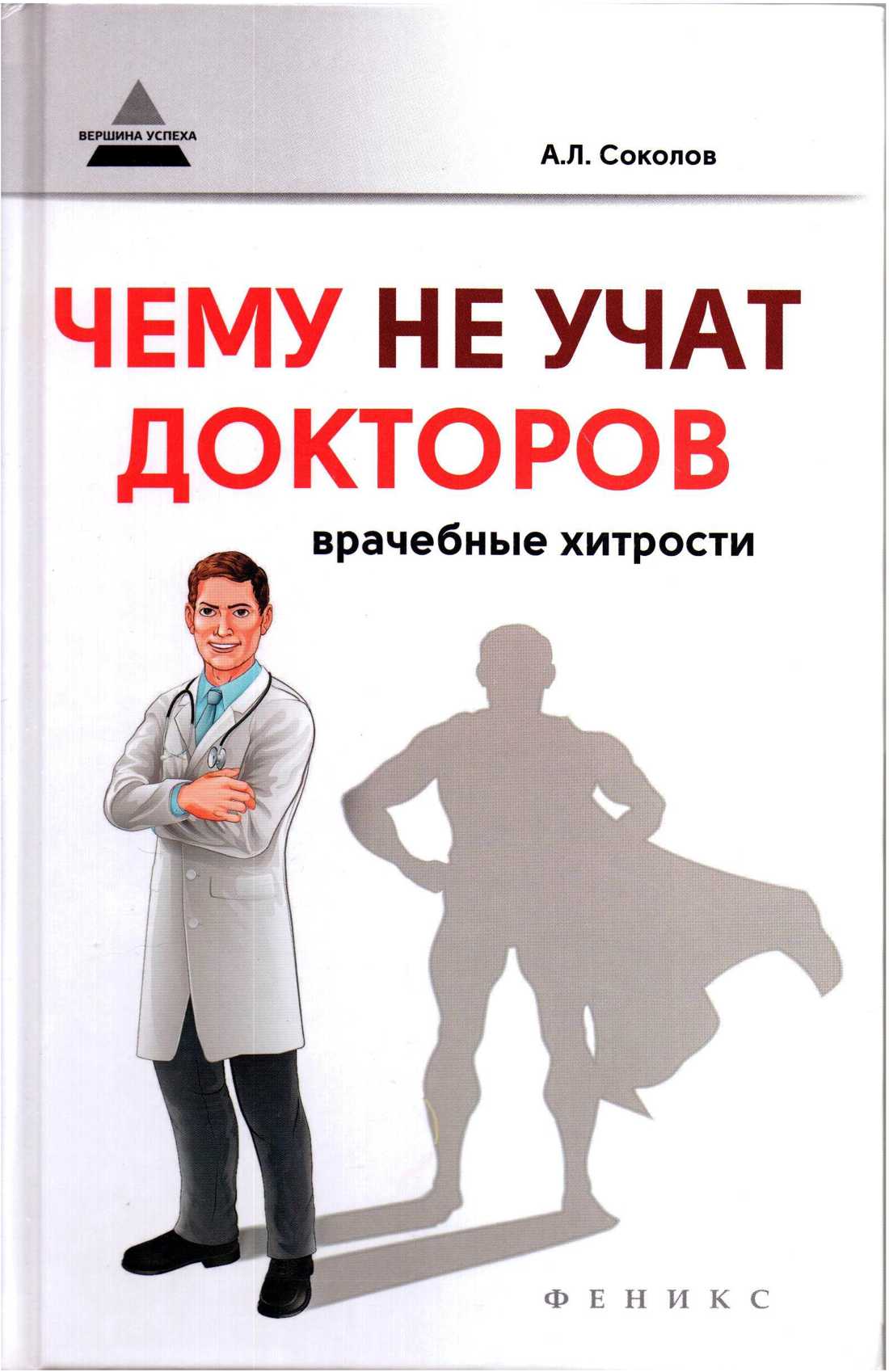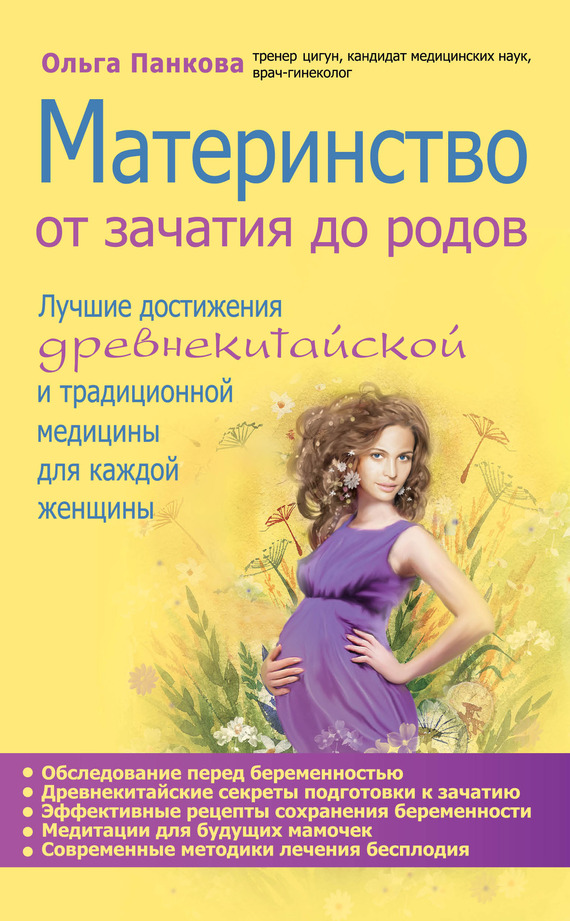Приучение к риску
Для очень маленького ребенка изучение пространства – это приучение к риску. Очевидно, что пространство, которым располагал европейский ребенок до 1939 года, значительно изменилось, поскольку семья-ячейка во многом живет по-другому: она стала менее оседлой и гораздо более мобильной. В наших странах ребенок теперь лучше защищен теоретически, законом, но, с другой стороны, в силу изменений, претерпеваемых пространством, которое он для себя открывает, ребенок подвергается большему риску. У него под рукой вредные вещества, которые он может проглотить, опасные приборы, с которыми при нем управляются его родители и которые он из подражания также может попытаться включить, даже не понимая принципа их действия; он делает те же движения, что и родители, но при этом подвергается гораздо большей опасности, чем когда-то. Он, быть может, больше склонен считать игрушками предметы сугубо утилитарного назначения, представляющие, однако, для него опасность… И впору задуматься: пожалуй, по сравнению с ребенком индустриального общества, ребенок, принадлежащий к обществу сельского типа, которого раньше начинают в быту считать взрослым, которому приходится брать на себя часть взрослой работы, скажем, на ферме, получает лучшее представление о том, что такое огонь, холод, почему опасно играть инструментами и совать палец в агрегат…
В настоящее время ребенок очень нуждается в вербализации[71], объясняющей ему устройство и назначение вещей. Иначе он будет думать, что вся опасность для него сводится к наказанию. Для него отец и мать властны надо всем, что происходит… и если розетка бьет его током, то он (точь-в-точь как сказал бы древний человек: «Там внутри Юпитер») говорит: «Там папа». Приведу поразительный пример. Мой муж сказал одному из наших сыновей, которому было тогда 9 месяцев: «Нельзя трогать розетку» – ведь все родители говорят так своим детям… И, как водится, все дети пытаются нарушить запрет, чтобы самоутвердиться и на своем опыте проверить, что такое опасность, – такова человеческая натура. Итак, первый раз, когда он прикоснулся к розетке и его дернуло током, он обратился ко мне и, показывая на розетку, сказал: «Папа там». Он как раз начинал говорить и уже мог сказать «папа», «мама», «там», «нет»… Ходить он еще не умел. Он приближался к гостям и, привлекая их внимание, показывал розетку и сообщал: «Папа там». То же самое он говорил и отцу, когда тот был дома. И отец повторял: «Да, это нельзя трогать, опасно». Отец находится там, где происходит подтверждение его слов, – иначе говоря, получается, будто ребенка ударил отец, а не то, о чем малыша предупреждали отцовские слова. И это очень интересно с точки зрения детского бессознательного. Все предметы, которыми манипулируют родители, являются для ребенка продолжением родителей. Итак, если родители манипулируют какими-либо предметами, и если эти же предметы, когда их трогает ребенок, оказываются опасными и представляют собой угрозу для ребенка, для него это означает, что отец и мать сидят там, внутри, и запрещают ему проявлять инициативу и подвижность, что они чинят препятствия его очеловечиванию по их образу и подобию. Мне пришлось объяснить сыну, что его ударил не отец, а электрический ток, и что если бы отец или я сунули палец в розетку, как это сделал он, нас бы тоже ударило током; я объяснила, что электричество – это полезная сила, имеющая свои законы, которые надо соблюдать и взрослым и детям, и что отец не наказывал его и не сидел в электрической розетке. После этого опыта и объяснений, развеявших его несколько навязчивые ложные умозаключения о родительском присутствии во всех электрических розетках, наш сын научился выключать лампы и тостер так же ловко, как взрослый, избегая в обращении с электричеством ненужного риска. Магию сменило техническое знание. Ребенок обрел доверие к себе, а когда он хотел поступать, как взрослые, но у него не получалось, то присматривался, а также глазами и голосом просил взрослых, чтобы они объяснили ему, в чем тут дело.
Если объяснить ребенку, что отца тоже может ударить током, он уяснит себе реальность угрозы. Эта маленькая история с розеткой подтверждает, что все запреты имеют для ребенка смысл только в том случае, если то же самое запрещено и для родителей. Между прочим, это способ подчинить его закону Эдипа[72]. Если маленький мальчик объявляет, что мама – это его жена, это означает, что, отождествляя себя с отцом, он хочет вести себя по отношению к матери как муж. Но только если он поймет, что его отец никогда не вел себя по отношению к своей собственной матери так, как ведет себя по отношению к жене, только тогда ребенок воспримет законы биологического становления и запрета на инцест, общего для всех людей по отношению к их родительнице. Правда, для ребенка это очень трудно, потому что в начале жизни и на протяжении первых лет он вовсе не представляет себе, что его отец и мать сами были детьми и относились к своим родителям так же, как он относится к ним. Изменения массы тела также ускользают от его понимания. Когда он видит на фотографиях своих папу и маму в младенческом возрасте, это для него факт, лишенный реального смысла. Ему говорят: «Это твой папа, когда он был маленький». А он понимает это так: «Это не папа, а я». Пока ребенок не достигнет возраста пяти-шести лет, он не может усвоить, что его отец или мать были детьми.
Чтобы постепенно ребенок начал понимать, что реальность не такова, какой он ее воображает, необходимо вводить ее в язык. Язык возвращает утраченные воспоминания о прошлом, а также планы на будущее и реальные факты, которые ребенок воспринимает только органами чувств, причем часто – ошибочно. Ребенок не может понять отношений отца с другими людьми. Он не может представить себе отца другим, чем тот предстает перед ним. Если он слышит, что отец был маленьким, для ребенка это оскорбление величества. Воображать, что отец был младенцем, для ребенка до семи-восьми лет значит выставлять отца в смешном свете. Но если ему посчастливится услышать, как его отец обращается к своим собственным родителям «папа» и «мама», эти слова подготовят его к тому, чтобы, еще не понимая родительских объяснений, принять их к сведению. Вот почему детям так важно часто общаться с дедушками и бабушками, по-разному их называть в зависимости от того, мамины это родители или папины; важно, если их уже нет в живых, или если они далеко, или если в ссоре со своим сыном или дочерью, – упоминать о них в семье и объяснять, по каким причинам ребенок их не знает. Всякое умолчание относительно дедушек и бабушек, точно так же как относительного одного из родителей, с которым ребенок незнаком, толкуется ребенком в символическом преувеличенном смысле и оставляет в его бессознательном (то есть в телесно-языковой структуре) длительные отголоски на уровне сексуальности в фрейдовском смысле этого термина (плодотворное выражение в обществе творческой или производящей энергии либидо).
В наше время, вместо того чтобы точными словами посвятить ребенка в правила безопасности, объяснив ему, как обращаться с каждым предметом, его оберегают от опасности, помещая в загон. Детский манежик был изобретен не так уж давно, когда в городах распространились вертикальная архитектура, электрическое освещение, отопление жидким топливом. Изобрели дополнительные способы страховки, чтобы ребятишки не сваливались с лестниц в многоуровневых квартирах и не обжигались, трогая то, чего трогать не следует.
Да, но вместо того, чтобы посвящать его во все это с помощью языка, с ним все больше и больше начинают обращаться, как с вещью, которая представляет опасность сама для себя. Это препятствие нам еще предстоит преодолеть в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, не следует и недооценивать риск, которому безусловно подвергается маленький ребенок. Потому что окружающее пространство для него – то же самое, что мама: он ему полностью доверяется, а следовательно, подвергается серьезной опасности. От матери требуется огромный труд указать ему все, до чего он не должен дотрагиваться – как взрослые, – и при этом у нее должно быть полное взаимопонимание с ребенком; если он не почувствует, что запрещенное ему является запретным и для нее самой, он не преминет нарушить ее запреты. Например, когда мать запрещает ребенку трогать или пить жавелеву воду[73], она говорит:
– Жавелева вода опасная: с ней хорошо мыть посуду, когда ее совсем немножко… Я с ней обращаюсь очень осторожно: неразбавленная жавелева вода меня обожжет, она прожжет одежду, а если я ее выпью, я отравлюсь.
Ребенок не станет трогать жавелеву воду, потому что понял, как к ней относится мать. Но слишком часто она просто говорит: «Не трогай» о том, что трогает сама, не объясняя ему, как она этим пользуется и какие меры предосторожности при этом принимает и она сама, и другие люди, и ребенку тоже надо будет принимать те же меры, если ему придется иметь с этим дело. Если угодно, постоянные запреты привносят Эдипа[74] во все вокруг. Родителям по отношению ко всем явлениям жизни, в которых дети могут подражать им словами или делом, следовало бы подчиниться тому же закону, что и дети, а они вместо этого продолжают вести себя таким образом, как если бы они играли роль могущественных существ перед существом, совершенно беспомощным. На самом деле ребенок, каким бы он ни был маленьким, может то же, что и они… Но только при условии, что они ему помогут, объяснят приемы, которыми пользуются, и помогут ему понять и усвоить реальность опасностей, которые на самом деле грозят и им самим, растолкуют, каковы причины этих опасностей. Тогда ребенок не побоится рассказать своему взрослому воспитателю о любом, даже самом мелком инциденте, который произошел в его отсутствие, тогда он будет понимать, что причина этого инцидента в том, что он не соблюдал технологии, которой его научили, и впредь будет относиться к своему надежному руководителю с полным доверием. Если взрослый заранее объяснил, что, нарушив правила обращения с предметом так, как это сделал ребенок, он и сам подвергался бы той же самой опасности, – в этом случае ребенок не чувствовал бы себя униженным и виноватым. Воспитывать ребенка – это значит информировать его заранее о том, что ему докажет опыт. Таким путем он узнает, что не надо производить такое-то действие не потому, что ему это запретили, а потому что это неразумно, в силу природы вещей, потому что таков всеобщий закон, а еще потому, что ему недостает опыта, сноровки, которую следует приобрести заранее в присутствии надежного руководителя.
Воспитывать ребенка – это значит информировать его заранее о том, что ему докажет опыт.
Сегодня городской ребенок, которого везут от дверей до дверей, из одного уютного дома, снабженного кондиционером, в другой, совершенно лишен возможности на собственном опыте испытать, что такое жара или холод.
Ему недостает, с одной стороны, возможности самому испытать этот опыт, а с другой – слов об этом опыте, он нуждается и в том и в другом; ему недостаточно того, что в ходе этого опыта, который проделывает он сам, органы чувств информируют его тело о том, что приятно, а что неприятно; ему нужны слова взрослого, объяснения, а не упреки и не осуждения вроде: «Глупенький… Брось это… Не трогай… Укройся, а то простудишься…» и т. д.
Наказывают, ворчат, шлепают – иногда в те самые моменты, когда ни с чем не сравнимую пользу мог бы принести разговор. В следующий раз, когда ребенок окажется в той же ситуации, он снова не сумеет избежать неприятностей, потому что опасность не была им осмыслена и его не считают способным самому обеспечить свою безопасность. Если ребенок проделал неудачный опыт с теплом или холодом, ему не пойдут на пользу «наставления» взрослых, даже если они хотят «уберечь» его от насморка. Например, с холодом: ребенку не позволяют идти на улицу, как он хочет, без теплого пальто, а надо бы, если он настаивает, отправить его гулять, одев полегче – он от этого не умрет, но зато, когда вернется с прогулки замерзший, можно будет ему сказать: «Вот почему я тебе говорила утром, чтобы ты надел теплое пальто, тем более оно у тебя есть». Когда наступают первые холода, ребенок уходит в школу, как всегда, рано, а возвращается только днем или даже вечером. И вот мать не находит себе места от тревоги из-за того, что утром он отказывается от теплой одежды. Часто доходит до ссоры. Ребенка подавляет материнская забота – она кажется ему чрезмерной, раздражающей. Когда-то у него была возможность поставить опыт самому, на несколько минут выскочив в уборную. Не хочешь надевать теплую одежду? Как тебе угодно! Он выбегал, возвращался, отогревался у печки, – но он проделывал собственный опыт, и раза через два-три он, как мама, уже надевал шаль, трико, – словом, что-нибудь теплое. Он понимал: все так делают, понимал, что ему велят надеть одежду, которую он не хочет надевать, не для того, чтобы утвердить над ним свою власть, а потому что все люди подчиняются этой необходимости, а он такой же человек, как другие. То же и с голодом. Обязанность есть, обязанность спать. В наше время ребенок не знает, что существует в тех же условиях, что все люди на земле, – его уберегают от проверки этого на опыте. Его тащат за собой, торопят, оберегают от всего на свете и мешают ему ставить собственные опыты… В результате современный ребенок уже не находится в безопасности!
Парадокс нашей эпохи, страхующей от всякого риска: дети и молодежь становятся всё более уязвимыми, потому что у них отсутствует опыт, приобретаемый изо дня в день.
Все, что обеспечивает безопасность, приобретается опытом, а технику безопасности необходимо облекать в слова. Это как раз те ключи, которых не дают детям. Вместо того чтобы точными словами выразить опасности, подстерегающие ребенка в повседневной жизни, взрослые через средства массовой информации неустанно твердят об опасностях планетарного масштаба. Поначалу для очень маленького слушателя и телезрителя это, возможно, ничего не значит… А потом, и очень скоро, он замечает, что какой-то человек на экране постоянно вещает о конце света, о том, что все человечество вот-вот взлетит на воздух, о кризисе богатых стран, о том, что деньги обесцениваются, будущее неясно… Пожалуй, дети оказались в этом климате всеобщей незащищенности относительно недавно. Разумеется, благодаря тому, что мы как никогда долго жили без войны, без огня и крови. Но экономическая война и курс на вооружение породили более глухой страх; они мешают нам разглядеть более конкретные и реальные опасности. В эпоху феодализма бывали моменты, когда приходилось укрываться в замке от проходивших орд. Завоеватели, иноземные войска… все, вплоть до маленьких эльзасцев времен франко-прусской войны. Тогда в самом деле был конкретный враг – причем он был врагом и для взрослых, и для детей. А теперь все твердят о всемирной опасности, но эта опасность совершенно невидима.
Это напоминает мне случай с моим вторым сыном: в детском саду им рассказали об атомной бомбе. Дело было в 1947 году, ему было три года. Он пришел домой и сказал:
– Мама, атомная бомба – это правда?
– Да, правда.
– А правда, что атомная бомба может разрушить весь Париж?
– Да, может.
Он помолчал, а потом спросил:
– А она это может сделать до завтрака или после завтрака?
Я сказала:
– Да, это может случиться, если будет война, но сейчас нет войны.
Он настаивал:
– Это может случиться и до завтрака, и после завтрака?
– Да.
– Тогда пусть это лучше будет после завтрака.
А потом мы позавтракали, и с этим было покончено. Вот каким образом он поборол эту воображаемую картину. Для безопасности он выторговал себе туго набитый живот.
– Ну и ладно, пусть это лучше будет после завтрака.
Это типично для современного человека: он подкрепляет свое тело, чтобы легче вынести любое испытание. Так поступает солдат. Солдат на передовой научается жить минутой и спасаться таким образом от страха смерти. Этому в наше время учит общество. Очевидно, что существует огромная разница в отношении к смерти у сегодняшнего ребенка и вчерашнего. Сегодняшние подростки гораздо больше боятся безработицы, чем смерти: они рискнут жизнью ради удовольствия, зная, что рискуют, потому что, как мне кажется, у молодых есть потребность рисковать, а делать это с пользой или просто ради игры у них нет возможности. Нарушить законы благоразумия, заплатить, быть может, жизнью за удовольствие испытать сильные ощущения. Во все времена молодежь играла с опасностью. Чем она хуже в наше время? Быть может, ни в одну эпоху не наблюдалось такой, как теперь, утраты вкуса к жизни, толкающей молодых на попытки самоубийства, и слишком многие преуспевают в этих попытках, так и не рискнув жить и не попытавшись рискнуть жизнью ради благородной цели.
То же самое происходит со взрослыми, хотя у них есть традиционное чувство семейной ответственности.
Из мира труда почти изгнан полезный риск – и людям остается бесполезный. Почему так трудно заставить рабочих на заводе соблюдать нормы безопасности? Если с кем-нибудь уже произошел несчастный случай, – только тогда месяца два-три его товарищи по цеху стараются соблюдать правила безопасности. А потом снова начинают ими пренебрегать.
Как может выжить либидо в процессе монотонного и скучного труда? Благодаря нарушениям правил, благодаря рискованному поведению. Впрочем, если произошел несчастный случай – виновато общество, а не тот, кто не принял требуемых мер предосторожности. Когда мирное время затягивается, не испытывают ли люди искушения подвергаться ненужному риску? Когда смерть оказывается слишком далекой, слишком абстрактной, быть может, либидо испытывает потребность вновь ощутить ее близость, бросая ей вызов? У человека не остается другой лазейки в обществе, где воспитание не подтолкнуло своих соперничающих членов к достижению уровня, на котором испытываешь радость от постижения истины, от творчества; труженик чересчур приучен к исполнительности, а исполнительность, лишенная риска, противна человеческой натуре; это нудная судьба вьючного животного. Чтобы прервать эту унылую и смиренную рысцу, совершить индивидуальный поступок, человек втайне предпочитает свободу нарушения правил безопасности. Водители, рискующие на дорогах, рискуют собой, но также и теми, кто сидит у них в машине, и теми, кто едет по той же дороге. Их счастье состоит в риске; может быть, они поплатятся за это головой, но в конечном итоге это им больше по душе. Похоже, что лихачество распространено среди тех, у кого было недостаточно испытаний, недостаточно опыта смерти[75] и у кого недоразвито чувство семейной и гражданской ответственности.
Морис Трентиньян говорил, что все автогонщики во время соревнований подвергаются риску, и этот риск, хотя его и можно рассчитать заранее, все же остается огромным – смертность среди автогонщиков довольно высока, – зато на дорогах с ними никогда ничего не случается, потому что они не идут ни на малейший риск: у них нет желания рисковать. Они и так играют со смертью, поэтому им незачем вести эту игру на общем шоссе, за счет других людей и без правил.
Возникает вопрос: лишая детей «опасных игр», не толкаем ли мы их на то, чтобы они или потеряли вкус к жизни, впали в депрессию, или вели как можно более опасную жизнь? Все эти нормы безопасности, оговариваемые для каждой игрушки, ведут к тому, что родители больше не чувствуют необходимости быть опекунами и покровителями своих детей.
Если ребенок жалуется, что ребята в школе его бьют, это означает, что у него нет нормальных социальных отношений. Существовали бы они, никто из одноклассников не мог бы издеваться над ним одним, потому что у него была бы своя компания приятелей, и эта компания дала бы отпор компании обидчика. Но этот ребенок выпадает из общества, даже если занимается дзюдо… Дзюдо не помогает ему войти в общество, потому что это индивидуальный, а не коллективный вид спорта.
Трагедия нашего сегодняшнего общества состоит в том, что у детей, плохо успевающих в школе, есть социальная жизнь, а хорошо успевающие дети ее лишены. Родители отстающих в школе детей не снабдили их ни словарем, помогающим ориентироваться в жизни, словарем межличностного общения, ни словарем технологии, сноровки и телесной ловкости. Эти дети живут на свой страх и риск, и в них еще много животного; они не обладают идентичностью[76] человеческого индивидуума, они обладают стадным инстинктом и идентифицируют[77] себя с группой в совместных действиях и, в частности, в насилии. Прислушаемся к разговорам юнцов – в «бандах» или вне их: мы даже толком их не понимаем, настолько не разработан их синтаксис; зато их группа в высшей степени приспособлена для нападения и защиты. Это общество племенного типа, состоящее из жестоких, независимых друг от друга членов, которые находятся между собой в социальном согласии, но являются потенциальными правонарушителями, потому что не владеют языковым кодом и не способны к культурной сублимации[78] архаических побуждений (чему учат в школе). Когда они учились брать, делать – одновременно они не были обучены соответствующим словам. Таким образом, в том, как они берут, как делают, имеется отклонение от общепринятой нормы, зато это отклонение – групповое. Те, у кого нет друзей и кого мамы принудительно записывают в секцию дзюдо, часто бывают воспитаны как маленькие индивидуумы, лишенные социальной жизни. И вот классический сценарий: если одного из таких одиноких юнцов при выходе из школы задирает кто-нибудь из ребят, он, исполненный обиды, идет рассказать об этом маме. А мама говорит: «Защищайся!», что очень глупо, поскольку само собой разумеется, что он на это не способен. Мне кажется, лучше всего в этом случае было бы сказать: «Ну что из того, что к тебе пристает твой товарищ? Это повторяется ежедневно, раз так – значит тебе это нужно. Без всяких сомнений, этот опыт тебе необходим. Присмотрись, вместо того, чтобы жаловаться».
Надо разговаривать о том, что происходит, вместо того, чтобы говорить «Защищайся!»… Как защититься от того, кто на вас нападает, пока этому не научишься, не присмотришься к другим, не поговоришь с ними? Этому и учит жизнь в обществе. Ребенок должен сам открыть, что он будет менее уязвим, если объединится с несколькими товарищами, найдет себе друзей. Развитие взаимовыручки, социальных отношений входит в жизненные интересы человека. Каин и Авель существовали до того, как появилось общество. Авель оказался не у дел, потому что не умел защищаться…[79] И роль основателя города Бог поручил Каину. Каину, имевшему друга, брата, которого он (Каин) убил. Испытывая тяжкую вину, Каин спрятался от Бога. Он пребывал в сильнейшем отчаянии, и было ему очень тоскливо, потому что не с кем стало и слова сказать. И тогда Бог сказал ему:
– Ты будешь начальником, строителем города, и никто не тронет волоса на твоей голове.
Это означало, что вместо того, чтобы в одиночку бороться с опасностью собственных побуждений, он объединится со множеством людей, которым грозит беда, будет вместе с другими противостоять внешней опасности. И вот он становится основателем города, обеспечивает защиту отдельных людей, которые на общее благо заключили подкрепленный договором и законом союз против внешней опасности. Но прежде ему надо было пройти через опыт внутренней опасности, связанной с его жестокостью. История Каина и Авеля – прекрасный пример. В ней братоубийство описано как эксперимент, как испытание в обряде инициации. Это шаг в ходе эволюции, давший возможность убийце почувствовать, что такое «зло»: он страдает оттого, что рядом больше нет брата, а один он ничего не может, да и вдвоем тоже: всегда существует опасность впасть в подражание или в соперничество. Такова первобытная сексуальность, толкающая убивать, пожирать, уничтожать… Но как только люди собираются, хотя бы втроем, – они мобилизуют свои силы на защиту, объединяясь против внешней опасности.
Наказание-продвижение или виновный-ответственный
Все свидетельства единодушно утверждают: индейцы ксингу (Амазонка) никогда не бьют детей. Однажды один из детей поджег хижину. Огонь быстро распространился, и вся деревня выгорела. Ребенка-поджигателя не побили. Его просто назвали «вождем огня». Вспомним историю Каина и Авеля. Каин убил своего брата Авеля, и Бог назначил его ответственным за безопасность города.
Сегодняшний школьник, оказавшийся козлом отпущения для другого мальчишки, подвергается внутренней опасности, потому что лишен социальной жизни. Его обидчик – его помощник: в том смысле, что он подталкивает этого ребенка к осознанию грозящей ему опасности остаться в одиночестве, вообще не иметь друзей. Сила в единении. Разве тот самый мальчишка, который над ним издевается, не передает ему очень полезный опыт? А мать или отец, которые не находят ничего лучше как сказать: «Защищайся!», не в силах объяснить ему это. Спорт, вроде дзюдо, не вводит детей в группу. Заботливым родителям очень трудно смириться с тем, чтобы их ребенок вошел в группу наравне с другими. Они его защищают и даже чересчур хорошо защищают. Улица, пустырь – это для тех детей, которыми не занимаются родители.
Чтобы обеспечить детям безопасность, мы отнимаем у них возможность рисковать, которая может навлечь на них опасность, – это факт. Безопасность, обеспеченная родителями, а не добытая с их помощью, не формирует у ребенка такой идентичности, которая порождала бы в нем ответственность за свое тело, идентичности, включающей право на инициативу, которая компенсируется его ответственностью за самого себя, идентичности, подкрепленной опытом самозащиты, поставленной на службу целостности его тела, идентичности, общей со всеми его товарищами-ровесниками с самого раннего возраста.
В европейских странах ребенок сегодня более подвижен, ведет более кочевой образ жизни, чем его дедушки и бабушки в том же возрасте; он больше ездит, слышит больше разговоров о путешествиях, видит изображения далеких стран; но в то же время гораздо хуже знаком с природой. Городская жизнь не учит его, что такое земля, времена года, что такое небо, звезды, место человека в живом мире. Такое географическое расширение потребовало бы все более и более богатой социальной жизни, к которой, пока он мал, его не приобщают. Теперь ребенок может преодолеть это исключительно посредством социальной жизни, а не в одиночку. Он слишком долго остается замкнутым в семье.
Если сравнить путешествия пятидесятилетней давности, которые были реже, но приносили больше неожиданностей, с теми поездками, какие совершаем мы в наше время, мы увидим, что в смысле опыта ребенок ничего не выиграл. Сегодня во время путешествия для него все подготовлено, все разжевано. Едет ли он в автомобиле, летит ли самолетом, он остается в своем коконе. Раньше он участвовал в гораздо менее быстром и менее комфортабельном путешествии, в котором были отдельные перегоны, был больший риск аварии. А теперь то же заточение – просто переносится из одной точки в другую.
И взрослый сегодня испытывает те же ограничения. Не то было с его предшественниками. Ребенок во время путешествия находится теперь в точности на том же уровне опыта, что и взрослые. Разницы вообще не осталось, не считая того, что дети не знают, как добыть документы или деньги. Но безопасность, даруемая удостоверением личности, весьма относительна. Если поезд остановится, большинство пассажиров не будут знать, как им быть дальше. Их перевозят из одного пункта в другой просто потому, что у них есть деньги и документы. Взрослые не умеют передвигаться самостоятельно, точно так же как дети, и при малейшем непредвиденном обстоятельстве они, так же как дети, теряют голову. Это лишает путешествия всякой воспитательной ценности. И ликование руководителей, уверяющих: «Сегодня у ребенка больше шансов обрести автономию, найти свое место, чем раньше», – ни на чем не основано. На самом деле наблюдается регрессия.
Ребенок может обрести автономию, если родители поделятся с ним своим знанием… ведь все, касающееся передвижений по городу, дети знают не хуже взрослых: чуть не с трех лет они умеют пользоваться и автобусом, и метро… Но что поделаешь, если взрослый только и думает, как бы оставить ребенка без пространственной свободы, лишить его права на инициативу и на свободу передвижения, чтобы как можно дольше удерживать его под властью взрослых? Похоже, что даже техника, которую дети могли бы эффективно использовать, если бы их правильно проинформировали, как нарочно оборачивается против ребенка только потому, что взрослые желают сохранить над детьми неограниченную власть. Родители настолько инфантилизированы, что им нужны дети еще более инфантильные, чем они сами.
Не так опасны сами инструменты, которыми обзавелось общество, как позиция родителей, которые, быть может, пользуются всеми этими инструментами, чтобы запугивать детей и садистично помыкать ими. Современная техника, возможно, успокаивает их совесть, подсказывая, что их детям больше повезло, чем предыдущим поколениям: они-де и свободней, и автономней, и это в конечном счете позволяет родителям, находя себе массу оправданий, оказывать на детей большее давление, не испытывая при этом угрызений совести. Выращивание детей в неволе, воспитание в тесных рамках – это новая язва так называемого цивилизованного общества.
На стадии вскармливания обучение ребенка проходит очень плохо, тем хуже, чем меньше еда соответствует желанию малыша. Его не спрашивают ни чего бы он хотел получить от матери, ни хочет ли он есть вообще. Он должен есть. Если он не ест «хорошо», то бишь в тех количествах, в каких это предусмотрено взрослыми, ему угрожают, как будто он поступил очень плохо. В наших западных обществах у него даже нет права на собственном опыте испытать голод: человечество в целом испытывает нехватку пищи – а мы пичкаем детей насильно.
– Если не будешь есть, доктор будет делать тебе уколы!
Доходит до того – трудно поверить! – что ребенку угрозами и дрессировкой хотят привить не только потребность в пище, но и по желанию взрослого – выделение экскрементов!
Еще одна угроза: ты не вырастешь.
В дело вмешивается медицина, своей властью насаждая насильственное кормление… И у ребенка уже нет выбора. Он лишен права быть голодным или хотеть той еды, какой хочется ему. Кстати, потому-то в перерывах между едой он и набрасывается на автоматы, торгующие сластями… Они возвращают ему былую радость сосания, и к тому же он испытывает потребность поесть в не отведенные специально для этого часы. Многие семьи удивляются, видя, что у ребенка в положенные часы нет аппетита, нет влечения к пище. В некоторых школах вместо завтрака ровно в полдень, как принято в интернатах, введено самообслуживание, и результаты прекрасные. Повар видит, какие блюда остаются несъеденными, то есть что детям нравится меньше. Детям предлагается на выбор одно из двух блюд. И ребенок с аппетитом съедает то, что сам выбрал. Бывает, что выбранный им завтрак не слишком похож на обычный, но он доволен. В довершение всего можно и поменяться: он с этим блюдом, что сам выбрал, может делать что хочет, – может сказать кому-то из сидящих напротив товарищей: «Ладно, хочешь – бери… два десерта в обмен на… сыр…» и т. д.
А почему бы и нет? В семье это было бы сложнее. Хотя везде, где восстанавливают в правах свободу и право выбора, гуманизма куда как больше.
Но общество убеждено, что дети, как солдаты, должны получать свой паек, и подкрепляет это мнение авторитетом медицины. Диететика превратилась в принуждение есть то, что полезно для здоровья, сбалансировано и т. д.
Ребенку трудно отстаивать свою автономию в перемещениях, жестах, инициативе, когда его любопытство, изобретательность, тяга к открытиям не находят отклика. Например, когда ребенок причинил себе боль и со слезами приходит сказать об этом, многие ли матери спросят: «А ты понял, почему ударился? Отчего так получилось?»
Многие ли матери позаботятся узнать, извлек ли ребенок опыт из случившегося, чтобы в следующий раз оказаться в безопасности? Если мать поговорит об этом с ребенком, то в дальнейшем он воспользуется своим скромным опытом относительной беззащитности, которую не предусмотрел в прошлый раз. Но, как правило, мать не позволяет ребенку вернуться к опасному занятию и закрепить добытый опыт. «Ах, раз так, ты больше туда не пойдешь», – и мать разрушает плоды опыта, приобретенного ребенком. Если после того, как он подвергся какому-либо риску, с ним поговорили, не ругая его, он застрахован на будущее. Как часто матери-наседки поступают наоборот! Ушибся во время катания на лыжах? – «Ну хорошо же, больше ты на лыжах кататься не будешь!» Упал, сбегая по лестнице? – «Все, с сегодняшнего дня ездишь только в лифте!» Застрял в лифте? – «Будешь ходить по лестнице!»
Если он сам после своего опыта предпочитает больше не ездить в лифте – это его дело, но с какой стати мать должна мешать ему повторить опыт, из которого он вышел с честью и извлек пользу? Он такой же человек, как другие.
Очень часто матери налагают запрет на двухколесные велосипеды. Дети все с более и более раннего возраста, лет с десяти, хотят ездить на велосипеде старшего брата или приятеля. Многие матери в ответ на это желание говорят: «Нет, только не это! И не мечтай!» – и запрещают мотоцикл даже восемнадцатилетним юношам, совершеннолетним.
Самый конструктивный путь – очень рано предупреждать детей об опасности, ничего не запрещая.
Это недоверие к человеку. У каждого своя судьба. Все люди рождаются, чтобы умереть, и за страхом преждевременной смерти всегда мерцают фантазии о желании умереть. Самый конструктивный путь – очень рано предупреждать детей об опасности, ничего не запрещая. Для ребенка это лучший способ избежать неизбежных опасностей, хорошо изучить свой велосипед или мотоцикл и правила движения на дорогах, научиться управлять собой, развить наблюдательность и пытливость. Почему бы не сказать ему: «Слушай, ты должен знать: страшна не столько смерть на месте, сколько то, что можно остаться инвалидом на всю жизнь. Каждый из нас – хозяин своей жизни». И привести в пример жертвы несчастных случаев из центра Гарш. Неплохо, вообще говоря, информировать об этом ребенка, лишь бы не мешать ему действовать самостоятельно: «Ты предупрежден. Теперь делай, как хочешь».
После несчастного случая можно остаться калекой – это правда. Увы, тому есть много примеров. Тем не менее это не причина запрещать ребенку кататься на двухколесном велосипеде в возрасте, в котором это разрешено законом. Теперь, когда ребенок знает, что рискует, это его проблема. И если он сам увидит, как другой ребенок перевернулся, он почерпнет много больше, чем если бы ему рассказали об этом. Гуманистическое воспитание – это опыт, основанный на пережитом.
Когда-то смерть находилась поблизости от нас; ее удалили из жизни детей, причем опять-таки подчиняясь маниакальному стремлению их оберегать, которое сводится к тому, чтобы скрывать от детей все, чего боятся взрослые: одряхление, болезнь, смерть. Детей надо допускать к смертному одру. Речь не о том, чтобы тащить их к постели усопшего, достаточно нескольких слов в ответ на вопрос ребенка: «А я увижу мертвого дядю?»
– Ты хочешь сказать, покойника? Если хочешь, можешь пойти со мной.
Пускай ребенок, если желает, посмотрит на покойного (особенно если это его родственник), не повергая этим взрослых в негодование. Как часто детей избавляют от этого опыта, когда речь идет об их отце, дедушке, бабушке или матери, и даже не пускают на похороны![80]
Недавно доминиканский монастырь в Тулузе пригласил меня рассказать о смерти; в программе были лекции Филиппа Ариеса «Смерть в истории», Шварценберга «Смерть раковых больных», Жинетты и Эмиля Рембо «Смерть неизлечимо больных детей». В тот вечер, на который была назначена моя лекция о смерти, в огромной церкви оказалось больше трех тысяч человек. Я была потрясена: столько молодых людей пришли послушать человека, знающего об этом не больше, чем они!
– Я не больше вашего знаю о смерти, а вы хотите меня слушать!
Какой интерес слушать, как человек рассказывает о том, чего сам не знает? Да, это поразительно. Сущий сюрреализм.
– Может быть, вы знаете ответ на вопрос, почему столько народу привлекла тема вашей лекции?
– Вот вы и ответили мне на него сами!
Смерть выключена из потока существования; с ранних лет жизни она существует только в виде фантазма. И вот кто-то будет о ней говорить, и мы поверим, что этот человек не находится в плену фантазма. О смерти нам, не столкнувшимся с нею, знать невозможно.
В книге Раймонда Моуди «Жизнь после жизни»[81] собраны свидетельства тех, кто побывал в продолжительной коме, в прихожей у смерти, тех, кто подошел к смерти вплотную.
Именно о том опыте сообщали мне люди, побывавшие в коме. Они пережили точно то же самое. Мне знакомы три-четыре человека, в том числе одна женщина, которая впала в глубокую кому после рождения дочери, без каких бы то ни было видимых физических причин, – причем при рождении сына ничего подобного с ней не было. В сущности, эта женщина пережила то, что пережила в свое время ее мать при ее появлении на свет. Она никогда не знала, что ее мать, когда она родилась, повредилась в уме, – та тоже не хотела видеть свою дочь, хотя и не испытывала желания ее убить. Подобные расстройства относят к послеродовым неврозам. Тогда их разлучили: девочку поручили гувернантке; ей говорили, что мать больна туберкулезом и лечится в Швейцарии. Девочка выросла, стала взрослой женщиной и после появления на свет второго ребенка, дочери, перенесла послеродовой нервный кризис, воспроизведя, в сущности, то, что некогда произошло с ее матерью, хотя ничего об этом не знала; она была на волосок от смерти, оставаясь, однако, во вполне ясном уме. Родители молодой женщины приехали навестить дочь. Но мать не вошла к ней, не в силах видеть умирающую дочь: это была фобия[82]. Отец навестил ее один и увиделся с зятем. Он рассказал ему историю рождения своей дочери. Молодой муж, который когда-то проходил курс психоанализа, пришел ко мне в полном отчаянии:
– Я этого не вынесу! Если жена, выйдя из комы, на всю жизнь останется калекой, я лучше ее убью! Вы еще увидите мое имя в газетах!
Его жена была молодая красивая женщина, он ее обожал. Он отказывался примириться с тем, что она на всю жизнь останется полностью парализованной, – таков был посткоматозный прогноз при условии выхода женщины из комы, что было сомнительно, учитывая плоский след электроэнцефалограммы. Она находилась в реанимационной палате, а он переживал глубокую драму и пришел ко мне за поддержкой! Я велела ему пойти поесть, потом поспать – вот уже два дня он не делал ни того ни другого, – а потом навестить жену и, несмотря на то, что она продолжает находиться в коматозном состоянии, рассказать ей историю ее рождения. В то самое время, что он ей все это рассказывал, кривая электроэнцефалограммы поползла вверх и женщина очнулась. Ее первые слова были: «По-моему, я знаю, почему я не имела права иметь дочь».
Потому-то она и впала в коматозное состояние, хотя у нее не было никаких симптомов эклампсии[83], вероятность которой не исключалась. Кома наступила ровно через двенадцать часов после рождения дочери. В ее случае, вопреки видимости, это была чистая истерия, но если бы ей не объяснили смысл ее симптомов, она бы умерла. Позже она рассказала мужу, как она переживала свою кому. Она находилась где-то на потолке, в углу, и, свидетельница происходившего, наблюдала за мужем и хирургом-реаниматором, которые суетились вокруг какого-то силуэта из бумаги, напоминавшего ей картину, и это плоское изображение была она сама, та, какою она сама себя представляет. Они произносили, она слышала, слово («означающее», как говорит Лакан[84]) – слово «плоская». (Речь шла о кривой электроэнцефалограммы: «след плоский».) Она их слышала. А ее слышали? Ведь она была там, под потолком, одновременно любопытная и равнодушная к тому, что происходило в палате.
– Она плоская, верно, совсем пло-пло… – думала она. – Что они будут с ней делать? Как они ее утолстят? Это же бумага, у нее внутри ничего нет.
Потом, спустя какое-то неопределенное время, – рассказала она мужу, – она уже не знала, где находится, но вокруг была чудовищная темнота с ощущением сильной физической и душевной боли. Она вернулась в собственное изображение, проникла в него через череп и с чудовищной болью заполнила собой свое тело; и с «воплощением» она вновь обрела чувствительность. А как приятно было до того находиться вне тела и ничего не чувствовать. И в этот миг она почувствовала, как муж сжимает ей руку, она открыла глаза и сказала ему: «По-моему, я знаю, почему я не имела права иметь дочь…» А потом: «Я хочу посмотреть на дочку».
Муж рассказал реаниматору о «пробуждении» жены, и тот сказал: «Ни в коем случае! Объясните ей, что малышка осталась в родильном доме, и что она сама туда вернется, но только после того, как полностью поправится».
Реаниматор констатировал возобновление ритма электроэнцефалограммы.
Итак, эта женщина полностью поправилась, без каких бы то ни было последствий, после того, как дважды след энцефалограммы становился плоским. Опыт, который она пережила, заключался в том, что она, находясь вне собственного тела, была свидетельницей всего происходившего с ним, не испытывая страданий, не помня, что она только что родила, не помня, кто она такая. Она смотрела на своего мужа, но не как на мужа, а просто как на человека, проявлявшего внимание к ее плоскому изображению. Полагаю, что подобное ощущение стороннего наблюдателя существует также и у маленьких детей, когда они лишены любви и ласковых слов родителей. Я думаю, что дети – свидетели, и что это как раз формирует в них понятливость и сообразительность. Когда они слушают разговоры, – не слушая, и все-таки слушая, – они являются свидетелями в качестве абстрактных живых существ. Такое состояние возможно не только после смерти – все мы, живые, можем в нем находиться. Любой может оказаться в таком, якобы, «посткоматозном» состоянии, причем окружающие об этом не подозревают, полагая, что младенцы и совсем маленькие, бессловесные дети ничего не понимают.
Возможно, дети, будущие взрослые, наделены особым даром восприятия, особыми способностями, характерными для этого этапа становления.
У детей нет никакого страха смерти. Почему родители не хотят, чтобы дети вступали в какой бы то ни было контакт со смертью, коль скоро они ее совершенно не боятся? Для детей смерть – это факт, по поводу которого они задают себе вопросы. И их не пугает то, что они не могут ответить: они ищут.
Чего боятся взрослые? Им страшно, что их дети, у которых нет страха смерти, захотят на собственном опыте испытать, что это такое, и тогда они, взрослые, останутся без потомства. По-моему, дело именно в этом. Но дети не боятся смерти. Я знакома с несколькими маленькими пироманами[85]. Их пытаются вылечить. Но они не боятся сгореть. Они хотят на опыте попробовать, что это такое, и возможная смерть ничуть их не смущает. И другие пускай тоже сгорят, почему бы и нет… В конце концов, почему бы не предоставить другим людям возможность испытать то же, что хочешь испытать сам. «Что будет, если огонь меня сожжет?» У ребенка нет опыта, но он хотел бы приобрести этот опыт, пусть даже ценой собственной жизни. Для него жизнь имеет смысл только если он может удовлетворить свое ненасытное любопытство. И думаю, что родители этого и боятся, потому что для ребенка цель смерти только в одном: как всё, о чем при них говорят, она может оказаться способом позабавиться. Я вспоминаю заявление Жилля Вильнева, автогонщика, который погиб на гонках на Большой приз Канады. Он множество раз переворачивался со своей машиной и залечивал бесчисленные переломы, но не мог вообразить, что погибнет в результате несчастного случая: «Я никогда не погибну от несчастного случая, – сказал он по радио. – Да, возможно, я еще попаду в переделку, ну и что? Каждый раз я выкарабкиваюсь и чувствую себя еще лучше, чем прежде!»
У него не было чувства ответственности за жену и двоих детей. Мне это интервью показалось идиотским, в особенности сопровождавший его комментарий. На другой день после передачи он разбился во время гонок. Нельзя делать героя из взрослого человека, который, будучи отцом семейства, ведет такие речи и демонстрирует свою безответственность. Следовало сказать: «Этот гонщик застраховал свою жизнь на такую-то сумму, чтобы его дети, несмотря на гибель отца, получили образование благодаря его заботе; он подумал и о жене: она получит крупную сумму по страховке». Нельзя ставить в пример человека, который, занимаясь опасной работой, не желает сознавать последствия своих поступков. В сущности, у этого гонщика осталось детское сознание. Но ведь он уже был не ребенок. Другое дело – готовность рискнуть всем ради идеи, которая послужит другим. Но риск этого гонщика не служил никому, кроме него самого: быть первым, опередить всех. Дети и в самом деле не испытывают страха перед тем, чего не знают, потому что именно неведомое их возбуждает: это эпистемологическое[86] влечение – познать и возродиться в этом новом знании… И в конце концов, здесь все те же корни, что у желания. Желание – это тяга к новому. Но существует структура, которая появляется в нашем разуме, когда он становится сознательным: это ответственность. Чувство принадлежности к социальной системе, за которую мы ответственны: сначала оно ограничено семьей, потом распространяется на всех, кого мы любим, а потом – на все общество. Есть ответственность каждого по отношению ко всем. И я полагаю, что человек, не прошедший этой стадии эволюции – ответственность каждого за всех – остался несовершенным существом. И в его жизни остается нерешенным конечный вопрос. Есть ли у него духовная цель – или все сводится к тому, чтобы превратиться в труп? Прах и тлен…
В этом, как мне кажется, состоит различие между людьми, в том числе и между психоаналитиками… Что до меня, то я не думаю, что эволюция человека, поскольку мы существа плотские, заканчивается кладбищем. Я полагаю, что здесь участвует теллурическое, планетарное в нашем существовании. Но кто может мне сказать, права я или нет? Я думаю, что есть и другая часть, есть что-то другое, потому что слово не является частью земли. Слово не является чистой символикой смысла. Не относится оно и к тому, что происходит из материальных элементов земли; потенциал слова содержится в человеческом роде, но человек помимо своей телесной эфемерной жизни на планете Земля наделен словом, наделен смыслом. И мне могут возразить (причем это будет сущая правда, я не отказываюсь): «Вы говорите так, потому что вы христианка».
Это правда! Но я думаю, что все цивилизации построены на духовности. И под страхом смертной казни я не могла бы думать иначе.
Даже для самого упорного скептика и агностика[87] очевидно удивительное совпадение между тем, что выявляет психоанализ (на основе опыта, на основе пережитого), и тем, что сказано в Ветхом Завете и в Евангелиях: это динамический строй человека.
Символическое показывает, что слово действительно распространяется по ту сторону, несет в себе потустороннее, доносится из потустороннего и из посюстороннего. Но значение слова этим не исчерпывается. Существует еще тонкая и творческая связь между людьми, которая словно ускользает от физических законов, преодолевая время и пространство.
Родители боятся и опасаются говорить с детьми о смерти как раз потому, что дети еще не обладают чувством ответственности за свою жизнь по отношению к другим людям, – у них есть только желания. И мне представляется, что в каждом из нас должен всегда оставаться ребенок, но в то же время каждый взрослый, мужчина и женщина, если он произвел на свет живое существо, должен обладать чувством ответственности. Необходимо и то, и другое. Пикассо рисует, как ребенок – но ребенок, усвоивший техническое мастерство и совершенство взрослого художника-труженика, способного к безупречному воспроизведению формы. И в то же время в нем остается ребенок с непосредственным взглядом и способностью к восхищению; руки искусного взрослого способствуют постоянному созиданию форм, не имеющих ничего общего со статическими «механическими» формами; это формы его внутренней жизни, взволнованной и трепещущей от соприкосновения с действительностью, которую он воспроизводит со свободной изобретательностью ребенка и в то же время с техническим мастерством человека, который не малюет как попало, а абсолютно владеет композицией, линией, цветом, чтобы сознательно выразить живущий в нем дух желания, в то время как ребенок, гениально или неуклюже, выражает свое желание бессознательно, не ведая, что творит. Он рисует для собственного удовольствия, поскольку его еще нисколько не коснулось ни чувство ответственности перед другими, ни влияние современного ему искусства.