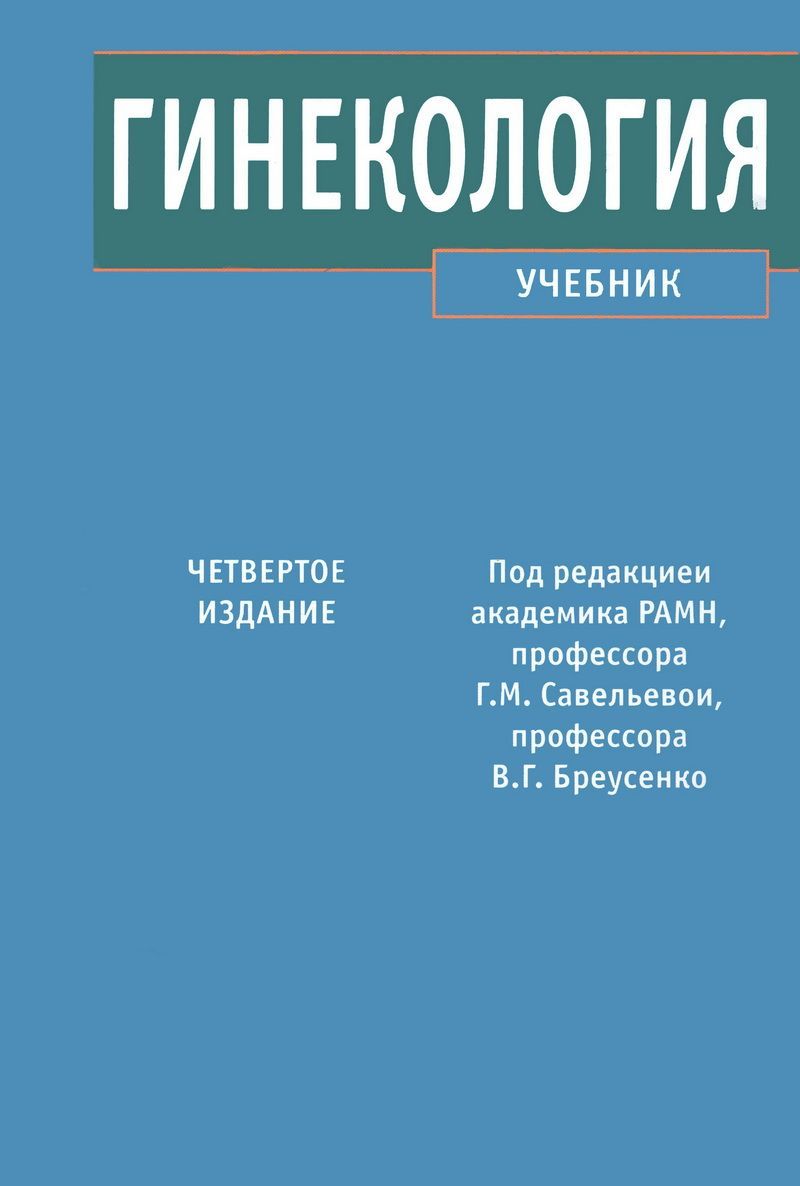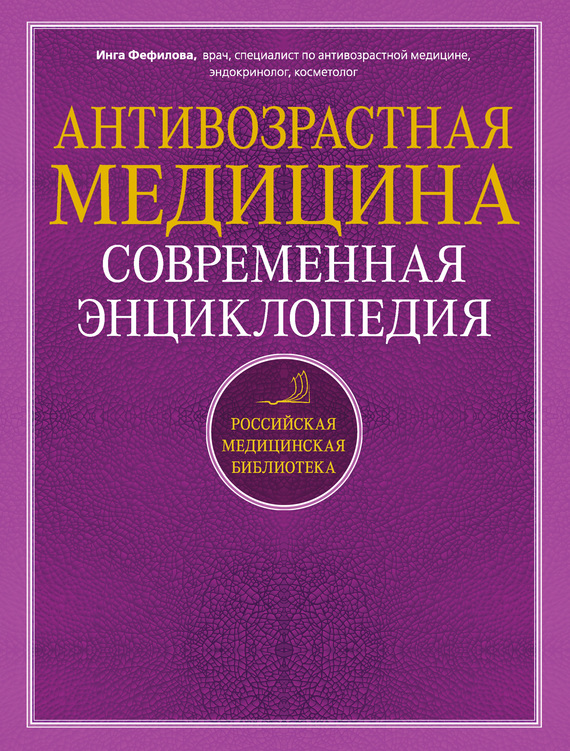«Новые» родители
У родителей есть странная манера преувеличивать неловкости в поведении их ребенка, хотя они утверждают, что из кожи вон лезут, чтобы помочь ему от них избавиться. Как часто матери десятилетних детей, мальчиков или девочек, в разговоре с ними называют себя в третьем лице: «Почему ты так обращаешься с матерью?» Я неуклонно обращаю на это их внимание. Далее следует примерно такой обмен репликами:
– Вот таким образом вы и разговариваете с дочерью?
– А что, это нехорошо?
– Вы ей говорите: «Маме надо идти по делам», – вы хотите, чтобы ваша дочь чувствовала себя десятилетней девочкой, а сами в разговоре с ней упоминаете о себе в третьем лице, как будто ей годик… И даже годовалому ребенку говорят «я», имея в виду себя. Вам самой нужно сходить на консультацию к специалисту, потому что вы заставляете вашу десятилетнюю дочь вести себя, как младенец.
– Да, вы правы, но я такая нервная; я все время хожу по врачам и принимаю лекарства по их назначению.
– Отложите лекарства и сходите на консультацию к тому, кто поможет вам разобраться, почему вы насильно удерживали вашего ребенка в форме, пригодной для младенцев, зачем вам это было нужно; теперь ваш ребенок выламывается из этой формы и причиняет вам страдания, потому что эта форма – вы, и вы трещите по всем швам… Сходите на консультацию.
С тех пор как по Франс-Интер я провела серию передач «Когда появляется ребенок», ко мне часто приходят родители, которым обратиться к психоаналитику следовало бы пораньше. Отцы начинают обнаруживать, что они… отцы. Недавно по поводу своей «малышки», у которой не все в порядке, позвонил мне один мужчина: «Честное слово, вы одна можете нам помочь!» – «Вы ее дедушка?» – «Да нет, что вы!» – «А сколько лет вашей дочери?» – «Двадцать два года…» – Вот вам и «малышка»! Тогда я сказала ему: «Позвольте, мсье, какой же вам видится ваша родная дочь, если до сих пор вы говорите о ней, как о маленькой девочке; ведь она уже четыре года как совершеннолетняя?» – «Да. Вы знаете, это долгая история… Эта малышка была для меня всем на свете». – «С каких пор вы считаете, – спросила я, – что с вашей дочерью не все в порядке?» – «С тех самых, как она поступила в лицей: у нее там ничего не получилось».
Он совершенно не понимал, что его дочь – психотик. А теперь у него дома душевнобольная: не двигается с места, сидит взаперти, устраивает скандалы. Но почему? Потому что отец установил с ней и продолжает сохранять отношения воображаемого собственничества, отношения между добрым дедушкой и маленькой девочкой, которая не в силах избавиться от этих отношений. По причинам патологического характера ее первый мужчина не сделал ее женщиной. И я вижу все больше и больше подобных случаев.
Если ребенок так и не прошел необходимых символических этапов, необходимо, сколько бы ни было ему лет, вернуться и пройти этот путь заново. Разве – вспомним Пиаже – невозможно найти себя, свой эмоциональный мир даже в ситуации, которую Пиаже описывал, имея в виду формирование интеллекта, когда ребенку уже исполнилось пятнадцать, а то и больше лет?
Например, если отец не смог обозначить свое присутствие в раннем возрасте ребенка, ничего не потеряно; он может попробовать создать со своим семи-восьмилетним ребенком языковые отношения, но при одном условии: он должен сказать этому ребенку, что раньше не понимал его. А чтобы добиться успеха, отцу необходима помощь ребенка, потому что на время ребенку предстоит стать отцом мужчины: именно ребенок сделает отца отцом посредством страдания, которое испытывает отец по отношению к нему, собственному ребенку, который до этого времени ребенком для него не был. Обоим можно оказать в этом поддержку – но поддерживать их должны разные люди. Это непременное условие, потому что если перенос происходит на одного и того же человека у обоих, то отец как бы становится братом-близнецом собственного ребенка, а ребенок в свою очередь тормозится в установлении собственных отношений с психоаналитиком. Отец должен проделать путь с другим человеком, исходя из своей истории, а ребенок тем временем пользуется помощью другого психоаналитика, который разрешает ему жить, как сироте, и говорить о своем отце, который также был сиротой, пока благодаря своему ребенку и его проблемам не обратился к психоаналитику. Это очень трудная работа, и не знаю, можно ли ввести ее в общую практику. Но как бы то ни было, только в речевых отношениях отец и сын смогут взаимно понять друг друга как несчастных, потерянных людей. Если родитель и ребенок хотят обрести друг друга, это должно идти с обеих сторон. Сближение произойдет, если обоим помогут понять, что отец для сына, а сын для отца – одинаково ценные в духовном отношении существа.
Если родитель и ребенок хотят обрести друг друга, это должно идти с обеих сторон. Сближение произойдет, если обоим помогут понять, что отец для сына, а сын для отца – одинаково ценные в духовном отношении существа.
К рожку с соской в десять лет, безусловно, не вернешься. Это невозможно точно так же, как, если мы имеем дело с ребенком, с рождения не получавшим необходимого питания и теперь проявляющим явные симптомы рахита, исправить его скелет, давая ему – в десять лет – полноценные молочные смеси, которых он не получил в младенчестве. Это – свершившийся факт. Но самое важное у человека – не тело; жизнеспособным делает человека психическая коммуникация при соблюдении ценностного равенства с тем, кто обращается к нему и к кому обращается он. Именно в этом состоит открытие психоанализа; важно лишь, чтобы ребенка или молодого человека, склонного к тревоге или затворничеству, консультировал квалифицированный психоаналитик. На всех уровнях необходим резонанс восприятия и слуха как в вербальном языке, так и в довербальном, то есть в языке мимики, жестов, музыкальных ритмов, живописи, скульптуры. Мы ничего не знаем ни о том, как воспринимается другим человеком вербальный язык, ни о том, носителем каких представлений он является в физической организации человека. Если я заговорю с вами на языке понятий, если я скажу вам «собака» – это будет просто сочетание звуков, со-ба-ка, пока мы не внесем уточнений: «Какой породы собаку ты себе представляешь, когда я с тобой говорю?» Какой воображаемый образ вызывает это понятие у того, с кем говорят, и у того, кто говорит? Может быть, их понятия ничуть не совпадают. И так всегда. Если вы говорите человеку: «твоя семья», – для него это может означать «ад». А для обращающегося к нему это значит: «У тебя же есть семья!» Для говорящего слово «семья» означает место, где можно найти помощь, почерпнуть силу, источник радостей, праздник. Но если для того, к кому обращаются, семья означает ад, он, слыша это слово, чувствует, что на него нападают со всех сторон. Тот, кто задыхается в семейных узах, скажет: «Семья? Ненавижу». А блудного сына возврат в семью может ободрить и укрепить. Все зависит от того, что именно представляет в истории данного субъекта семейная группа. Он или бежит от нее, или ее ищет.
Средства массовой информации, телевидение, журналы выдвигают на первый план «папу-наседку», отцов-одиночек, которые нянчат детей[166] . Это течение оказало свое влияние на некоторых отцов из тех, что прежде блистали своим многолетним отсутствием у домашнего очага. Теперь, когда их дети уже стали подростками, им жалко, что в те годы, когда эти дети были оставлены целиком на попечении матерей, они не дали им всего того, что было бы желательно. Они чувствуют, что что-то упустили, у них нечиста совесть. И вот они пытаются наверстать упущенное и ведут себя с детьми в точности так, как следовало вести себя с ними, когда этим детям было три года. Они целуют, ласкают ребенка, и т. д., хотя раньше они этого не делали[167].
Разумеется, это надо делать не тогда, когда ребенку уже исполнилось семь или даже десять лет. Ребенку несомненно нужен отец, но уже не на этом языковом уровне. Такое поведение – гомосексуальная эротизация ребенка со стороны отца, причем в наиболее тяжелой форме. Для ребенка лучше, чтобы его эротизировал кто угодно чужой, но только не отец. В сущности, будучи его родителем, этот мужчина, отец, обращает время вспять, способствуя регрессии и в своей собственной истории, и в отношениях между ними обоими, хотя отцу представляется, что он помогает ребенку и способствует его прогрессу. Эти отцы-невротики очень опасны, когда они внезапно обнаруживают, что их ребенок, которого они до сих пор не знают, сын или дочь, вот-вот «умрет» и превратится в юношу или девушку; они хотели бы оживить в себе ребенка, с которым в свое время обошлись, как с собакой. Они думают, что, играя в товарища, помогут ребенку совершить этот переход, заполнят оставшуюся лакуну. На самом деле это они сами хотят испытать то, чего когда-то себя лишили, навечно хотят сохранить отношения опекуна к опекаемому, которых им недостает, но время которых истекло.
Я подозреваю, что эти новые отцы, желающие не только помогать женам, но и подменять мать при ребенке, «беременны» неким смутным желанием опекать и нянчить; в них есть что-то каннибальское. То, как они говорят о своих малышах, наводит на мысль о любви-сосании. В данном случае отсутствуют отношения между двумя одинаково ценными человеческими личностями. Такой взрослый не входит в контакт с будущим мужчиной или с будущей женщиной, чувствуя свою ответственность за ребенка, чье тело пока еще слабо, но чей ум уже равен его уму. Ведь ум ребенка по ценности равен уму взрослого. И самое главное – не следует препятствовать пробуждению этого ребенка, но в то же время необходимо поддерживать с ним аутентичное общение. Если цепляться за этого ребенка, как за спасительный круг, он рискует почувствовать себя частью взрослого. Что правда, то правда: некоторые дети придают сил своим родителям. Но установить с ребенком здоровые отношения, ничем ему не вредящие, можно только в том случае, если и родитель поддерживает отношения и общение с другими, и у ребенка также существуют отношения с другими людьми (взрослыми и его возраста), а не только с ним (взрослым, опекающим, охраняющим его, любящим родителем).
Рассмотрим отношения взрослого с ребенком, которому он приходится отцом. Они зависят от того, чем для него был или не был его собственный отец. Если этот взрослый преждевременно потерял или вообще не знал отца, со своим сыном он ведет себя совершенно неправильно, потому что не имеет никакого образца. Если он идентифицирует себя со своим отцом, он заблуждается еще больше, потому что воспитывает своего сына таким образом, как будто сын – это он сам в детстве; а если он противоречит своему отцу, то ведет себя опять-таки неверно, потому что единственный ориентир для него – обращаться с сыном не так, как обращались с ним, а наоборот; но в любом из этих трех случаев он воспитывает не детей, а себя, как будто в действительности его дети – это он сам; он воспитывает себя самого. Такая тенденция существует в отношениях взрослого к ребенку; эти отношения пагубны, пока отец не поймет, что мы не должны воспитывать в нашем ребенке самих себя, таких, какими были бы или какими хотели бы быть, потому что ребенок не должен стать ни таким, как мы, ни похожим на нас – он должен стать совсем другим, чем мы.
Мода всегда бросается из одной крайности в другую. В сфере воспитания это опасно. Педиатры слишком долго исключали отца из пары мать-дитя, и вот теперь отец набирает силу, и сегодня, в тот момент, когда матери приходят к осознанию того, что их ребенок – языковое существо, папа-наседка эротизирует ради собственной выгоды свое отношение к ребенку и обрушивает на ребенка избыток прикосновений и ласк, характерный для матерей-собственниц.
Сравним два противоположных случая, отстоящих друг от друга по времени десятилетия на три. В 50-х годах молодая преподавательница приходит к педиатру с шестимесячным младенцем, который чахнет на глазах. «Вы часто с ним говорите во время кормления?» – спрашивает встревоженный врач. – «Никогда не говорю. В этом возрасте он еще ничего не понимает».
Написавшая мне в 1984 году женщина, тоже преподавательница, домой после родов вернулась в депрессии, и, судя по ее письму, общалась с ребенком не больше: она буквально заставляла себя говорить с младенцем, хотя ей совершенно этого не хотелось. Она говорила, хотя ей нечего было сказать, – говорила, потому что слышала, что я рекомендую матерям устанавливать со своими младенцами речевые отношения. Пока она говорила что попало, ребенок отворачивал головку. Он улыбнулся ей только в три месяца, когда она наконец сумела выразить перед ним то, что чувствовала искренне, обрела «правдивый внутренний язык». В том, что касается качества слова, ребенка не проведешь.
В Соединенных Штатах 65-летний д-р Томас Брейзлтон, так же, как Франц Вельдман во Франции, будучи сторонником хаптономии (от греческого слова, означающего «касаться»), старается внушить будущим отцам представления обо всей полноте активной роли, которую им предстоит взять на себя, чтобы способствовать здоровому развитию и формированию ребенка. Но я с некоторой сдержанностью отношусь к тому зрелищу, которое нам показали по телевизору: оно может породить недоразумение со стороны адептов, которые рискуют увидеть в таком типе врача замену отца или дедушки (искусство быть улыбчивым дедом не входит в компетенцию педиатра). Не следует ни эротизировать, ни «ангелизировать» отношения отца к ребенку. Хаптономия – это не особая манипулятивная техника, применяемая к детям, это способ побудить родителей и педиатров к установлению всеобъемлющих здоровых отношений, которые оказывали бы как физическое, так и символическое влияние на обретение совсем маленькими детьми чувства экзистенциальной безопасности.