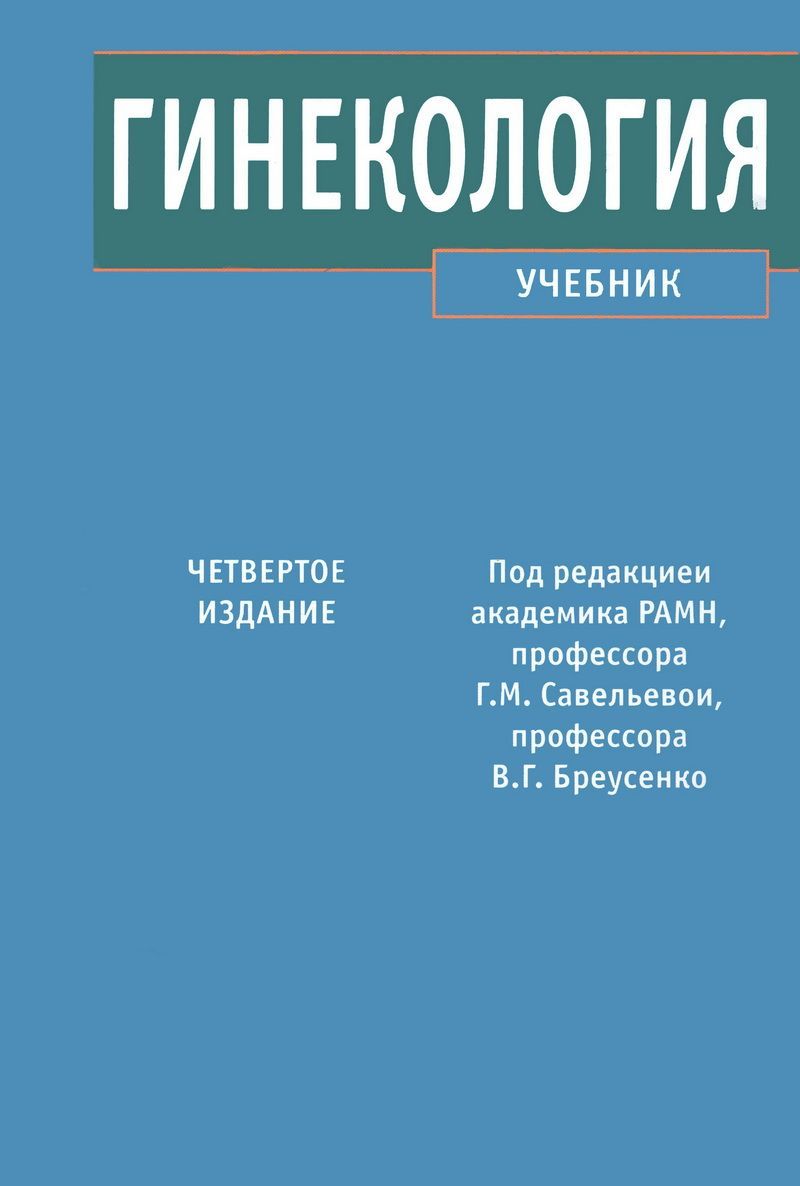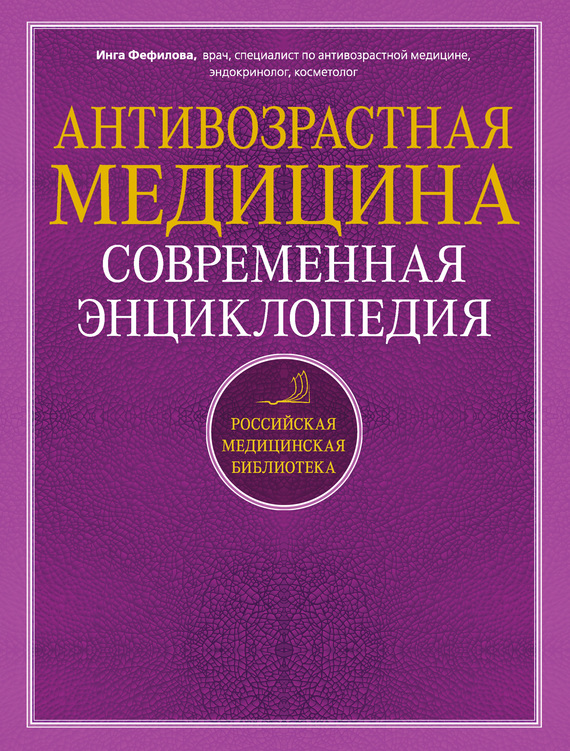Младенец – животное и маленький мужчина…
Умиляться детенышами животных – самое распространенное явление. Особенно детенышами млекопитающих.
Это умиление происходит несомненно оттого, что мы сами в детстве были такими же маленькими млекопитающими, не умеющими выразить себя иначе как посредством моторики. Это переносит нас назад в эпоху, когда мы не бывали ни правыми, ни виноватыми, каким бы неловким ни оказывалось наше речевое поведение – которое к тому же облекали в слова не мы, а взрослые, – и я думаю, что именно поэтому многие люди мучительно тяготятся собственным телом, и, чтобы выйти из этого состояния, испытывают потребность в алкоголе, который возвращает их в ту эпоху, когда для них существовал один-единственный способ общения с миром: находясь в состоянии опьянения, они не критикуют собственное поведение, то есть поступают подобно животным. По этой же причине люди испытывают потребность в домашнем животном.
Быть может, поглощение возбуждающих настоев и крепких напитков продиктовано и у так называемых первобытных племен, и в современном обществе – тайным и неодолимым стремлением обрести гипотетическое спокойствие первых антропоидов, избавиться от тревоги, присущей человеку, сознающему себя одиноким в безотрадном настоящем между мертвым прошлым и еще не живым будущим?
Всякий раз, когда мы пьем что-либо более или менее крепкое – горячее или охлажденное, – словом, что-то поднимающее температуру нашего тела, в нашем желудке и во всем теле создается некое архаическое ощущение полноты. Именно оно и успокаивает человека со времен его самых архаических связей с другими людьми.
Проанализируем тот экстаз, в который нас приводит вид звериного детеныша. Не подменяем ли мы им в своем бессознательном детеныша человеческого?
Это никак не характеризует того, кто оказывается объектом этого мимолетного желания. Многие матери по отношению к своим младенцам употребляют эротофильский язык: они дают себе волю, дурачатся, как если бы ласкали маленького зверька. Это – отношения из орального периода; один действует, другой претерпевает; здесь нет отношений между двумя субъектами; это отношения между «я» и «другим», в котором видят объект. Они ведут к отношениям, объект которых связан с анусом, то есть к желанию извергнуть объект, который сперва желательно поглотить. Если объект постоянно увеличивает свои притязания, для матери не остается места. И она стремится его извергнуть. Это история описана у Ионеско в пьесе «Амедей, или Как от него избавиться?» Сперва ребенок, который припеваючи живет в доме, такой славный! Поскольку он является субъектом, свое положение объекта он воспринимает как ценность в глазах родителей, которые служат ему образцами – ведь они взрослые: они растят его, чтобы он все время прибавлял и прибавлял в весе… Но он не знает, кто он такой; он – вес, и он становится таким же алчным, как его мать. И вот наступает момент, когда мать иссякла: чувствуется, что она ничего больше не может сделать; когда он ее не видит, он вопит, потому что хочет, чтобы его взяли на руки, как брали, когда он был маленьким. Но она больше не может носить его на руках: он стал слишком тяжелым. Он являет собой фаллическую экспансию (символически фаллическое означает никогда [для матери] не достижимую ценность).
Вместо Амедея можно привести в качестве примера детеныша животного, выращенного в квартире. В Штатах была мода на детенышей аллигатора: поначалу это бывало занятно, его укусы не причиняли вреда, он сидел себе в ванне, а потом оказывалось, что он уже способен отхватить палец своими челюстями. Когда он становился больше метра в длину, это оказывалось чересчур громоздко. Тогда его выбрасывали в сточный желоб, где он начинал размножаться. А потом начиналась охота на кошмарного аллигатора. То же самое происходит каждое лето, когда люди бросают животных. Их берут в дом, потому что они были маленькие. Но когда они вырастают, они начинают мешать. Люди отвечают за наносимый ими ущерб, за кражи, за шум, за лай. И вот животных выбрасывают на улицу. От них отделываются где-нибудь за городом.
Такое собственническое поведение спасает владельца животного от фрустраций: живое существо вырывают из пространства, где оно обитает, и делают с ним все, что хотят. То же самое часто делают и с ребенком: его отрывают от того, что составляет дух его пространства, вернее, вырывают из его телесного возраста, заключенного в его способе выражения, в его играх, в его общении с девочками и мальчиками его возраста. Взрослый отождествляет себя с ребенком, который, как ему кажется, получает удовольствие только от еды, и вот он его пичкает едой, хотя ребенок нуждается в уважительном отношении к своей личности и в субъекте, который поддерживает с ним проникнутое желанием общение; ребенок весь целиком существует в языке, все слышит, все понимает, но не умеет добиться, чтобы его услышали и поняли. В дальнейшем ребенок становится требовательным, страдает, если его разлучить с родителями – потому что в счастливую и еще бесконфликтную пору раннего детства он был частью существования своей матери, потом был объектом, которым она владела, объектом ее власти. Кошмар ребенка, который боится пантеры или волка, коренится в том, что в воображении ребенка поселилась пантера или волчица в образе его матери; мать и не подозревает, что он чувствует идущую от нее сознательную или закамуфлированную агрессивность, постоянным объектом которой он был в те времена, когда его отношения с миром и самая жизнь зависели от матери.
Как собака сопротивляется своему мучителю, так он обороняется, пуская в ход одновременно всю оральную и анальную энергию поступка (ночью испражняется в постель, днем в штанишки). Он делает так называемые глупости, экспериментирует на свой лад, а на его глупости реагируют то смехом, то бранью, то ласками, то криком, но никогда не пробуют справиться с ними при помощи языка, корректного разговора. Это толкает ребенка использовать не по назначению все предметы, которые попадаются ему на глаза. Такого ребенка все называют балованным, а на самом деле это несчастный ребенок – жертва, отвергнутая родителями, или жертва их требовательности. Он не может получить ни малейшей автономии, не угодив при этом в крайне опасную ситуацию или в полную зависимость.
Считается, что ребенок, не знавший отца или лишившийся матери, – это несчастный ребенок, которому очень трудно адаптироваться. Посторонние могут сделать очень многое для ребенка, о котором им известно, что он не знает своего отца, при условии, что они не дадут ему оторваться от своих корней и будут говорить с ним как с ребенком, который происходит пускай и от неизвестного родителя, но ценного уже одним тем, что произвел на свет сына или дочь. Никто не появляется на свет сам по себе и не рождается без отца – даже если он знает только свою мать; каждый человек имеет предков по двум линиям. Полагаю, что именно в этом состоит проблема усыновленных детей, как, впрочем, и родных.
Если в раннем детстве ребенка или в период беременности его матери его появление на свет считалось позором – какими бы причинами это ни было вызвано (тяжелые роды, нежеланное половое сношение), – ребенок может сохранить впечатление (особенно если эти мысли взрослых не облекались в слова), что значение его жизни сводится к боли, презрению, печали. Полагаю, что в этом случае он словно должен провоцировать свою мать, родную или приемную, которая его растит, чтобы она призналась ему, кто на самом деле его родной отец и родная мать. Думаю, что человек испытывает потребность ощутить связь со своим воплощенным происхождением, с тем, что мы зовем первоначальной сценой, то есть со сценой зачатия, продолжения рода; при этом ему нужно, чтобы те, кто с ним об этом говорит, принимали его нынешнего, даже если зачатие оказалось для его родительницы источником проблем, чтобы ему дали понять, что теперь они рады его зачатию или во всяком случае оправдывают его. Ребенку, даже если сегодня его любят, важен тот момент, когда встретились три желания и дали начало его аутентичной жизни; любовь не может отрезать его от истоков его существования в мире – существования, которое тогда было предметом надежд или стыда, а теперь стало предметом любви. Я полагаю, что положительное в человеке формирует именно эта непрерывность, прослеживающаяся начиная с зародыша. Если ребенка воспитывают не родные, а приемные родители или посторонние люди, они обязаны ему сказать: «Благословенны твои отец и мать, благодаря которым сегодня мне дано счастье любить тебя» или: «Как я благодарна твоим отцу с матерью!» Это и означает любить человека, любить сына или дочь мужчины и женщины, которые пожелали друг друга, чтобы произвести на свет дитя. «Сегодня я люблю в тебе представителя двух здесь и теперь перекрестившихся историй, существо, обладающее ценностью и достоинством, отпрыска двух семей, которому назначено быть творцом и, быть может, продолжателем своего рода». Я думаю, что именно в этом заключается для ребенка смысл его жизни, выражаемый посредством структурирующего высказывания здорового нарциссизма.
Права человека выражают правило, которое полностью оторвано от эмоционального бессознательного динамического контекста, выходящего за пределы материального тела. Если мы скажем: «Я уважаю тебя во имя прав индивидуума» – это ничего не значит. Это только слова… Это должно идти изнутри. Это должно быть внутренним убеждением взрослого, который их произносит. Математик сказал бы об этом так: все организуется вокруг самой маленькой точки; центр мира – это вот этот карандаш, это может быть все, что угодно. Все наши центры сводятся к одной-единственной точке; центр человека, который говорит с другим человеком, находится в центре этого собеседника, я – это тот, кто находится в центре своих детей, жены, тех, кого он любит, и все представители рода человеческого совпадают в одном, имеющем общее для всех происхождение. Думаю, что именно поэтому единый Бог имеет такое значение для нашей цивилизации. Этого единого Бога помещают куда угодно вовне, а между тем он здесь, в центре каждого человека, в одной и той же точке для каждого из нас. Мы еще не пришли к тому, чтобы это сказать. Это было сказано о Солнце: сперва Земля была центром мироздания, а затем открыли, что центром является Солнце. Теперь известно, что и Солнце – лишь мельчайшая частица Вселенной. В плане эмоциональной и духовной метафоры человеческого рода имела место та же революция в мышлении; «я» – одно и то же для каждого, и мы знаем: жизнь, исходящая от каждого из нас, исходит из одной и той же точки; такое же «я» есть в другом человеке[145]. Я думаю, что это – ключ к здоровью, который одни люди передают другим, или – ключ к болезни, которая передается путем заражения. Отвергнуть другого – значит отвергнуть часть самого себя.
Чтобы не обращаться с собеседником как с объектом, как с вещью, нужно сознавать, что являешься носителем этой точки, которая может быть также и центром другого, а другой, соответственно, тоже представляет собой другой идентичный центр.
Сознание этого у людей размыто в силу индивидуальной сенсорики организма. В своей сенсорике все мы – отдельные индивидуумы, и не можем жить в тесной, размывающей границы близости. Но между двумя отдельными существами возможна психическая коммуникация, потому что разум, дух есть у каждого, и этот дух – это, собственно, и есть слово, глагол, то есть передача желания; он искусственно разведен по разным местам, но всюду он – один и тот же. Люди говорят: «Мой Бог!» А что такое Мой Бог? Это то, что находится в центре нас; это близко, это внутри. А значит, это повсюду: центр – везде, а периферии нигде нет[146]; точно так же мы – отдельные существа в пространстве наших чувств, и все мы на периферии друг у друга.
Чаще всего наша сенсорика управляет отношениями взрослые – дети. Перед ребенком раннего возраста взрослый тает от наслаждения: наслаждаются зрение, слух, осязание. И с этим же ребенком, быть может, он вступает в контакт, чтобы примириться с той частью самого себя, о которой полностью забыл или которую подавил. А потом, когда ребенок вырастает и начинает ему мешать, потому что становится захватчиком, взрослый в один прекрасный день отказывается от этого типа эротизма, который толкал его на желание продолжать таким образом наслаждаться своим ребенком. Таково бессознательное человека.
В этой диалектике поглощения и извержения, захвата и отторжения, быть может, и заключается связь с жизнью и смертью.
«Я черпаю в тебе жизнь, я тебя опекаю, а потом в какой-то момент отвергаю, потому что ты стесняешь мою жизнь, ты несешь мне смерть, ты меня истощаешь, ты меня утомляешь, ты меня убиваешь». Мы часто слышим, как матери говорят о своих детях: «Он меня убивает». Здесь слышится ссылка на смерть, связанную с жизнью ребенка. А еще недавно этот самый ребенок слышал, как мать говорит о нем: «Он – моя жизнь; без него я жить не могу; нет, нет, я не в силах с ним расстаться». Это поведение млекопитающих. Пока их детеныши еще малы, они не могут выжить без матери. И тогда млекопитающее готово, рискуя собственной жизнью, прыгнуть в огонь ради спасения своего детеныша. А потом незаметно для них наступает момент, когда детеныш уже способен выжить, найти себе пропитание, защитить себя от других, а главное, когда у него наступает половая зрелость. У людей это приходит гораздо позже, чем у животных. Потому что у человека всегда существует некоторая путаница между желанием и потребностями. Взрослый – во всяком случае, взрослая мать, – и после родов продолжает символическое вынашивание ребенка. С того момента как она привязывается к младенцу, будь то его родительница или кормилица, она отвечает за этого младенца так же, как за свою собственную сохранность; если она кормит грудью, младенец нужен ей, чтобы сосать молоко, а если он не берет груди, ей даже приходится его сцеживать, потому что оно не пропадает сразу. А отцы – совершенно по нарциссическому образцу – черпают силу в том, что передают свое питание, свое достояние, свое знание, свою силу ребенку, как себе самим: со стороны кажется, что они испытывают потребность в этом ребенке, но на самом деле это не потребность, а желание, которое существует, пока ребенок не станет таким большим и сильным – почти как в «Амедее» Ионеско, – что уже непонятно, как от него отделаться, если собственное желание не увлечет его прочь из родной семьи. И вот он захватывает в свои руки все, они бы и рады были его бросить, но поздно: тот самый ребенок, о котором заботились, когда он был маленьким, теперь, превратившись в гиганта, становится домашним тираном.
Имеется ли биологическое обоснование для извращенных, плохих отношений взрослые-дети?
Да, это биологическое обоснование заключается в том, что желание смешивают с потребностью. Такое смешение существует у ребенка с самого начала: когда с ним говорят, слово, которое на расстоянии устанавливает связь между ним и взрослым (вербальный язык, само звучание слова), заменяет ему то ощущение физической наполненности, в которой он вновь и вновь, хоть и не постоянно, испытывает потребность. Есть желание, которое, будучи разбужено, становится постоянным. Это желание общения. Чтобы ребенку ощутить это общение, оно должно быть доступно разным вариантам восприятия. Если оно длительно и постоянно, он перестает его ощущать; это эмоциональный климат или постоянный поток слов, в котором купается ребенок; если общение монотонно, для ребенка оно вскоре перестает что-либо значить. Все то, что повторяется, теряет смысл для желания. Эмоциональное, сенсорное, понятийное разнообразие оказывает живительное воздействие на человеческие ум и сердце. А желание – это постоянный поиск нового; думаю, что биологически это происходит от огромного головного мозга, предвосхищающего наши поступки посредством воображения, которое обращается к памяти, к воспоминаниям о полученных ранее впечатлениях. Наши впечатления пересекаются под влиянием символической функции и в свою очередь создают новые отношения. Ребенок не может действовать, зато долго может воспринимать; он бы умер физически, если бы рядом с ним не было взрослого, который подходит к нему и обеспечивает его выживание. Итак, он является центром всего, что движется по направлению к нему, поддерживая его жизнь. И эта жизнь, которая становится все более зрелой, набирается информации, чтобы затем в свою очередь поступать так же по отношению к другому. Связь через кормление с воспитательницей позволяет ребенку понять действия своего тела, его отдельность от другого тела, возрастающую по мере того как воспитательница удаляется от него, и ему начинает ее не хватать, и она вновь к нему подходит. По мере развития у него возникает желание подойти к отсутствующему телу другого человека самому, самому что-то дать или взять, – и тогда он оказывается в состоянии символически брать или давать слова и сохранять их при себе, как заместителей другого в творческой деятельности его воображения, которая в свою очередь осуществляется с помощью материалов, которые предоставляют ему космос и промышленность. А для того чтобы у него было это эмоциональное разнообразие в проявлениях чувств и в устном языковом общении, необходимо, чтобы отношение ребенка к опекающему его взрослому было не двусторонним, а трехсторонним, чтобы он видел, что желанное существо, необходимое ему для выживания, внушает любовь и желание другому, который становится для ребенка образцом в сфере человеческих отношений. Язык, которым другой при нем пользуется, является для ребенка ориентиром, регулирующим отличие существующих между ними отношений, обусловленных желанием, и отношений, обусловленных потребностями. Таким образом этот другой побуждает ребенка – если он сам более развит, чем этот ребенок, – развиваться и приобретать те черты характера, которые, как он сам видит, имеют ценность в глазах избранного им существа. Желательно также, чтобы в группе детей существовали свои обычаи и правила поведения, которые поощряли бы и закрепляли его наблюдения. Во избежание всего монотонного, нескончаемого, избыточного некоторые типы обществ изобрели решения, которые сегодня не всегда применимы и возможны, но могут подсказать некоторые пути поиска равновесия. Например, распространить общение на других членов семьи или на соседей.