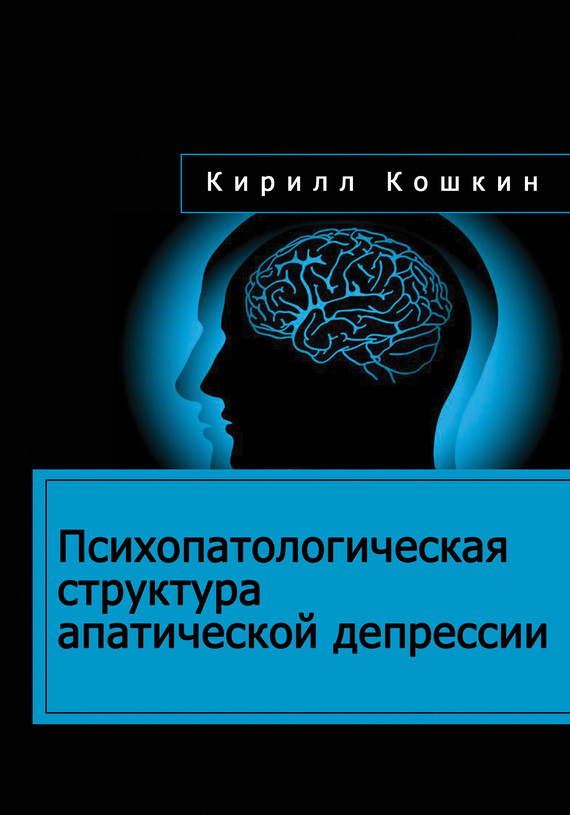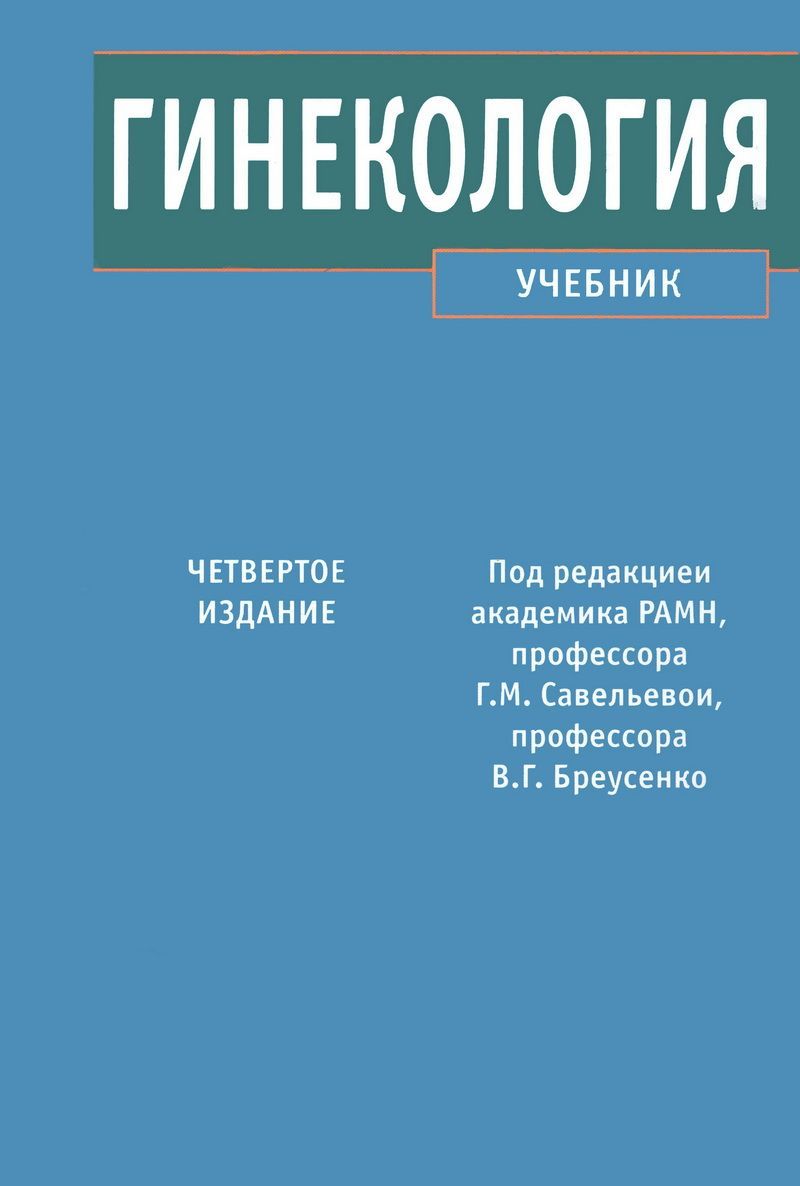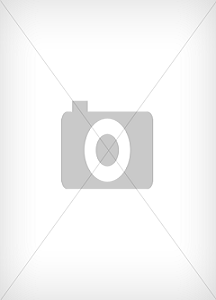4. Революционный импульс и его угасание
Нет необходимости подробно рассказывать о самой Гражданской войне, тем более что самое важное политическое событие, «Прокламация об освобождении рабов», уже упоминалось. Война отразила тот факт, что господствующие классы американского общества четко разделились на две части – намного более четко, чем правящий слой в Англии времен Пуританской революции или во Франции эпохи Французской революции. В ходе этих двух великих потрясений раздоры внутри правящих классов позволили проявиться тенденциям, возникшим в низших слоях, что было намного сильнее выражено во Франции, нежели в Англии. Во время Гражданской войны в Америке не произошло сравнимого с этим радикального выступления социальных низов.
Легко увидеть причины этого, по крайней мере в общих чертах: американские города не были переполнены угнетенными ремесленниками и потенциальными санкюлотами. Хотя и косвенным образом, существование западных земель уменьшило взрывной потенциал. Кроме того, не было необходимой основы для крестьянского восстания. Место крестьян на социальном дне Юга занимали в основном чернокожие рабы. Они либо не могли, либо не желали бунтовать. Для достижения наших целей точная причина не имеет значения. Хотя отдельные мятежи рабов случались, они не приводили к политическим последствиям. С этой стороны не могло возникнуть революционного движения.[99]
На пути революционного движения, т. е. попытки силового изменения установленного общественного порядка, встал северный капитализм. В группе, известной как радикальные республиканцы, идеалы аболиционизма, соединившись с интересами производителей, привели к краткой революционной вспышке, с шипением угасшей в трясине коррупции. Хотя радикалы были помехой для Линкольна во время войны, он смог одержать победу в значительной степени из-за сохранения Союза, т. е. без серьезной атаки на права собственности южан. За короткое время, около трех лет после окончания сражений, в 1865–1868 гг., когда радикальные республиканцы были у власти на Севере, в стане победителей, они начали наступление на плантаторскую систему и остатки рабовладения.
Вожди этой группы воспринимали войну как революционную борьбу между прогрессивным капитализмом и реакционным аграрным обществом, основанным на рабском труде. Даже если конфликт между Севером и Югом действительно был такого рода, это противоборство, наиболее важные сражения которого произошли после прекращения реальных боев, было обязано своим возникновением радикальным республиканцам. Сто лет спустя они кажутся последней революционной искрой чисто буржуазного и чисто капиталистического подъема, последними продолжателями дела средневековых горожан, выступивших против своих феодальных сюзеренов. После Гражданской войны революционные движения были либо антикапиталистическими, либо фашистскими и контрреволюционными, даже если они происходили в поддержку капитализма.
От идеологов аболиционизма и радикалов «Свободной земли» небольшая группа республиканских политиков переняла взгляд на рабство как на анахронический «остаток умирающего мира “баронов и крепостных – знати и рабов”». В Гражданской войне они видели возможность разрушить этот деспотический анахронизм, чтобы перестроить Юг по образу демократического и прогрессивного Севера, в основании которого были «свобода слова, свободный труд, школы и урны для голосования». Тадеуш Стивенс, лидер республиканцев в Палате представителей, на публике смягчавший свою позицию, в частном письме коллеге-юристу указывал, что страна нуждается в человеке власти (т. е. не в Линкольне), который «обладает достаточной цепкостью ума и достаточной нравственной силой, чтобы трактовать эти события как радикальную революцию и перестроить наши институции… Эти меры включали бы разорение и эмансипацию Юга, а также повторное заселение половины континента…» Импульс этому движению, переставшему быть просто шумной болтовней, придавал тот факт, что его интересы совпадали с интересами главных деловых кругов северного общества.[100] Одним из них была зарождавшаяся металлургическая промышленность Пенсильвании. Другой касался железных дорог. Стивенс действовал в Конгрессе как посредник между этими деловыми кругами, от каждого из которых он получал денежную компенсацию в согласии с господствовавшими политическими нравами [Current, 1942, p. 226–227, 312, 315–316]. Радикальные республиканцы также получали существенную поддержку со стороны рабочего класса на Севере. Даже если рабочие-северяне относились весьма прохладно к аболиционистской пропаганде, поскольку опасались конкуренции со стороны чернокожих и рассматривали аболиционистов Новой Англии как лицемерных представителей фабрикантов, они с большим энтузиазмом воспринимали идеи радикалов о защите тарифа и осторожном подходе к снижению завышенного курса северной валюты (см.: [Rayback, 1943, p. 152–163]). Финансовые и торговые круги, в свою очередь, относились к радикалам без энтузиазма. После войны принципиальные радикалы выступили против «северной плутократии» [Sharkey, 1959, p. 281–282, 287–289].
Таким образом, наступление радикалов не свидетельствует о сплоченной капиталистической атаке на плантаторскую систему. В момент его наивысшей энергии за ним стояла коалиция рабочих, промышленников и некоторых предпринимателей, связанных с железной дорогой. Тем не менее не было бы ошибкой назвать это предпринимательским и даже прогрессивным капитализмом; он привлекал к себе основные созидательные (и городские) силы, которые позже нравились Веблену в американском обществе, и отталкивал те силы, которые ему не нравились: снобов-финансистов, делавших деньги на продаже, а не производстве. В Тадеуше Стивенсе и его соратниках эта коалиция нашла умелое политическое руководство и достаточно умеренный интеллектуальный талант для выработки общей стратегии. У радикалов было объяснение того, куда движется общество и как они могут воспользоваться этими обстоятельствами. Для них Гражданская война была, во всяком случае потенциально, революцией. Военные победы и убийство Линкольна, которое они встретили с плохо скрываемой радостью, предоставили им кратковременную возможность для реальной попытки достичь своих целей.
Тадеуш Стивенс вновь обеспечил анализ ситуации и повседневное политическое руководство. По сути, его стратегия сводилась к тому, чтобы позаимствовать механизм федерального правительства в пользу тех групп, которые он представлял. Для этого необходимо было изменить южное общество, чтобы в Конгресс не вернулись лидеры плантаторов старой формации и не сорвали его планы. Из этой необходимости проистекает, какое значение имел небольшой революционный импульс для всей борьбы. Стивенс обладал достаточной социологической проницательностью, чтобы понять проблему и обдумать возможное решение, а также достаточной смелостью, чтобы попытаться осуществить его.
В своих выступлениях 1865 г. Стивенс представил широкой публике и Конгрессу на удивление последовательный анализ ситуации и программу действий. Юг следовало рассматривать как покоренный народ, а не ряд штатов, почему-то вышедших из Союза, которые теперь нужно было принять обратно. «Основание их институций политических, муниципальных и социальных нужно сломать и заложить заново, иначе наша кровь проливалась зря, а средства были потрачены впустую. Этого можно достичь, только если мы будем обращаться и считаться с ними как с покоренным народом».[101] Он настаивал на том, чтобы не позволять им возвращаться, «пока Конституция не изменена, согласно намерениям ее составителей; обеспечив постоянное преимущество партии Союза», т. е. республиканцев [Stevens, 1865, p. 5].
По тщательным и открытым расчетам Стивенса, пока южные штаты не «перестроены» – красноречивый эвфемизм для обозначения революции сверху, проникший из тогдашнего словоупотребления во все последующие историописания, – они могут с легкостью одолеть Север и таким образом выиграть после поражения в войне [Stevens, 1865, p. 5].
Из этих соображений возникла программа перестройки южного общества сверху донизу. Стивенс хотел разрушить власть плантаторов, конфисковав поместья площадью свыше двухсот акров, «даже если это принудит элиту (южан) эмигрировать». Таким образом, доказывал он, опираясь на данные статистики, федеральное правительство получит достаточно земли для того, чтобы выдать каждому негритянскому домохозяйству до сорока акров (цит. по: [Current, 1942, p. 215]). Выражение «сорок акров и мул» стало в то время запоминающимся лозунгом для дискредитации предположительно утопических надежд недавно освобожденных рабов. Но радикальные республиканцы не были утопистами, даже Стивенс им не был. Требование быстрой земельной реформы отражало реалистичное понимание, что никакое другое решение не уничтожит власть плантаторов. Они уже приготовились восстановить основания своей прежней власти другими средствами – они могли достичь в этом успеха, поскольку рабы были экономически беспомощными. Все это отчетливо видели отдельные радикалы. Некоторые признаки указывали на то, что разделение старых плантаций ради обеспечения чернокожих небольшими фермами было осуществимо. В 1864–1865 гг. военная администрация северян провела два эксперимента в соответствии с этими принципами, чтобы разрешить трудную ситуацию с тысячами нуждающихся чернокожих. Она передала конфискованные и заброшенные земли более чем 40 тыс. чернокожих, которые, как считалось, успешно работали на земле в качестве мелких фермеров, пока президент Джонсон не возвратил поместья их бывшим белым владельцам [Stampp, 1965, p. 123, 125–126]. И все же опыт рабской жизни вряд ли подготовил афроамериканцев к тому, чтобы управлять своими делами на манер небольших сельских капиталистов. Стивенс знал об этом и чувствовал, что чернокожим понадобится долговременная опека со стороны его друзей в Конгрессе. В то же время он понимал, что без минимальной экономической защищенности и минимальных политических прав, включая избирательное право, они мало что могли сделать для себя и в интересах Севера.[102]
В результате радикальная версия реконструкции свелась к использованию военной силы Севера для уничтожения плантаторской аристократии и создания копии капиталистической демократии через обеспечение собственности и избирательного права для чернокожих. В свете тех порядков, которые царили на Юге в то время, это действительно была революция. Это максимум того, чего добивается спустя 100 лет движение за гражданские права чернокожих, и даже больше, поскольку экономические требования остаются невысказанными. Если обогнать свое время означает быть революционером, то Стивенс им был. Даже поддерживавшие его северяне испытали шок. Хорас Грили, редактор «New York Tribune», долгое время симпатизировавший аболиционистам, в ответ на речь Стивенса 6 сентября 1865 г. заявил, что «…мы протестуем против всякого покушения на собственность южан… потому что обеспеченный класс южан, скорее просвещенный и гуманный, чем невежественный и вульгарный, менее враждебен к чернокожим» (цит. по: [Current, 1942, p. 216–217]).[103] Опасения Грили давали понять, что случится, когда состоятельные люди Севера и Юга устранят свои разногласия и в результате еще одного знаменитого компромисса предоставят чернокожим самим разбираться со своей свободой.
Поэтому неудивительно, что радикалы быстро потерпели поражение, или, точнее говоря, все радикальное было устранено из их программы, как только она стала противоречить интересам собственников-северян. Радикалы не смогли превратить конфискации в акты реконструкции 1867 г. против воли более умеренных республиканцев. В Палате представителей «сорок акров» Стивенса получили только 37 голосов [Ibid., p. 233]. У влиятельных людей на Севере не было желания попустительствовать откровенной атаке на права собственности, пусть даже собственности мятежников и даже во имя капиталистической демократии. Газета «Nation» предупреждала, что «раздел земель богатых собственников между безземельными бедняками… произведет потрясение во всей нашей социальной и политической системе, от которого вряд ли можно будет оправиться без потери свободы». Неудача земельной реформы стала решающим поражением и уничтожила ядро радикальной программы. Без земельной реформы остальная программа была всего лишь паллиативом или досадной помехой, в зависимости от точки зрения. Однако сказать, что эта неудача расчистила путь для последующего господства белых землевладельцев с Юга и интересов других собственников, было бы все же преувеличением.[104] Радикалам так никогда и не удалось в действительности преградить им путь. Неудача радикалов в этот момент обозначила те пределы, которые американское общество установило революционному импульсу.
В отсутствие конфискаций и перераспределения земли плантаторская система восстановила себя за счет новой системы труда. Поначалу были попытки ввести наемный труд. Эти попытки провалились, поскольку чернокожие работники предпочитали получать заработную плату в сезон затишья и сбегать в сезон сбора хлопка. Поэтому повсеместно произошел поворот к землепользованию, что позволяло плантаторам контролировать рабочую силу. Это изменение было важным. Как мы увидим позже, землепользование во многих частях Азии стало основанием для получения дополнительных доходов с крестьянина с помощью экономических, а не политических методов, хотя последние нередко необходимы для усиления первых. Поэтому поучительно отметить возникновение фундаментально сходных форм в Америке, где прежде не было крестьянства. Местной особенностью в американской ситуации стал сельский торговец, хотя подобные механизмы появлялись в Китае и в других местах. Сельским торговцем часто был крупный плантатор. Давая в долг продукты арендаторам и испольщикам, взимая с них за это плату, намного превышавшую обычные розничные цены, он держал под контролем рабочую силу. Арендаторы и испольщики не могли покупать товары в другом магазине, поскольку у них больше нигде не было кредита и, как правило, не хватало наличных денег (см.: [Shannon, 1957, p. 53]). Экономическая зависимость, таким образом, заменила для многих чернокожих рабскую. Трудно сказать, насколько в реальности улучшилось, если вообще улучшилось, их положение. Но было бы ошибкой считать, что владельцы плантаций при новой системе значительно процветали. Главным итогом, по-видимому, стало еще большее превращение Юга в монокультурную экономику, поскольку банкиры давили на плантаторов, а плантаторы давили на арендаторов, чтобы те поскорее собирали урожай, который можно быстро обратить в деньги [Randall, Donald, 1961, p. 549–551].
Политическое возрождение происходило одновременно с экономическим; между ними не было простого отношения причины и следствия, они скорее взаимно усиливали друг друга. Нет необходимости перечислять здесь политические уловки наследников довоенных правящих групп Юга в их поиске политического влияния, хотя стоит заметить, что к числу «скэлавагов» – белых коллаборационистов, как их назвали бы сегодня, – относились многие плантаторы, торговцы и даже ведущие промышленники [Ibid., p. 627–629]. Широкое применение насилия, пусть и не одобряемое лучшими представителями общества, хотя в этом можно сомневаться, помогло поставить чернокожих «на свое место» и восстановить полное господство белых [Ibid., p. 680–685]. Тем временем промышленники и железнодорожники приобретали все большую силу в делах Юга.[105] Одним словом, состоятельные люди умеренных взглядов возвращались к власти, к управлению и влиянию на Юге, как и на Севере. Сцена была подготовлена для альянса этих сил поверх прежних фронтовых линий. Он окончательно оформился в 1876 г., когда были урегулированы спорные выборы Хейса – Тилдена, в результате чего республиканец Хейс получил офис в обмен на ликвидацию последних следов оккупационного режима северян. Под натиском радикальных землевладельцев на Западе и радикальных пролетариев на Востоке северная партия богачей, собственников и привилегий была готова отказаться от последней претензии на защиту прав неимущих и угнетенных чернокожих представителей рабочего класса [Woodward, 1956, p. 36–37]. Когда южные «юнкеры» перестали быть рабовладельцами и стали лучше понимать городской бизнес и когда северные капиталисты столкнулись с радикальным протестом, стала возможна классическая консервативная коалиция. Так пришел термидор, положивший конец «второй американской революции».