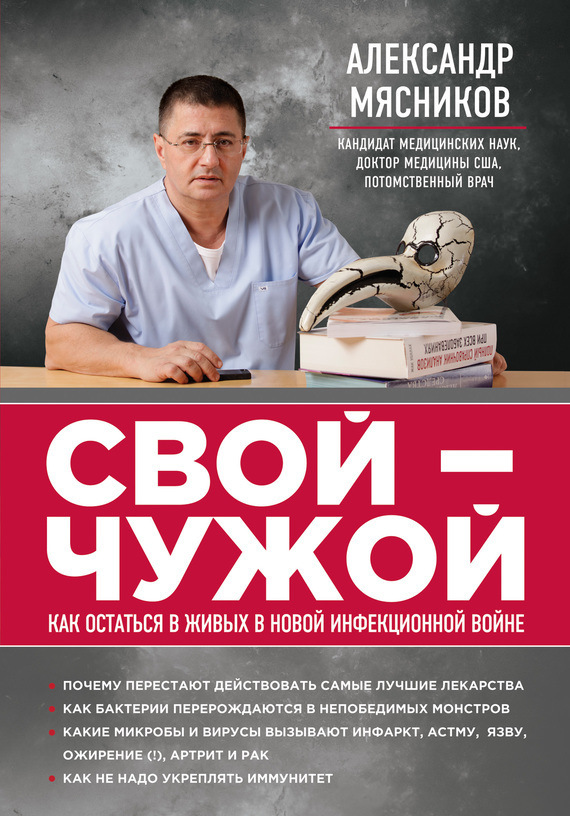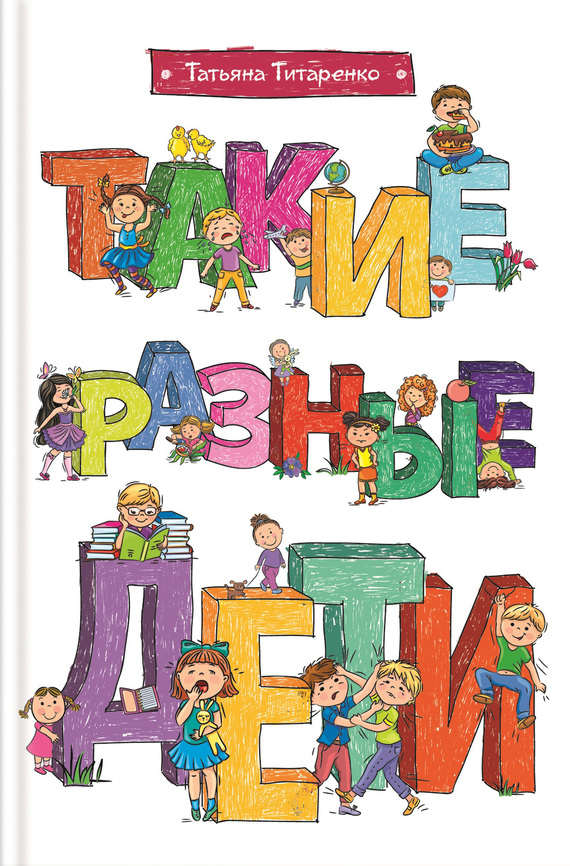1. Революция сверху: реакция правящих классов на старые и новые угрозы
В XVII в. к власти в Японии, Китае и России пришли новые правительства, положившие конец продолжительному периоду внутренних беспорядков и междоусобных войн. В России и Китае установление мира и порядка было началом (если в истории вообще можно говорить о началах) долгого процесса, завершившегося крестьянской революцией. Аграрные бюрократии этих двух стран препятствовали становлению класса независимых торговцев и промышленников. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что при отсутствии буржуазной революции свершилась революция крестьянская, открывшая, в свою очередь, дорогу к тоталитарной модернизации. Развитие Японии протекало по другому пути, который был ближе к немецкому. Хотя влияние рынка подрывало аграрный строй, здесь, как и в Германии, не случилось ничего, что можно было бы назвать успешной буржуазной революцией. Японские власти сумели сдержать и отвлечь недовольство крестьян, предотвратив крестьянскую революцию. Результат этой политики к концу 30-х годов XX в. весьма напоминал европейский фашизм.
Почему возникло различие в ходе модернизации, с одной стороны, в Японии, с другой – в России и Китае? Объяснение, которое тут же приходит на ум, – феодализм. Память о феодализме в России и Китае была слабой, и вопрос о том, можно ли в этих случаях вообще говорить о феодализме, – предмет оживленных споров среди ученых. Японский же вариант феодализма сохранялся вплоть до XIX в. Поскольку Япония в то же время – единственная азиатская страна, ставшая значительной индустриальной державой к 30-м годам XX в., гипотеза о том, что феодализм сыграл ключевую роль, становится особенно привлекательной на фоне обширного исторического материала, который она позволяет упорядочить и понять.[155] Поскольку японский феодализм помог одной секции правящего класса обособиться от господствующего режима и осуществить революцию сверху, произведя социальные изменения, необходимые для промышленного прогресса, он действительно составляет важную часть объяснения. Тем не менее необходимо увидеть, почему это оказалось возможным и как именно весь процесс модернизации соотносился с феодализмом, существовавшим в Японии.
При объяснении и оценке этой трансформации важно не забывать о пределах нашей актуальной исторической перспективы. Лет через сто, а возможно и раньше, незавершенный характер японской социальной и промышленной революции, особенно весьма умеренной «революции» имперской Реставрации 1868 г., может показаться главным элементом японской трагедии. Здесь уместно напомнить о том, что современные историки отнюдь не убеждены, что Бисмарк достиг успеха в синтезе старой и новой Германии. В то же время современное китайское общество, несмотря на серьезные трудности и неудачи, демонстрирует прогресс. Извлекая урок из советских ошибок, Китай вполне способен обогнать Россию. Естественно, будущее невозможно предугадать. Но по крайней мере мы избежим узкого взгляда на вещи, если не будем считать наши собственные достижения данностью. Глупо рассматривать японский ответ на вызовы современного мира как успех, а китайский – как неудачу.
С учетом этих предостережений следует разобраться с тем, какие черты досовременного японского общества сыграли важную роль в ходе модернизации. Когда старый порядок рухнул, обозначились равнозначимые вертикальные и горизонтальные разрывы. Кроме того, между западным и японским феодализмом существовали серьезные различия. Простая констатация этого факта все еще остается предельно абстрактной, поэтому потребуется рассмотреть, как реально функционировало общество определенного периода времени, чтобы понять, что это значит на самом деле.
Токугава Иэясу, один из известнейших правителей в японской истории, своей победой в битве при Сэкигахаре в 1600 г. завершил эпоху междоусобных войн и положил начало периоду гражданского мира. В своих формально-политических чертах основанный им режим, известный среди историков как сёгунат Токугава, сохранился вплоть до реставрации императорской власти в 1868 г.[156] Ведущая политическая идея сёгуната была статичной: поддержание мира и порядка. Общество ясно разделялось на правителей и подвластных. К числу последних относились крестьяне, которых правящий класс воинов рассматривал в основном как средство для обработки земли и взыскания налогов в свою пользу [Asakawa, 1910, p. 260, 278]. В свою очередь, пока система функционировала, крестьяне могли рассчитывать на скромную экономическую защиту и политическую справедливость. Всеми доступными способами – начиная с суровых законов, ограничивавших расходы, и заканчивая почти полной изоляцией Японии от внешнего мира в период с 1639 г. и до прибытия коммодора Перри в 1854 г. – власти пытались устранить любое влияние, угрожавшее господствующему порядку. На какое-то время одним из главных источников неприятностей и беспокойства для правителей стали городские торговцы, о которых пойдет речь чуть ниже.
Внутри правящей элиты существовали важные градации и различия. Император был неясной и изолированной фигурой, способной, в конце концов, только на то, чтобы превратить престиж в реальную власть, но – для других. Бразды правления были в руках сёгуна, а политическая система напоминала скорее абсолютизм «короля-солнца», чем раздробленные феодальные институции ранней европейской истории. С учетом имущества различных линий семьи Токугава и ее прямых вассалов сёгун владел от четверти до пятой части сельскохозяйственных земель страны, извлекая отсюда бо?льшую часть своих ресурсов [Allen, 1946, p. 10]. Для управления наследными землями сёгуна назначалось около сорока интендантов, получавших регулярное жалованье [Asakawa, 1910, p. 261]. Таким образом, как и в Западной Европе той же эпохи, в японском феодализме было сильно бюрократическое начало.
Следует отметить определенные моменты в системе управления сёгуната Токугава. Во-первых, она представляла собой попытку ввести бюрократическую организацию власти поверх сегментированной феодальной политики, в которой было принципиально важно поддерживать конкуренцию между большими княжествами. Во-вторых, феодальную раздробленность так никогда и не удалось совершенно преодолеть. Когда в середине XIX в. политика сёгуната Токугава начала испытывать все большие затруднения, о себе вновь напомнили важнейшие вертикальные линии противостояния, лишь замаскированные системой, основанной в 1600 г.
По рангу ниже сёгуна стояла небольшая группа великих лордов, или даймё.[157] В 1614 г. их насчитывалось 194, а непосредственно перед Реставрацией 1868 г. – 266. В позднейшую эпоху крупнейшее зарегистрированное княжество производило 1 022 700 коку риса. Средний уровень производства был около 70 тыс. коку [Asakawa, 1911, p. 160].[158]
Ниже даймё стоял основной класс самураев, или воинов, внутри которого существовали сильные различия по влиянию и богатству.[159] Согласно подсчетам, их было вместе с семьями около 2 млн человек, что составляло шестнадцатую часть всего населения накануне Реставрации [Allen, 1962, p. 11]. Формально самураи находились на военной службе у даймё и получали от них годовое жалованье рисом. Установив жалованье, сёгунат Токугава отрезал самураев от независимых источников власти в сельской местности, одним махом устранив главную причину политической нестабильности предшествующей эпохи [Smith, 1959, p. 1]. В то же время, установив гражданский мир, сёгунат лишил самураев сколько-нибудь реальной функции в японском обществе и внес свой вклад в возникновение группы бедных самураев, сыгравших ключевую роль в последующем падении режима.
Дни, когда солдат в мирное время возделывал свою пашню, давно миновали. Еще в 1587 г. великий генерал Хидэёси, поспособствовавший выдвижению Токугава, приказал фермерам сдать оружие. Эта мера была направлена не только на устранение угрозы, исходившей от вооруженного крестьянства, она должна была подчеркнуть ясность и непреложность классовых различий [Sansom, 1943, p. 430]. Право на ношение меча впоследствии стало главным отличием самурая от богатого крестьянина [Smith, 1959, p. 179].
Сюзерен-даймё вдали от двора сёгуна жил в городе с замком в окружении самураев и слуг. Несколько крестьянских деревень были расположены не менее чем в 20 милях от города [Ibid., p. 68]. Города с замками были местными центрами, позволявшими классу воинов извлекать из крестьянского труда экономическую прибыль в форме отчисляемых в свою пользу налогов. Налоговая администрация состояла в основном из чиновников двух типов: первые, из центральной администрации, сидели в замке или соседнем городе, вторые были районными магистратами, рассредоточенными по княжеству [Ibid., p. 202]. В мирное время функционирование системы не требовало активного применения силы.
Внутри княжеств крупные вассалы прибегали к насилию по своему усмотрению. Однако им запрещалось возводить замки, чеканить монету, строить корабли и заключать браки без одобрения сёгуна. Об устойчивости княжеств как особых политических образований свидетельствует то, что все 16 могущественных внешних даймё по состоянию на 1664 г. продолжали править своими княжествами вплоть до формальной отмены феодализма в 1871 г. Поначалу сёгун весьма свободно вмешивался в дела княжеств, производя крупномасштабные конфискации и передачи земель. Но со второй половины XVII в., когда система устоялась и позиции режима уже казались незыблемыми, политика сёгунов стала более осторожной и вмешательство во внутренние дела княжеств происходило редко [Murdoch, 1926, vol. 3, p. 20–22]. Так в общих чертах функционировал режим сёгуната Токугава. Как видно, это была относительно централизованная и жестко контролируемая форма феодализма, поэтому один автор даже называет ее полицейским государством [Fukuda, 1900, ch. 4] – этот термин был, конечно, более уместен в 1900 г., чем после правления Гитлера и Сталина. Хотя сегодня такая характеристика кажется неудачной, теория и практика свободного общества, знакомого нам по современной западной цивилизации, вряд ли могли развиваться при власти Токугава. В раннем японском феодализме недоставало тех черт, которые внесли важный вклад в политическое развитие на Западе. В феодальных узах, связывавших господина и вассала, элемент договора был очень слабым и, напротив, элементы преданности и долга перед вышестоящим резко усилены [Sansom, 1958, p. 359–360, 368]. Западные дискуссии об этом отличии представляют японские феодальные узы более примитивными, менее объективными и рациональными по сравнению с европейскими. Они скорее покоились на неписаных традициях и соблюдении церемониала; им был присущ характер фиктивного родства, весьма распространенного в японском обществе, и в меньшей степени, чем в Европе, они зависели от письменных или устных договоренностей, в которых определялись бы индивидуальные обязанности и привилегии [Hall, 1962, p. 33–34]. Национальные особенности получили дополнительную опору в заимствованной из Китая конфуцианской философии, приобретшей почти религиозный статус.
К моменту прибытия в Японию кораблей коммодора Перри в 1854 г. система Токугава значительно ослабла. Упадок старого порядка, наряду с попытками сохранить привилегии аграрной элиты, привел в действие социальные силы, которые в итоге создали режим, отдавший приказ о роковой бомбардировке гавани Перл-Харбор в 1941 г.
Факторы, вызвавшие упадок и перерождение, были многочисленны и сложны. Их точная природа и относительная значимость, вероятно, еще долгое время будут оставаться предметом споров специалистов. И все же для наших целей не станет большой ошибкой разделить их для простоты на две категории: покой и роскошь. В мирное время коммерческий образ жизни укоренился не только в городах, но и на селе. Даже находясь под строгим контролем, коммерческие веяния сильно подтачивали феодальный строй. Система Токугава способна удивить историка-компаративиста своим характером, напоминающим нечто среднее между централизованной аграрной бюрократией Китая и намного более свободным феодализмом средневековой Европы, но точно так же серединой между двумя крайностями оказывается и способность самого японского общества XVIII–XIX вв. сдерживать разобщающие и деструктивные эффекты коммерции.
Покой и роскошь были в центре политического режима Токугава. Сёгуны, подобно Людовику XIV, заставлявшему знать жить в Версале, требовали, чтобы даймё проводили определенное время в столице Эдо.[160] В обоих случаях результаты были практически одинаковыми. Поощряя все виды показной роскоши, сёгун ослаблял позиции знати и в то же время поддерживал торговый люд в городах. Расходы даймё возрастали, поскольку им приходилось содержать две резиденции – дома и в Эдо. Столичную жизнь и расходы на путешествие для себя и большой свиты требовалось оплачивать наличной монетой, прав на чеканку которой у них не было. Эти траты ложились тяжелым бременем на экономику многих княжеств. Поэтому даймё обычно отправляли излишки риса и других местных продуктов на рынок, прибегая к услугам торговцев [Sheldon, 1958, p. 18]. Нередко аристократ-феодал попадал в долговую зависимость от торговца, который, в свою очередь, искал у даймё политического покровительства.
Экономическая позиция самураев, зависимых от даймё, явно ухудшилась при режиме Токугава, особенно во второй половине его правления. Однако это не решающее свидетельство. Одним из способов, которыми даймё пытались покрыть свои расходы, было сокращение жалованья самураев [Ramming, 1928, S. 34–35]. Сокращение жалованья стало возможным лишь во времена Токугава. Благодаря установившемуся миру и авторитету сёгуна даймё больше не нужно было опираться на своих вассалов, поэтому они могли пожертвовать их интересами.
Независимо от их реального экономического положения, статус самураев в японском обществе несомненно снижался. Достаточные поступления риса были для самурая материальной основой для поддержания образа жизни воина. В условиях вынужденного мира в эпоху Токугава воин не имел заметной социальной функции. Тем временем иные формы почета, основанные на торговом богатстве, начинали соперничать с воинскими доблестями. Прежние этические нормы слабели, а новые еще не пришли на их место. Признаки этих перемен начали появляться уже в начале XVIII в.
Утрата воинской функции, а также влияние коммерческих отношений сильно подорвали лояльность многих самураев, брошенных на произвол судьбы в психологическом и материальном смысле. И хотя утверждение автора начала XIX в., что из-за сокращения жалованья «самураи ненавидели своих господ как злейших врагов», можно считать литературным преувеличением, сокращения несомненно вызывали массовое недовольство [Ramming, 1928, S. 7]. Положение воинов усложнялось еще больше из-за того, что им было запрещено заниматься коммерцией. Многие обходили этот запрет, чтобы свести концы с концами, но заработанное таким путем богатство вряд ли внушало самураям чувство уверенности [Sheldon, 1958, p. 32; Ramming, 1928, S. 10].
В результате многие воины просто оборвали все связи и превратились в странствующих искателей приключений, ронинов, не состоявших ни у кого на службе и готовых ввязаться в любую авантюру, – эта группа также внесла свой вклад в сумятицу завершающего этапа правления Токугава. Княжество Тёсю, сыгравшее ключевую роль в реставрации императорской власти в 1868 г., было надежным убежищем для ронинов [Murdoch, 1926, p. 737]. Среди этих людей большой популярностью пользовалась идея об избавлении от западных «варваров». Многие из них протестовали против открытия новых портов, поскольку «после этого изгнание варваров станет невозможным… Нам придется накладывать левый лацкан на правый, использовать горизонтальное письмо и их ужасный календарь» (цит. по: [Ibid., p. 720]). Таким образом, нижние слои самураев превращались в неуправляемый резервуар насилия, «люмпен-аристократию», открытую скорее для реакционных влияний, чем для принятия революции в английском или французском духе. В ряде ключевых военных столкновений, сопутствовавших реставрации императорской власти, они с равной готовностью сражались на обеих сторонах [Craig, 1959, p. 187–197, 190–191]. При отсутствии внешней угрозы и одаренных правителей эта потенциально взрывная сила, возникшая после того, как режим Токугава кардинально изменил положение воинов, была способна разорвать японское общество по швам и ввергнуть его в эпоху феодальной анархии.
Торговцы (тёнин) были непосредственным, если не первичным источником разрушительного воздействия на старый порядок. Их роль в японском обществе напоминает роль евреев в поздней средневековой Европе, и особенно в Испании. В самых общих чертах отношения между военной аристократией и торговцами можно охарактеризовать как симбиотический антагонизм. Даймё и самураи зависели от торговцев, которые обменивали рис и другую сельскохозяйственную продукцию, произведенную крестьянами, на наличные деньги и обеспечивали их предметами первой необходимости и большей частью предметов роскоши, требуемых для поддержания аристократического стиля жизни. В то же время торговец пользовался благосклонностью и покровительством воина-аристократа для ведения торговли, что согласно этическому кодексу воинов считалось низким и паразитическим образом жизни. Ни в коем случае не устраняя феодальных ограничений и даже не стремясь к этому, торговцы улучшили свои позиции, а под конец рассматриваемого периода они стали доминирующей стороной в отношениях с земельной и военной аристократией.
Как следствие, жесткие межклассовые барьеры, от которых во многом зависела стабильность системы Токугава, обнаружили серьезные признаки разрушения. Воины становились торговцами, и наоборот. Неизвестно, усиливалась ли эта тенденция в течение рассматриваемого периода, но из общих оснований скорее можно заключить, что дело обстояло именно так [Sheldon, 1958, p. 6].[161] В начале XIX в. из 250 семей торговцев 48 семей, или почти пятая часть, происходили из самураев. Обедневшие самураи иногда делали своим наследником сына богатого купца в обход собственного старшего сына. В начале XVIII в. сёгун Ёсимунэ запретил продажу титула самурая, но этот запрет вскоре превратился в пустую формальность [Honjo, 1935, p. 204–205].
Лишь в начале XVIII в. феодальные правители осознали угрозу для своей власти, исходившую от торгового люда. Однако было уже поздно, даже несмотря на то, что экономическое преимущество купцов к тому времени сошло на нет [Sheldon, 1958, p. 165]. В самом деле, результаты недавних исследований производят впечатление, что феодальные правители сумели бы противостоять этой угрозе и еще некоторое время поддерживать баланс, пусть даже отличный от того, что было в начале правления Токугава, если бы не роковое появление западной военной эскадры на японской политической сцене.[162] В любом случае феодальная аристократия обладала рядом возможностей для ответа купечеству: прямые конфискации, принудительные займы (особенно частые к концу правления Токугава) и отказ платить по долгам. Но итогом этих мер, особенно конфискаций, в конце эпохи стало лишь то, что торговцы все неохотнее предоставляли кредит [Sheldon, 1958, p. 111–113, 119]. Поскольку аристократия в существенной мере, пусть и не полностью, жила в кредит, она оказалась неспособной сокрушить купечество.
Власть над аристократией, которую нередко приобретали торговцы, порождала понятное раздражение среди знати и других слоев японского общества. Некоторые японские интеллектуалы даже пытались доказать, весьма напоминая своей аргументацией идеи европейских физиократов той эпохи и антисемитов последующей, что только знать и крестьяне были полезными социальными классами. «Тогда как купцы занимаются чем-то незначительным…[поэтому] правительству не нужно беспокоиться, если они разорятся» (цит. по: [Ibid., p. 105]). Как сказано выше, правительство сёгунов периодически пыталось реализовать такого рода идеи на практике. В борьбе между деградирующей военной аристократией и крепнущими коммерческими кругами обнаруживаются истоки антикапиталистического мировоззрения, ставшего характерной чертой японского варианта фашизма.
Хотя конфликт феодальной аристократии с купечеством был чрезвычайно значим для последующих событий, было бы серьезной ошибкой ограничиться только им. В Японии в отличие от Западной Европы не было свободных городов со своими хартиями, где бы в конкретных терминах выражалась их политическая и юридическая независимость от феодального окружения. Конечно, на раннем этапе правления Токугава в этом направлении предпринимались некоторые перспективные начинания. Но после того как режим консолидировался в форме централизованного феодализма, с этими тенденциями было покончено. «Повторная феодализация», как ее порой называют, наложила существенные ограничения на деятельность торговцев, строго указав им то место в феодальном строе, где, как надеялись власти, они не могли бы принести никакого вреда [Ibid., p. 8, 25, 37]. Изоляция страны, возникшая после эдиктов 1633–1641 гг., снизила коммерческую активность, отчасти из-за невозможности поддерживать зарубежные связи и вступать в международную конкуренцию [Ibid., p. 20–24]. Как отмечено выше, основной импульс коммерческого развития рассеял большую часть своей энергии за первые сто лет после установления pax Токугава. После этого возникла тенденция к успокоению и довольству плодами своих трудов, а также тяга к применению проверенных временем и испытанных методов предпринимательства.
Нам нет нужды подробно рассматривать здесь механизм политического контроля над купечеством, разработанный правительством Токугава. Достаточно заметить, что оно в этом преуспело, в особенности в ранний период, и поэтому восхождение торговцев к экономической власти стало «почти подпольным развитием событий» [Sheldon, 1958, p. 32–36]. Элементы политического контроля сделали японского торговца социально зависимой фигурой, пусть даже сам даймё порой боялся его гнева.
Конечно, были очень разные случаи. Так, торговцы Осаки пользовались большей свободой, чем их коллеги в столице Эдо [Ibid., p. 88, 92, 108]. А под конец этого периода провинциальные торговцы в борьбе за сырье и рынки показали себя менее скованными феодальными обязательствами, чем прежние городские монополисты [Ibid., p. 163].
Кроме того, конечно, обратившись к искусствам и к беспечному времяпрепровождению, торговцы развили специфические социальные черты и вкусы, напоминавшие допуританские аспекты купеческой культуры Запада. Но сама по себе торговая культура, достигшая расцвета в начале XVIII в., не была реальной угрозой для системы Токугава [Ibid., p. 99]. Напротив, именно эта дозволенная свобода, в основном ограниченная определенным сектором капитала, служила предохранительным клапаном. Она скорее помогала спасти, чем разрушить старый порядок [Norman, 1949, p. 75].
В силу всех этих причин японские торговцы периода Токугава оставались в рамках феодальной этики. Им совсем не удалось выработать свою интеллектуальную позицию, которая помогла бы противостоять традиционному мировоззрению. Изучая множество самых разных сочинений японских авторов, Эгертон Герберт Норман пытался «найти автора, который осмелился бы выразить последовательную и принципиальную критику самых деспотичных сторон японского феодализма, его социальной ригидности, интеллектуального обскурантизма, схоластической стерильности, пренебрежения к общечеловеческим ценностям и зашоренных представлений о внешнем мире» [Ibid., p. 2]. И хотя в хрониках и литературных сочинениях обнаруживается ряд изолированных протестов против жестокости феодального насилия, не нашлось ни одного влиятельного мыслителя, предпринявшего фронтальную атаку на систему в целом.[163] Неудачу японского торгового класса в разработке критической интеллектуальной позиции, сравнимой с тем, что было на Западе, нельзя, на мой взгляд, объяснить психологическими факторами или особенной эффективностью японской системы ценностей.[164] Подобные объяснения логически не отличаются от знаменитого аргумента, согласно которому снотворное действует из-за того, что в нем есть «снотворная сила». Все они внушают фундаментальное сомнение: почему именно это мировоззрение господствовало в это время и в этом месте? Ответ на этот вопрос исторический: все объясняют условия, в которых японский торговый класс развивался начиная с XVIII в. Изоляция страны, симбиоз воинов и торговцев, длительное политическое господство воинов – таковы ключевые элементы в любой попытке объяснения ограниченности мировоззрения торговцев.
Существенная доля богатства, пополнявшего купеческую казну, первоначально изымалась военной аристократией у крестьянства. Впоследствии мы подробно рассмотрим причины, помешавшие японским крестьянам превратиться в революционную силу по русскому или китайскому образцу. А пока наш анализ ограничится тем, как крестьянский вопрос понимали правящие классы и как он смыкался с их интересами.
Как обычно происходит в любой аграрной стране, крестьянские массы, платя налоги, обеспечивали средствами все остальное население. Отдельные представители военной аристократии с опорой на этот факт декларировали, что крестьянство – основа здорового общества, подразумевая, конечно, что в «здоровом» обществе власть принадлежит самураям. Такова типичная риторика аграрной аристократии, опасающейся конкуренции со стороны коммерческих кругов. Восхищение крестьянами было косвенной критикой торговцев. Часто цитируемое циничное двустишие: «Крестьяне как кунжутные семечки: чем больше давишь, тем больше масла» – гораздо лучше описывает подлинное отношение самураев к крестьянству [Ramming, 1928, S. 28]. Как сухо замечает сэр Джордж Сансом, сёгуны Токугава обращали большое внимание на земледелие и меньше всего – на земледельцев.
В начале 1860-х годов крестьянский вопрос оказался связанным с проблемой создания современной армии. Решение этой проблемы повлияло не только на независимость Японии в качестве суверенного государства, но и на саму природу общества. По сути, правительству пришлось решать вопрос о том, стоит ли вооружать крестьян для защиты Японии от внешнего врага. В 1863 г. высшим правительственным чиновникам было предложено высказаться о разумности такого шага. Красноречивые выдержки из их ответов отражают две главные причины для беспокойства: даймё в своих княжествах могли обратить эту военную силу против правительства Токугава, а сами крестьяне могли превратиться в угрозу для установленного порядка [Norman, 1943, p. 73]. Обе причины имели под собой основание.
Влияние правительства на крестьян было слабее в областях, напрямую подчиненных сёгуну, чем в некоторых отдаленных княжествах, особенно в Тёсю. Области, сильно зависимые от сёгуната, включали большие города Эдо и Осаку, из которых распространялось коммерческое влияние. Правители Тёсю, в свою очередь, с помощью искусной бюджетной и налоговой системы сумели отстоять свою финансовую независимость и избежать попадания в руки кредиторов и торговцев из Осаки. Отчасти по этой причине крестьянская база и традиционные феодальные связи оставались сильными в Тёсю [Craig, 1961, ch. 2, p. 355–356]. Хотя относительно слабые крестьянские волнения случались здесь в прошлом (в 1831–1836 гг.), только когда иностранные военные корабли обстреляли форты Тёсю в 1864 г., влиятельные круги в княжестве уверились в необходимости реформ по западному образцу и стали доказывать, что вооружать нужно даже крестьян. После того как в Тёсю возникли эти подразделения, проимператорские силы получили важную силовую опору [Ibid., p. 55–58, 135, 201–203, 278–279].
В других частях Японии крестьяне внесли антифеодальный и даже почти революционный вклад в движение Реставрации. Последние годы эры Токугава характеризовались многочисленными вспышками крестьянского насилия с сильным антифеодальным подтекстом. Даже если им явно недоставало ясных политических целей, они были угрозой для властей. В подробной монографии, посвященной этим волнениям, сообщается о тысяче подобных случаев в течение всего рассматриваемого периода, большинство из которых показывает непосредственную взаимосвязь крестьянства и контролировавшего его правящего класса. Интенсивность случаев насилия резко увеличилась в последние годы рассматриваемой эпохи – с 1772 по 1867 г. [Borton, 1937, p. 17, 18, 207]. Императорские войска временами получали помощь со стороны восставших крестьян в боевых столкновениях, сопровождавших Реставрацию. Например, в провинции Этиго 60 тыс. вооруженных крестьян блокировали регионального командующего войсками Токугава. Также и в других областях командующие императорскими войсками пользовались антифеодальными настроениями, прибегая к методам, напоминавшим современную политическую борьбу. В одном случае
…миротворец и главнокомандующий области Тосандо приказал поместить в важных местах плакаты и распространить манифесты среди крестьян и торговцев в этих деревнях с призывом явиться к местным штабам императорской армии и выдвинуть обвинения в тирании и жестокости против прежнего правительства Токугава. Они специально обращались к самым обездоленным, сиротам, вдовам, к тем, кого преследовали феодальные власти. Всем жалобщикам было обещано тщательное и сочувственное разбирательство дела; утверждалось также, что виновные чиновники понесут справедливое наказание [Norman, 1943, p. 38–39].
Но слабо выраженная революционная линия не была, конечно, единственным вкладом крестьянства. По целому ряду причин крестьяне сражались на обеих сторонах борьбы за Реставрацию. Как мы увидим позже, не только среди крестьян, но и среди других сторонников императора наличествовал сильный реакционный компонент, восходивший к чистому и мистическому феодальному прошлому. Переплетение этих линий придало Реставрации Мэйдзи ее изменчивый характер, отчасти неопределенный в том, что касалось ее непосредственного исхода.
На этом этапе читатель уже понял, что Реставрация ни в коем случае не была чистой классовой борьбой и уж, конечно, не была буржуазной революцией (как утверждают некоторые японские авторы, хотя, насколько мне известно, их мнение не разделяют западные исследователи). В ряде ее решающих аспектов была традиционная феодальная борьба между центральной властью и княжествами.[165] А княжества, возглавившие борьбу против сёгуна, – не только Тёсю, но и Сацума, «японская Пруссия», о которой не так много известно, – были княжествами, в которых сохраняли силу традиционное аграрное общество и феодальные обязательства.[166]
В разительном отличие от крупных княжеств финансовое положение режима Токугава постепенно ухудшалось к концу периода, что, по мнению ряда историков, внесло свой вклад в окончательный закат сёгуната. Но, как обычно бывает со старым режимом, финансовые трудности были не более чем симптомами глубинных проблем. Внешняя угроза постоянно усиливала нужду сёгуната в доходах, а также в армии, которая представляла опасность для Токугава, если не для правителей Тёсю. На торговцев нельзя давить слишком сильно, чтобы не остаться без доходов. Единственным альтернативным источником средств было крестьянство, проявлявшее все большее недовольство этим тяжким бременем.
Хотя все эти противостояния и проблемы составляли предпосылки Реставрации, они по большей части остались в тени событий, которые привели к переменам после 1860 г. Непосредственная опасность иностранной интервенции помогла превратить Реставрацию в символический акт, который поддержали многие группы по целому ряду противоречивших друг другу причин. Сама по себе Реставрация не имела особенно выдающегося значения, и ее последствия для будущего японского общества оставались неясными в течение нескольких лет. Борьба, которая ее сопровождала, не имела характера принципиального конфликта между ясно обозначенными заинтересованными группами. По этим причинам события тех лет кажутся западному человеку не более чем запутанной сетью интриг, замысловатой и бессмысленной. На мой взгляд, они предстают в таком свете именно потому, что главные действующие лица внутри правящего класса в общем стремились к одному и тому же: изгнать иностранцев и минимально поколебать сложившийся status quo. Согласно стандартной версии событий [Murdoch, 1926, p. 733], император во всем желал действовать при посредничестве сёгуната в оппозиции к «экстремистам» и «бесчинствующим» элементам – одним словом, в оппозиции ко всему, что намекало на революционную перемену.
Поэтому в итоге встал вопрос: кто проявит инициативу? Сильное соперничество разгорелось вокруг того, кто поставит себе в заслугу настолько отважный поступок – если бы он реализовался. В этой борьбе сёгунат имел огромный недостаток, связанный с его политической ответственностью. Всякий раз, когда сёгунату не удавалось выполнить обещание, на выполнение которого у него не было шансов, – такое, например, как изгнание варваров к определенному сроку, – его неспособность становилась очевидной. Оппоненты сёгуната, в свою очередь, естественным образом консолидировались вокруг фигуры, которая стояла «выше политики». Наряду с другими факторами, ущерб, связанный с необходимостью нести политическую ответственность в невозможной ситуации, внес вклад в итоговое поражение сёгуната.[167]
На этом этапе будет полезно оценить причины Реставрации с более общей точки зрения. Я полагаю, что фундаментальной причиной была частичная эрозия феодального строя в результате развития коммерции, что, в свою очередь, произошло после установления мира и порядка. Наряду с иноземным вторжением, эта эрозия создала проблемы, при решении которых Реставрация стала важным шагом. Политически-реакционные аспекты этого решения в значительной степени объяснимы с учетом позиций тех групп, которые были вовлечены в имперское движение. Одной из них был сегмент нобилитета при императорском дворе. Другая состояла из недовольных лидеров тех княжеств, где феодальные учреждения казались особенно сильными. Самураи, недовольные лишь своим господином, но никак не самим по себе феодальным строем, также внесли свой важный вклад. Среди коммерческих элементов авторитетные консервативные торговцы были враждебно настроены в отношении идеи открытия страны, поскольку это могло привести к росту конкуренции. В целом торговцы не играли активной роли в самой борьбе, хотя интересы Мицуи были представлены с обеих сторон [Sheldon, 1958, p. 162, 172]. Лишь среди крестьян, да и то отнюдь не везде, можно было встретить признаки оппозиции феодальным институциям. С доктринальной точки зрения Реставрация проводилась под лозунгом традиционного символизма, в основном конфуцианского. Как мы видели, старый порядок не встречал прямого интеллектуального вызова, и менее всего со стороны коммерческих кругов.
С учетом того, какие группы поддерживали Реставрацию, удивительно не то, что новое правительство делало так мало, но то, что ему удалось достичь так много. Как мы вскоре увидим, правительство Мэйдзи (1868–1912) – таково было имя, под которым новый режим вошел в историю, – предприняло много важных шагов к тому, чтобы превратить Японию в современное индустриальное общество. Что заставило эту крупную феодальную революцию реализовать программу со многими откровенно прогрессивными чертами? Причины найти не трудно, на них обращают внимание многие историки Японии. Определенная перемена происходила в характере правящего класса, хотя, вероятно, это второстепенный фактор. Поскольку линии раскола в японском обществе были вертикальными и горизонтальными, это позволило сегменту правящего аграрного класса обособиться от системы Токугава и произвести революцию сверху. Зарубежная угроза стала решающим фактором. Используя ее объединяющую силу, новое правительство стремилось сохранить привилегии небольшого сегмента элиты, открыть новые возможности для других и обеспечить национальное спасение.
После 1868 г. новые правители Японии, происходившие в основном из класса самураев, терявшего свои позиции при старом режиме, столкнулись с двумя крупными проблемами. Во-первых, нужно было создать современное централизованное государство. Во-вторых, нужно было создать современную индустриальную экономику. Обе проблемы приходилось решать для того, чтобы Япония сохранила себя как независимое государство. Для одновременного решения обеих проблем необходимо было разрушить феодальный строй и возвести на его месте общество современного типа.
Так, по крайней мере, видится этот вопрос социальным историкам, пользующимся преимуществами и недостатками ретроспективного зрения. Но едва ли таким образом проблема представлялась ее современникам. Многие присоединившиеся к движению «Восстановить императора – изгнать варваров» надеялись на возникновение улучшенной версии феодализма. Наша формулировка слишком абстрактна и одновременно слишком конкретна. Слишком абстрактна она потому, что в общем люди, поддержавшие Реставрацию и первые годы правления Мэйдзи, не желали возникновения какой угодно разновидности современного государства, но лишь такой, которая бы сохранила как можно больше преимуществ, закрепленных за правящим классом при старом режиме, устранив ровно то, что было нужно для сохранения государства (на практике оказалось очень много), поскольку в ином случае они рисковали потерять все. Слишком конкретна она потому, что создает ложное впечатление наличия целостной программы модернизации. Лидеры раннего этапа правления Мэйдзи Японии не были ни доктринерами, ни социальными теоретиками, заброшенными, подобно русским марксистам, в поле политической ответственности. Тем не менее с учетом этих оговорок такое понимание задачи, стоявшей перед лидерами Мэйдзи, помогает упорядочивать значимые факты этой эпохи, их последствия и взаимные отношения.
Самый важный первый шаг в создании эффективного центрального правительства произошел в марте 1869 г., когда великие западные княжества Тоса, Сацума, Хидзэн и Тёсю «добровольно» предложили свои территории трону, одновременно выступив с заявлением: «Требуется единый центральный орган управления и одна общая власть, которая должна оставаться неприкосновенной». Наступил очень щекотливый момент. Ведь Реставрация могла бы оказаться всего лишь перераспределением власти внутри феодальной системы.
Но почему тогда передовые княжества предприняли этот шаг? Как утверждают некоторые историки, свою роль, возможно, сыграли великодушие и прозорливость, но я скептически отношусь к их значимости. Гораздо важнее, вероятно, было то, что после продолжительных переговоров, предшествовавших такому шагу (пусть даже это не стало решающим фактором), даймё было позволено сохранить половину своих доходов [Sansom, 1950, p. 323–324, 327–328]. Более важным соображением было опасение, что, если княжества не предпримут этого совместного шага, место Токугава займет какая-нибудь группа провинциальных лидеров. Правители Сацума сами в это время питали те же самые амбиции [Sansom, 1950, p. 324].[168] Иными словами, конкуренция среди претендентов на власть усилила роль центральной администрации, которая до того была достаточно слабой.
В этот момент правительство не было готово испытать свою новую власть и оставило у власти прежних феодальных правителей как императорских легатов с титулом губернатора. Однако всего два года спустя, в августе 1871 г., оно предприняло окончательный шаг, объявив в кратком декрете, что феодальные домены становились единицами местной администрации (префектурами) под центральным управлением. Вскоре после этого актом, напомнившим о методах Токугава, оно приказало всем прежним даймё покинуть свои поместья и обосноваться вместе с семьями в столице. В самом деле сходство более чем неожиданное [Ibid., p. 326]. Своей победой в 1600 г. Токугава заложил основы современного централизованного государства. Правительство Мэйдзи завершило этот процесс.
Во время своего политического становления правительство провело целую серию мер, эффект которых полностью проявился лишь позднее. Их общий смысл был в том, чтобы освободить от феодальных ограничений свободу передвижения людей и товаров и таким образом поддержать развитие по капиталистическому пути. В 1869 г. правительство объявило о равенстве социальных классов перед законом, устранило местные барьеры для торговли и сообщения, дозволило свободу в выборе методов обработки земли и разрешило частным лицам приобретать права собственности на землю [Allen, 1962, p. 27].[169] Хотя еще при Токугава землю начали освобождать от феодальных оков, только теперь она стала обычным товаром для покупки и продажи, и в свое время мы рассмотрим важные последствия этого для остального общества.
Для того чтобы эти трансформации были реализованы мирно и сверху, а не через народную революцию, требовалась существенная компенсация по крайней мере для ключевых элементов прежнего режима. В 1869 г. правительство гарантировало даймё сохранение половины доходов за отказ от княжения. Подобная щедрость не могла продолжаться бесконечно. Свобода маневра у правительства была ограниченной. В 1871 г. попытка изменить договоры так, чтобы это позволило получить дополнительный доход, провалилась. В 1876 г. правительство пошло на принудительное сокращение доходов даймё и стипендий самураев. Хотя со всеми даймё, за исключением наименее важных из них, правительство обходилось достаточно лояльно, мелкие феодальные лидеры и большинство самураев понесли серьезные убытки [Sansom, 1950, p. 327–328].[170] В итоге новое правительство щедро наградило лишь нескольких своих ключевых сторонников. Кроме того, Мэйдзи посчитали необходимым отречься от недовольных самураев, важного источника той силы, которая сместила старый порядок.
Сокращение самурайских стипендий стало кульминацией долговременной тенденции. Во время Мэйдзи просто завершился процесс уничтожения класса самураев, который, как мы видели, происходил уже в эпоху Токугава. Модернизация в Японии не предусматривала революционную ликвидацию какого-либо сегмента правящего класса. Вместо этого имел место длительный процесс эвтаназии, продолжавшийся три столетия. Социальный статус самураев был утрачен после провозглашения равенства всех граждан перед законом, хотя им была дарована пустая честь называться сидзоку, т. е. бывший самурай, которая не давала ни прав, ни льгот. В качестве воинов самураи уже потеряли большинство своих функций в условиях pax Токугава. Введение всеобщей воинской повинности в 1873 г. практически устранило последние еще сохранявшиеся отличия. В итоге признание права собственности на землю, как замечает Дж. Б. Сансом, ударило в средоточие феодальной гордости и привилегий, поскольку феодальное общество базировалось на том, что крестьяне обрабатывали землю, а помещики владели ей [Ibid., p. 330].
Вряд ли на это рассчитывали самураи, соглашаясь поддержать Реставрацию. Очень многие из тех, кто принимал участие в устранении Токугава, хотели всего лишь изменить феодальную систему в свою пользу, а не разрушить ее [Scalapino, 1953, p. 36]. Поэтому неудивительно, что феодальные силы восстали и бросились в атаку на новый режим после того, как прояснились последствия нового политического курса. Сацумское восстание в 1877 г. стало последней кровавой конвульсией прежнего режима. И как часть этой финальной судороги, по сути в качестве наследия угасавшего феодализма, возникает первое в Японии организованное «либеральное» движение. Вряд ли оно могло появиться в более неблагоприятных обстоятельствах.[171] После подавления Сацумского восстания правительство Мэйдзи почувствовало себя увереннее. За девять лет ему удалось демонтировать феодальный аппарат и заменить его базовой структурой общества современного типа. По сути это была революция сверху, реализованная с относительно малой долей насилия, если сравнивать ее с левыми революциями во Франции XVIII в., в России и в Китае XX в. В любом случае это был значительный успех для правительства, которому приходилось осторожно прокладывать себе путь в окружении конкурирующих великих князей и которое до 1873 г. не имело собственной армии и, по замечанию Сансома, по необходимости было намного более озабочено самосохранением, чем изучением политической и социальной анатомии.
Несколько факторов помогли успеху Мэйдзи. Новые правители использовали свои возможности расчетливо и в своих интересах. Они пошли на большие материальные уступки даймё и не побоялись обратить против себя самураев. Что касается сокращения стипендий самураев, сложно понять, какие альтернативные ресурсы были на тот момент у правительства. Оно также воздержалось от преждевременного вступления во внешнюю войну. Но если рассуждать на более глубоком уровне исторических причинно-следственных связей, еще режим Токугава своей политикой ослабил власть воина и подготовил дорогу централизованному государству, не создав в то же время никакого подавляющего революционного потенциала. Режим Мэйдзи, таким образом, продолжил прежнюю тенденцию и, как мы увидим в финале нашего обзора, сохранил в действии многое из исходной структуры. Наконец, как подчеркивали многие историки Японии, имперская система образовывала источник возникновения фундаментально консервативных сил и обеспечивала рамку правовой преемственности, внутри которой производились необходимые корректировки.
Перед продолжением анализа можно сделать паузу для нового взгляда на предположение, которым открывалась эта глава, сводившееся к тому, что феодализм является ключом для различения исторических судеб Японии, России и Китая в Новое время. На этом этапе, вероятно, становится ясно, что различия во внутренней социальной структуре оказываются лишь одной, хотя и очень важной переменной величиной. Также имели значение различия в сроках и внешних условиях на тот момент, p. 333]. Для многих японцев западный либерализм, наряду с западным оружием, был частью «магии» Запада, с помощью которой Япония также может надеяться на превращение в сильную державу и нанести поражение варварам. Демократия была просто технологией, посредством которой можно достичь того, что сегодня называется тоталитарным консенсусом. Здесь есть любопытные параллели с некоторыми американскими представлениями о борьбе с революциями и о коммунизме. когда досовременные институции рушились и адаптировались к современной эпохе.
Для Японии вмешательство Запада оказалось сравнительно неожиданным. Превосходство западного оружия и технологий быстро стало очевидным для многих японских лидеров. Вопрос самосохранения нации и необходимость предпринять соответствующие шаги для самозащиты приобрели первостепенное значение с драматической скоростью. Китай, упоминанием которого для простоты можно ограничиться в этих предварительных сопоставлениях, на первый взгляд превосходил Запад. В течение долгого времени его правители обращались с представителями западной цивилизации с вежливым любопытством и презрением. Отчасти из-за этого Западу со временем удалось получить существенную территориальную опору в Китае. Неадекватность императорской системы становилась очевидной лишь постепенно. В критические моменты Запад предпочел поддержать маньчжурскую династию в ее борьбе с внутренними врагами, как это было при восстании тайпинов, что еще более усыпило бдительность китайских правителей в отношении угрожавших им опасностей. Когда же к моменту восстания боксеров правящие круги полностью осознали угрозу, процесс упадка династии уже стал необратимым.
Чтобы эффективно решать возникавшие во второй половине XIX в. внешние и внутренние проблемы, китайская бюрократия должна была поощрять торговлю и расширять налоговую базу. Но такая политика разрушила бы гегемонию ученых чиновников, а заодно и весь статичный аграрный порядок, на котором покоилась их власть. Вместо этого чиновники и знатные семьи присвоили себе местные ресурсы после разрушения центрального аппарата. В начале XX в. региональные военачальники сменили имперскую бюрократию прежних лет.
Вполне возможно, что один из этих военачальников мог бы подчинить себе остальных и объединить Китай, чтобы начать политически-реакционную фазу развития страны, сопровождавшуюся промышленной модернизацией. Казалось, одно время Чан Кайши был близок к подобному успеху. Если бы так и произошло, историки сегодня указывали бы скорее на сходства, а не на различия между Китаем и Японией. Между этими странами возникла бы важная параллель в том, как один сегмент обособляет себя от остального общества, получает власть и порождает консервативный вариант модернизации.
Но был ли шанс на это в самом «раскладе», как сказал бы невезучий игрок? Прямого ответа дать невозможно. Хотя все-таки важные факторы говорят против этого. В дополнение к различиям между китайской бюрократией и японским феодализмом, повторюсь, свою роль сыграл фактор времени. Когда Чан попытался объединить Китай, ему пришлось столкнуться с агрессивной экспансией Японии. Если вернуться к внутренней политике, различие проявлялось также в характере и мировоззрении двух социальных фигур – мандаринов и самураев, возникших в результате резко несовпадающего исторического опыта. Мирный идеал джентльмена-ученого-чиновника становился все менее адекватным в условиях современного мира. Судьба идеала воина в Японии иная. Правящие классы искали пути возврата своего богатства. Если бы они смогли освободиться от некоторых устаревших понятий, вроде феодальной чести, смогли бы и прекрасно воспользоваться современными технологиями в военной сфере. Как показывает Сацумское восстание, избавиться от феодального романтизма было непросто. Но все-таки возможно, и это реально осуществилось. В то же время какую практическую пользу мог извлечь из современной техники китайский ученый чиновник, получивший классическое образование? Она не научила бы его умиротворять народ. В лучшем случае она превращалась в повод для взяточничества, разрушавшего систему, либо служила игрушкой и развлечением. С официальной точки зрения, новые технологии не были особенно полезными для крестьян, поскольку могли сделать их ленивыми и непокорными.
Таким образом, феодальная военная традиция в Японии поначалу обеспечила подходящую базу для реакционной версии индустриализации, пусть даже в долговременной перспективе это могло стать роковым. В досовременном обществе и культуре Китая почти не было оснований, на которых мог бы возникнуть военный патриотизм японского типа. По сравнению с Японией реакционный национализм Чан Кайши казался слабым и бесцветным. Лишь когда Китай начал переделывать свои институции в духе коммунизма, возникло сильное ощущение исторической миссии.
Далее, несмотря на централизацию правительства Токугава, феодальные единицы в Японии сохраняли свою специфическую идентичность. Японские княжества были независимыми ячейками, которые, вероятно, сохранились бы достаточно хорошо, если бы они были отделены от политической системы Токугава. Их лидеры получили от pax Токугава возможность мирных наслаждений аристократическими привилегиями. Когда система встретилась с внезапной угрозой, нескольким феодальным вассалам было не слишком трудно изолировать себя от нее и совершить coup d’?tat. Таким образом, имперская Реставрация имела черты успешной Фронды. Однако лучшей аналогией была бы Пруссия, как это заметил еще полвека назад Торстейн Веблен в своей книге «Imperial Germany and the Industrial Revolution». Несмотря на очень важные различия, которые будут рассмотрены ниже, существенное сходство между этими странами основывается, во-первых, на способности сегмента земельной аристократии вопреки желанию отстающих представителей своего класса развивать индустриализацию ради того, чтобы догнать другие страны, а во-вторых, на роковом исходе всей этой политики в середине XX в. Сохранение феодальных традиций с сильным элементом бюрократической иерархии – общая черта Германии и Японии. В этом они отличаются от Англии, Франции и Соединенных Штатов, где феодализм был преодолен либо вообще отсутствовал и где модернизация произошла рано и под покровительством демократии, причем эта фундаментальная трансформация сопровождалась всеми непременными признаками буржуазной революции. В этом отношении Германия и Япония не меньше отличались от России и Китая, которые были скорее аграрными бюрократиями, чем феодальными государствами.
Поэтому, конечно, не сам по себе феодализм как общая абстрактная категория является ключом к тому, по какому именно пути японское общество вошло в современную эпоху. К феодализму нужно добавить фактор времени. Кроме того, этот скачок оказался возможным вследствие специфического разнообразия японского феодализма с существенными бюрократическими элементами. Особый характер японских феодальных уз с гораздо более сильным акцентом на статусе и лояльности воина, чем на свободно принятом договорном отношении, означал, что один из источников импульса, обусловившего западное разнообразие свободных институций, здесь отсутствовал. В то же время бюрократическая власть японского государства производила характерный для себя результат – покорную и опасливую буржуазию, не способную бросить вызов старому порядку. Хотя причины отсутствия серьезного интеллектуального сопротивления и лежали в глубинах японской истории, они составляли часть того же феномена. Интеллектуальные и социальные изменения, способствовавшие буржуазным революциям на Западе, здесь были слабыми либо несущественными. Наконец, и, возможно, это самое важное, на протяжении всего периода перехода к индустриальному обществу правящим классам удавалось сдерживать и отвлекать разрушительные силы, возникавшие в крестьянской среде. В Японии не произошло не только буржуазной, но и крестьянской революции. Нашей следующей задачей станет анализ того, как и почему оказалось возможным усмирить крестьян.