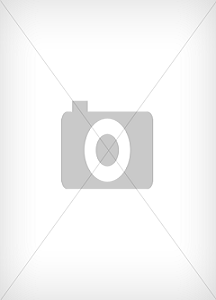2. Отсутствие крестьянской революции
Три взаимосвязанные причины могут объяснить отсутствие крестьянской революции при переходе от аграрного к индустриальному обществу в Японии. Во-первых, система налогообложения Токугава, похоже, обеспечивала растущую прибыль тем крестьянам, которые были достаточно энергичными, чтобы увеличить свое производство. В итоге она стимулировала производство, которое начало расти к концу эры Токугава и продолжило свой рост при Мэйдзи. Во-вторых, в отличие от Китая для японской сельской жизни было характерно наличие тесных связей между крестьянской общиной и феодальным господином и его историческим наследником – помещиком. Одновременно (и вновь в отличие от Китая, хотя соответствующая информация по этой стране обрывочна) японская крестьянская община обеспечивала сильную систему социального контроля, которая склоняла к поддержанию status quo всех, кто испытывал актуальное или потенциальное недовольство. Это объясняется специфической системой разделения труда в сочетании с особенностями системы землевладения, аренды и наследования, которая превалировала в последние годы Токугава. В-третьих, этот набор институций показал свою способность адаптироваться к коммерческому сельскому хозяйству с помощью репрессивных механизмов, перенятых у старого режима, наряду с новыми, свойственными обществу современного типа. Ключевым фактором здесь стал рост нового класса помещиков, рекрутированных в значительной мере из самих крестьян, которые использовали государственные и традиционные механизмы деревенского сообщества, чтобы вымогать рис у крестьян и продавать его на рынке. Переход от старых феодальных порядков к арендным отношениям также принес некоторые выгоды для крестьян, находившихся на нижней ступени социальной лестницы. В общем и целом оказалось, что можно перенять старый, унаследованный из прошлого порядок и включить крестьянскую экономику в индустриальное общество – правда, ценой фашизма.
Переход оказался нелегким. Временами не просматривалось ясно, смогут ли правящие классы довести его до конца. Силовое крестьянское сопротивление было достаточно умеренным. По разным причинам нынешнее поколение западных историков предпочитает принижать значимость крестьянского недовольства. Поэтому перед подробным рассмотрением социальных тенденций и отношений в деревне стоит проанализировать имеющиеся свидетельства. Если сделать это сразу, иллюзия предопределенности может исчезнуть. О буржуазной революции, на мой взгляд, не могло быть и речи. Однако намного меньше причин считать невозможной крестьянскую революцию.
Последние годы периода Токугава отличались многочисленными вспышками крестьянского насилия. Хотя, конечно, невозможно определить объективные обстоятельства, ставшие поводом для большинства из этих восстаний, и в еще меньшей степени – мотивы участников, есть серьезные указания на то, что коммерческие веяния сыграли в этом важную роль. Во многих случаях гнев обрушивался именно на торговцев. Например, в 1783–1787 гг. после ряда неурожаев крестьяне в западных провинциях восстали против купцов, которые стали помещиками, присвоив себе землю в обмен на деньги и товары, взятые в долг крестьянами. Кроме того, крестьяне восставали против деревенских чиновников, которые как представители правящего класса собирали налоги, шпионили за крестьянами и увеличивали поборы ради собственной выгоды [Borton, 1937, p. 18–19]. В 1823 г. в одном из доменов Токугава 100 тыс. фермеров взбунтовались против коррупции местных правителей, вступивших в сговор с продавцами риса. В одном из таких крупных восстаний непосредственный повод для выступления дали местные чиновники, молившие богов о плохом урожае и ради роста цен желавшие разъярить бога-дракона Рюдзина [Ibid., p. 27–28]. Уже к середине периода Токугава, т. е. к середине XVIII в., возникают споры из-за аренды [Ibid., p. 31, 32] – именно такого рода конфликты стали намного более важными после Реставрации.
Прямое насилие было не единственным оружием, к которому прибегали крестьяне. Некоторые из них, подобно русским крестьянам, «голосовали ногами» задолго до того, как им довелось услышать об избирательном бюллетене, хотя возможностей для перемены места жительства в Японии было гораздо меньше, чем в России. В некоторых областях возникла практика, при которой одна или несколько деревень массово покидали прежнее местожительство, – важный признак солидарности в японской деревне. Беглые крестьяне переходили в соседнее княжество или в соседнюю провинцию и просили у господина разрешения остаться в его владениях. Согласно Бортону, сохранились записи о 106 подобных уходах, большинство из которых происходили в регионе Сикоку [Ibid., p. 31].
Свидетельство Бортона достаточно ясно показывает, что вторжение коммерческих отношений в феодальную организацию деревни ставило перед правящими кругами все более сложные проблемы. Для вспышек крестьянского насилия было три главных повода: борьба с феодальным сюзереном, торговцами и нарождающимся классом помещиков. Поскольку эти три институции становились взаимосвязанными, крестьянское движение приобретало все большую опасность. Одна из причин того, что правительство Мэйдзи оказалось способно выдержать этот шторм, могла состоять в том, что подобная взаимосвязанность была сравнительно слабой в главной территориальной базе имперского движения – в великом княжестве Тёсю.
Некоторое время сразу после Реставрации опасность продолжала усиливаться. Крестьянам было обещано, что вся государственная земля (за исключением храмовой) будет поделена в их интересах. Но вскоре выяснилось, что это обещание выполнено не будет, а кроме того, не будет снижено и налоговое бремя. Крестьянам стало понятно, что они ничего не выгадают при новом режиме. Аграрные восстания достигли пика насилия в 1873 г., в год введения нового земельного налога [Norman, 1940, p. 71–72], который рассматривается ниже в контексте помещичьих проблем. В первое десятилетие правления Мэйдзи произошло свыше 200 крестьянских восстаний, намного больше, чем в любое десятилетие при Токугава. «Никогда в современную эпоху, – пишет Т. К. Смит, отнюдь не склонный к преувеличению крестьянского насилия, – Япония не приближалась настолько близко к социальной революции» [Smith, 1955, p. 30].
Ведущей темой в крестьянском движении того десятилетия было «упрямое неприятие арендной платы, ростовщичества и непосильных налогов», что является обычной реакцией крестьянина на проникновение капиталистических отношений в деревню [Ibid., p. 75]. Этот реакционный ответ был хорошо ощутим в Японии. Многие самураи тут же воспользовались своим знанием крестьянской психологии и даже возглавили крестьянские антиправительственные выступления. Это стало возможным, как мы увидим, из-за того, что именно самураи были основными жертвами Реставрации. Но там, где возникало самурайское руководство, оно мешало крестьянскому движению превратиться в эффективную революционную силу.
Сокращение налогообложения в 1877 г. положило конец первой и наиболее серьезной волне крестьянских выступлений [Ibid., p. 72, 75]. Последующая вспышка в 1884–1885 гг. имела скорее местное значение, ограниченное горными регионами к северу от Токио, известными производством грубого шелка и текстильной промышленностью. Крестьянские домохозяйства, работавшие по системе надомного труда, получали большую часть своего дохода из этих источников. После распада Дзиюто, раннего «либерального» движения в Японии, некоторые его радикальные приверженцы на местах, разочарованные предательством своих лидеров и подталкиваемые непрекращающимися экономическими трудностями, прибегли к открытому бунту [Ike, 1950, ch. 14, p. 164]. В одной префектуре, Чичибу, восстание было настолько жестким, что напоминало миниатюрную гражданскую войну, и, после того как оно привлекло к себе широкое народное внимание, для его подавления потребовались серьезные усилия армии и военной полиции. С ним было связано несколько параллельных восстаний, одно из которых породило совершенно революционные лозунги и публичные заявления с конкретными целями – такими, как сокращение налогов и пересмотр призывного закона. Значимо то, что даже эта группа называла себя патриотическим обществом («Аикоку Сеирися», «Общество патриотической истины»). Однако в других случаях правительству удалось подавить бунты. Их главным последствием стало усиление разрыва между самыми преуспевающими кругами в деревне, в основном новыми помещиками, и беднейшими слоями крестьянства.
Вскоре после этого, в 1889 г., правительство провозгласило новую конституцию, которая предусмотрительно сохраняла право голоса только за состоятельными людьми. Из населения численностью около 50 млн избирательные права получили лишь 460 тыс. человек [Ike, 1950, p. 188]. Сельский радикализм вновь стал серьезной проблемой только вместе со спорами об аренде земли после Первой мировой войны.
Описанные выше крестьянские бунты свидетельствуют об абсолютно разобщенных актах противостояния переходу от досовременного сельского хозяйства к новой системе. Эти выступления отражают многие типичные проблемы, связанные с развитием капитализма и коммерческого фермерства на селе. Почему они не были более серьезными? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внимательно рассмотреть деревенское общество Японии и перемены, которым оно подверглось.
Как в любом сельскохозяйственном обществе, японские крестьяне производили большую часть экономического излишка, который доставался высшим классам, поскольку методы извлечения прибыли образовывали ядро почти всех политических и социальных проблем. Профессор Асакава, выдающийся историк старшего поколения, заметил, что первоочередной заботой сельской администрации при Токугава был сбор налогов. «Едва ли какие-то положения сельских законов не имели прямого или косвенного отношения к субъекту налогообложения; и едва ли какие-то моменты во всей структуре феодального правления и национального благосостояния были независимы от решения этой фундаментальной проблемы» [Asakawa, 1910, p. 269]. Феодальная система налогообложения объясняет довольно сплоченный характер японской деревни, вызывавший удивление у историков и современных наблюдателей. Одновременно феодальные структуры в Японии тесно связывали крестьян с теми, кто ими правил.
Главным был налог на землю, налагавшийся не на отдельного крестьянина, а на официально установленную производственную мощность каждого земельного надела. С официальной точки зрения крестьянин был средством для извлечения из надела требуемого дохода [Ibid., p. 277]. Вплоть до последнего времени специалисты по Японии полагали, что в целом феодальный правитель эпохи Токугава, подстегиваемый ростом расходов в том числе в столице сёгуната, прибегал к механизму деревенской администрации, чтобы извлекать все большую прибыль из крестьянского труда [Norman, 1940, p. 21]. Однако тщательное изучение случаев распределения налогового бремени в нескольких достаточно удаленных друг от друга деревнях показало, что это умозаключение далеко от истины. В действительности уровень налогообложения оставался почти неизменным, в то время как производительность крестьянского хозяйства заметно выросла. Следствием этого было то, что на руках у крестьян оставалась все большая доля прибыли [Smith, 1958, p. 3–19, 5–6, 8, 10].
Система налогообложения была невыгодна тем крестьянам, которые не могли увеличить доход со своей земли, и благоприятствовала тем, которые повышали производительность. Хотя подробности ее функционирования неясны, легко заметить, что система налогообложения, которая взимала фиксированный объем продукции с каждой фермы из года в год, вела к этому результату. Мы не знаем точно, как японские крестьяне распределяли налог, налагавшийся на деревню в целом, пропорционально помещичьей оценке урожая с каждого поля. Но есть достаточно серьезные подтверждения тому, что налоговая система поощряла рост производительности [Ibid., p. 4, 10–11]. Кроме того, нет никаких указаний на периодические перераспределения собственности и ее обременений, что имело место в русской деревне. Похоже, налоговая система и аграрная политика эпохи Токугава, реализованные без расчетливого плана правящим классом и самими крестьянами, были «ставкой на сильных».
Далее, структура японского общества как такового создавала определенные помехи для роста революционного потенциала среди крестьян. Некоторые из них также проявляются в том, как функционировала система налогообложения Токугава. Отделение воина от земли при первых правителях Токугава означало, что финансовые обязательства крестьянина по отношению к правительству приобрели вид скорее публичного правительственного налога, чем персонального обязательства перед своим господином. Баналитетов не было, а прежняя персональная барщина постепенно превратилась в общественные работы [Asakawa, 1910, p. 277]. Весьма вероятно, что эта видимость публичных обязательств облегчила крестьянину перенос лояльности с феодального сюзерена на современное государство, когда для этого пришло время в процессе реформы Мэйдзи.
Наряду с этими бюрократическими чертами, которые поставили режим Токугава над крестьянами в качестве безликого «правительства», он сохранил даже более важные феодальные и патерналистские особенности, позволявшие правящим воинам запускать руку в дела крестьянского сообщества.
Для повышения эффективности системы налогообложения и для патерналистского надзора за деревенской жизнью правители Токугава реанимировали древний китайский принцип сельского управления, известный как бао. В Китае этот способ разделения крестьянских домохозяйств на небольшие группы, принимавшие на себя ответственность за поведение своих членов, похоже, так никогда и не был особенно успешным. В Японии он был известен еще с великих заимствований из Китая в VII в., но оставался всего лишь древним пережитком к тому моменту, когда первые Токугава ухватились за него и насильственно вменили в обязанность для всего подвластного им сельского и городского населения. Асакава утверждает, что каждый житель деревни, независимо от должности и статуса, был зачислен в свою пятерку и что этот приказ был успешно выполнен. Обычно в пятерку входили пять глав соседних землевладельческих домохозяйств, а также их семьи, зависимые люди и арендаторы [Asakawa, 1910, p. 267]. Примерно с середины XVII в. распространился обычай принесения всей пятеркой торжественной клятвы выполнять указания господина, сохраняя их на практике как можно ближе к той форме, в которой они были даны [Ibid., p. 268].
Принцип разделения на пятерки был дополнен с помощью публичных прокламаций, вывешиваемых в деревнях на досках объявлений, которые призывали крестьян к хорошему поведению. Нередко в современных сочинениях можно встретить суждение, что японские крестьяне были настолько покорными власти, что одних этих публичных объявлений было чуть ли не достаточно для того, чтобы они жили в мире и порядке. Я хочу показать, что для подобной законопослушности, прерывавшейся периодами серьезных выступлений, были также иные, более значимые причины. Тем не менее на текст одного из этих сообщений стоит обратить внимание, поскольку оно может изменить мнение о «врожденной» законопослушности японских крестьян. Хотя в этом тексте середины XVII в. упоминается Будда, его тон совершенно конфуцианский:
Храни сыновнее почтение к родителям. Первый принцип сыновней почтительности – беречь свое здоровье. Родителям особенно приятно, если ты воздерживаешься от пьянства и драк, если любишь младшего брата и подчиняешься старшему. Если ты следуешь этому правилу, тебя благословят боги и Будда, ты пойдешь по верному пути и твоя земля будет приносить хороший урожай. Однако если ты будешь беззаботным и ленивым, ты обеднеешь и разоришься и в конце концов займешься воровством. Тогда тобой займется закон: тебя схватят, свяжут веревкой и посадят в клетку, а то даже и повесят! Если такое случится, какими несчастными будут твои родители! Твоя жена, твои дети и братья будут страдать из-за твоего преступления.
В продолжение этого увещевания говорится кое-что о материальном вознаграждении за хорошее поведение, а завершается текст следующим красноречивым призывом:
Жизнь крестьянина поистине самая безмятежная при условии, что он регулярно платит налоги. Поэтому никогда не забывай об этих наставлениях… (цит. по: [Takizawa, 1927, p. 118]).
С помощью пятерок, а также другими способами вся деревня вовлекалась в активный интерес к образу жизни каждого домохозяйства. Брак, усыновление, преемственность и наследование подвергались эффективному контролю. Ожидалось, что крестьяне присматривают друг за другом, исправляют поведение друг друга, разрешают споры по возможности путем взаимной договоренности. Крестьянам строжайше запрещалось иметь огнестрельное оружие, носить меч, изучать конфуцианские тексты или перенимать новые религиозные практики [Asakawa, 1910, p. 275].
Другим проводником правительственного контроля был деревенский староста. В большинстве деревень должность старосты переходила от отца к сыну вместе с семейным руководством либо удерживалась несколькими виднейшими семьями [Smith, 1959, p. 58]. Также было распространено назначение старосты господином или его представителем [Asakawa, 1911, p. 167]. Лишь в деревнях, затронутых коммерческими веяниями, где традиционная структура уже начала разрушаться, появляются выборные старосты [Smith, 1959, p. 58].
Помещик делал все возможное, чтобы возвысить и поддержать авторитет и власть старосты, главы небольшой олигархии, которой была японская деревня в эпоху Токугава. Главным образом власть старосты основывалась на манипуляциях общественным мнением в деревне. Вместо того чтобы противостоять этому мнению, в критические моменты староста мог принять сторону деревни вопреки воле господина, даже если последствием этого была верная смерть. Но такие случаи были исключением. В основном староста старался согласовать интересы помещика с интересами наиболее уважаемых крестьян через поиск консенсуса либо общей выгоды [Ibid., p. 59–60].
Японские деревни демонстрировали сильную потребность в единодушии, что заставляет вспомнить о русской «соборности». Личным делам придавался общественный характер, чтобы исключить возможность девиантного мнения или поведения. Поскольку любой секрет автоматически внушал подозрение, человек, имевший приватное дело с кем-либо из другой деревни, должен был вести его через своего старосту. Сплетни, остракизм и более серьезные санкции, такие как сход у дома провинившегося с битьем в горшки и кастрюли или даже изгнание (что означало разрыв крестьянина с человеческим обществом, скорую голодную смерть либо неизбежное столкновение с законом), – все это помогало поддерживать единообразие, по всей видимости намного более гнетущее, чем любое из тех, которые проклинают современные западные интеллектуалы. Лишь после того, как староста изучал настроение сообщества путем тщательных консультаций с другими ведущими фигурами, он выражал собственное мнение по существенному вопросу. Крестьяне делали все возможное, чтобы избежать открытого конфликта мнений. Смит упоминает об одной деревне, где еще совсем недавно, после Второй мировой войны, деревенская община приватно собиралась накануне публичного собрания с тем, чтобы ее последующие решения стали единогласными. Подобным образом и староста в эпоху Токугава собирал вместе стороны, чтобы достичь компромисса в каком-нибудь межевом споре. Лишь после достижения компромисса и урегулирования проблемы он издавал свое «распоряжение» [Smith, 1959, p. 60–64].
Система налогообложения, наряду с мерами политического и социального контроля, которые ее поддерживали, была главным внешним источником солидарности в японской деревне. Кроме того, были не менее важные внутренние источники: прежде всего система экономической кооперации и тесно связанная с ней структура родственных обязательств и правил наследования.
Хотя не было никаких признаков наличия системы коллективной культивации, земля принадлежала деревне, которая сохраняла за своими жителями исключительное право возделывать ее [Ibid., p. 36]. Общинные земли обеспечивали крестьянские семьи топливом, фуражом, компостом и строительными материалами. В отличие от общинных земель в Европе они не были резервом, предназначенным в основном для поддержания беднейших крестьян, но подлежали эффективному контролю со стороны зажиточных домохозяйств [Ibid., p. 14, 41, 181–183]. Сходным образом распределение воды для орошения риса было решающим делом для всей деревни. Несмотря на важность вопросов ирригации, сами по себе они вряд ли были бы достаточны для создания солидарности, характерной для японской деревни. Мы видели, что деревенская ирригация в Китае не привела к возникновению сколько-нибудь заметной солидарности. Даже в эпоху Токугава японская культура возделывания риса требовала многочисленной и хорошо организованной рабочей силы для весеннего сева. Рис высаживали не прямо на поле, но сначала на специальных грядках, откуда рассада впоследствии пересаживалась. Чтобы не повредить молодые растения, пересадку нужно было выполнить за очень короткое время. Требовались огромные объемы воды для того, чтобы почва дошла до состояния густой пасты, пригодной для укоренения рассады. Поскольку требуемый объем воды можно было обеспечить лишь на несколько полей, приходилось орошать и засеивать поля одно за другим, чтобы сократить до немногих часов время, затрачиваемое на эту операцию на каждом поле. Для завершения пересадки в доступный период времени требовалась рабочая сила, намного превышавшая ресурсы отдельной семьи.[172]
Японские крестьяне решали проблему нехватки рабочей силы, которая наиболее остро возникала при выращивании риса, хотя проявлялась и в случае других видов сельскохозяйственной продукции, с помощью системы родственных и наследственных связей, при необходимости расширяя ее посредством полуродственных или даже псевдородственных отношений. В большинстве деревень в XVII в. одно или два землевладения были гораздо крупнее прочих. Часть рабочей силы для них обеспечивалась через расширение принадлежности к семье за рамки, обычные для небольших хозяйств, посредством удержания в семье младшего поколения после заключения брака, а также родственников по побочным линиям. Там, где семейных ресурсов было недостаточно, что случалось нередко, владельцы крупных землевладений обычно прибегали к двум методам. Они предоставляли особым людям, звавшимся наго (помимо этого существовало множество локальных наименований), небольшие участки земли с отдельным жильем в обмен на рабочую силу. Другой метод состоял в использовании потомственных слуг (генин, также фудай), которые вместе со своими детьми оставались внутри семьи из поколения в поколение [Smith, 1959, p. 8–11].
Как мелкие арендаторы, так и потомственные слуги по большей части приспосабливались к образу жизни большого хозяйства, в котором трудились ветви исходной семьи. Экономические отношения тех и других были аналогичными по сути, если не по степени. Смит, наш главный авторитет в этом вопросе, предостерегает от того, чтобы считать мелких арендаторов отдельным классом. Они отличались лишь формально-юридически. Экономически и социально их позиция больше походила на положение родственников [Ibid., p. 46, 49].
Таким образом, японская деревня в досовременную эпоху была не кластером автономных фермерских единиц, но кластером взаимозависимых хозяйств, как крупных, так и мелких. Крупные землевладения обеспечивали общий фонд капитала в форме орудий труда, животных, семян, фуража, удобрений и т. д., на который периодически могли рассчитывать мелкие хозяйства. Взамен мелкие хозяйства поставляли рабочую силу [Ibid., p. 50]. Разделение капитала и рабочей силы в том, что касалось владения, и их воссоединение в производственном процессе демонстрируют некоторое сходство с устройством капиталистической индустрии. Исследование, выполненное на основе сотни деревенских реестров XVII в. со всех областей Японии, показывает, что в большинстве деревень от 40 до 80 % владельцев обрабатываемой земли не имели своего дома [Smith, 1959, p. 42]. И в то же время патерналистские и квазиродственные отношения между собственниками больших земельных владений и поставщиками рабочей силы помогали предотвращать классовые конфликты в деревне. Было бы сложно утверждать, что крупные земельные собственники обладали чем-то вроде монополии на власть, хотя система несомненно имела определенные эксплуататорские черты, – так, небольшие хозяйства обычно не могли выращивать рис на бедной почве, которая была им назначена [Ibid., p. 25–26]. В трудные времена крупным собственникам приходилось помогать своим менее удачливым подчиненным. Кроме того, право отказа в помощи в критическую пору сбора урожая риса должно было быть важной санкцией в руках тех, кто поставлял рабочую силу, даже если подобный отказ требовал серьезнейших оправданий в глазах деревенской общины [Ibid., p. 51].
Несколько замечаний о собственности и наследовании помогут завершить этот очерк деревенской жизни в досовременную эпоху. Как мы видели, мелкие арендаторы, многие из которых даже не имели своего дома, просто возделывали полоски земли, не имея возможности прокормить семью без обмена рабочей силы на другие ресурсы [Ibid., p. 48]. Если перейти теперь к крупным землевладельцам, мы понимаем, что, хотя собственность могла быть разделена между наследниками, должность главы семьи разделу не подлежала. Система наследования была несправедливой, общественное мнение было настроено против ненужной щедрости в отношении дальних родственников. Оправдание несправедливого раздела состояло в том, что требовалось снять с основной семьи обязанность поддерживать «избыточных» родственников. Сохраняя большую часть земли и расселяя «избыточных» родственников на небольшие участки, основная семья могла обеспечить себе большой земельный надел и достаточно рабочей силы [Ibid., p. 37–40, 42–45].
Политические последствия подобного устройства крестьянской общины в последние годы Токугава представляются очевидными. Понятно, что отсутствие полномасштабной крестьянской революции в эти бурные времена нельзя считать следствием примерного равенства в земельной собственности. Скорее дело было в ряде взаимных обязательств между теми, кто не имел собственности, и теми, кто ее имел, что и помогло сохранить стабильность. Досовременная деревенская община в Японии по всем признакам была весьма мощным механизмом интеграции и контроля за жизнью отдельных людей, у которых могли возникнуть реальные или потенциальные причины для недовольства. Кроме того, формальные и неформальные каналы контроля между сюзереном и крестьянством, похоже, были весьма эффективными. С помощью ясных и признанных процедур господин имел возможность продемонстрировать свою волю, а крестьяне имели возможность показать, в какой мере они готовы ему подчиниться. Складывается сильное впечатление, что общество эпохи Токугава, когда оно неплохо функционировало, состояло из серии нисходящих и расходящихся вширь цепочек авторитетных лидеров со своим кругом ближайших сторонников, связанных сверху донизу патриархальными и персональными узами, что позволяло тем, кто занимал руководящую позицию, понимать, до какого предела они могут усиливать нажим на своих подчиненных. Возможно, в таком порядке и было нечто специфически феодальное, однако этим отличается любая устойчивая иерархия.
Ключом к социальной структуре досовременной японской деревни был обмен труда на капитал, а также наоборот, при отсутствии безличного рыночного механизма посредством более личного механизма родства. Наступление рынка изменило эти отношения, хотя их следы сохраняются в позднейшей крестьянской общине в Японии, вплоть до настоящего времени. Наша следующая задача – проследить влияние рынка или вообще роста коммерческого сельского хозяйства и в особенности политических последствий этой трансформации, которая начала ощущаться еще в эпоху Токугава.
Вторая половина периода Токугава сопровождалась значительным улучшением сельскохозяйственных технологий. После 1700 г. начали появляться настоящие научные трактаты по сельскому хозяйству в замечательной параллели с процессами, одновременно проходившими в Англии. После нескольких ритуальных отсылок к конфуцианской доктрине гармонии с природой авторы этих трактатов тут же переходили к совершенно практическим вопросам улучшения того, что происходит в природе. Имеются ясные указания на то, что знание, изложенное в этих трактатах, проникало в крестьянскую среду. Основным мотивом, к которому обращались их авторы, был собственный интерес, но только не индивида, а всей семьи. Никто не апеллировал к понятиям благополучия общества или государства [Smith, 1959, p. 87–88, 92].
Сколько-нибудь подробное описание технических усовершенствований увело бы нас слишком далеко от нашей главной темы политических изменений. Достаточно упомянуть улучшения в ирригации, которые расширили использование риса-падди и дали прибавку в урожае, использование коммерческих удобрений вместо травы, которую собирали на горных склонах и втаптывали в поля, и изобретение нового устройства для молотьбы, которое, по слухам, молотило рис в десять раз быстрее, чем прежний метод [Ibid., p. 97–102]. Для нас самое важное, что все эти перемены в отличие от не менее впечатляющей революции в устройстве механизмов скорее увеличили, чем снизили общий объем рабочей силы, требуемой для японского сельского хозяйства. Хотя технические усовершенствования (коммерческие удобрения и новое устройство для молотьбы) облегчили рабочую нагрузку в пиковые моменты посевной и сбора урожая, общая рабочая нагрузка не снизилась, поскольку японцы различными способами перешли к выращиванию двух урожаев. Пиковые рабочие нагрузки для нового урожая были, насколько возможно, смещены по времени с тем, чтобы они совпадали с периодом малой активности в работе над предыдущим урожаем. Таким образом, общий итог состоял в распределении большего объема работ более равномерным образом в течение года [Smith, 1959, p. 101–102, 142–143].
Отчасти из-за роста аграрного производства рыночный обмен товаров все более распространялся в сельских регионах. То же произошло с использованием денег, хотя деньги как таковые были известны задолго до этого: еще в XV в. корейский посол жаловался, что нищие и проститутки не берут ничего, кроме денег. В конце эпохи Токугава организованную рыночную торговлю, производившуюся с периодичностью раз в десять дней, можно было встретить в самых отдаленных и отсталых регионах [Ibid., p. 72–73]. Хотя есть указания на высокий уровень крестьянской самодостаточности, которая сохранялась долгое время и в эпоху Мэйдзи [Ibid., p. 72], ясно, что Япония, в отличие от Китая, еще в XVIII в. по собственной инициативе предприняла весьма существенные шаги для превращения в современное государство. Во многом различие сводится к pax Токугава, умиротворение которого разительно отличалось от хаоса, царившего в Китае при маньчжурской династии, к тому времени пребывавшей в упадке.
Тем временем в силу экономического прогресса традиционная система крупных землевладений с их сателлитами повсеместно сменялась семейными фермами и группировками по принципу помещик – арендатор. Фундаментальной причиной этого стало постепенное сокращение трудовых ресурсов на селе. Рост деревенской торговли и промышленности привел к тому, что собственникам крупных землевладений приходилось отдавать больше земли зависевшим от них мелким арендаторам для того, чтобы удерживать их на месте вопреки притяжению городов. Помимо этого, мелкие арендаторы (наго) находили все больше возможностей для того, чтобы заработать деньги руками и ремеслом. Наемный труд постепенно вытеснял прежние формы занятости. В качестве юридической категории, а постепенно и в качестве экономической и социальной реальности мелкий зависимый арендатор стал редкостью в сельской местности. К концу XIX в. от этого класса остались только воспоминания. Общая тенденция вела к подъему мелких зависимых арендаторов до статуса независимых семей, немногие из которых были собственниками, а большинство – фермерами-арендаторами [Ibid., p. 33, 34, 83, 133, 134, 137].
Параллельный процесс привел к сходным результатам в случае наследных слуг – другого основного источника рабочей силы для крупных землевладельцев за пределами собственной семьи. Здесь также наступление рынка освободило деревенского рабочего от традиционных семейственных отношений, хотя его выгода от независимости была как максимум невелика. «Договор» найма нередко осложнялся долгами, которые могли по-прежнему держать бывшего слугу в подчинении в течение продолжительного периода времени. Тем не менее фундаментальное преимущество в спросе было на стороне рабочего. К концу эпохи Токугава наемный труд стал весьма распространенным. Спрос увеличил его цену и освободил рабочего от традиционных ограничений. Таким образом, постепенные улучшения в экономическом статусе бывшего мелкого арендатора и наследного слуги помогли ускорить развитие арендного фермерства [Ibid., p. 108–118, 120, 123].
К середине XVIII в. сдвиг в сторону арендного фермерства стал мощной тенденцией [Ibid., p. 5, 132]. Крупные помещики за полвека до этого уже осознали, что высокая стоимость рабочей силы в ее изменчивой форме сделала невозможным успешное управление обширными землевладениями. Рост стоимости рабочей силы продолжился в течение следующего столетия, а к середине XIX в. многие наемные рабочие, сообразившие, что могут прокормить свою семью, полагаясь исключительно на свои заработки, перестали активно работать на собственников земли, нередко исчезая без предупреждения именно тогда, когда в них больше всего нуждались. Эти условия благоприятствовали возникновению земельных наделов, предназначенных для одной семьи арендаторов, прежде бывших мелкими зависимыми собственниками земли [Ibid., p. 124, 127, 131–132]. После того как обширные единицы землевладения были разделены на более практичные мелкие, которые возделывали фермеры-арендаторы, крупным землевладельцам удалось сохранить и в некоторых случаях даже увеличить доходы с земли. Теперь арендаторам приходилось нести растущее бремя расходов на удобрение почв и другие формы культивации, чего они могли достичь двумя способами: вести более скромный образ жизни либо увеличить свой доход с помощью ремесла, поскольку начался рост торговли и промышленности [Ibid., p. 127–131].
Итоговым результатом стало не исчезновение крупных землевладений, но изменение методов их эксплуатации – произошел переход от системы, основанной на семье, к системе, основанной на аренде. Единица обработки уменьшилась, единица собственности, как правило, возросла. Собственники не только не избавились от крупных землевладений, как считал Смит, но, напротив, весьма расширили их, когда догадались, как решить свои проблемы посредством арендаторов [Smith, 1959, p. 126, 131, 141]. Патерналистские отношения сменились потенциально конфликтными отношениями помещика и арендатора, ведь класс помещиков возник по большей части из крестьянства, а не из аристократии после возникновения коммерческого фермерства. Новые проблемы, ставшие результатом этих отношений, как мы знаем, в течение долгого времени играли роковую роль в судьбе Японии.
Как можно было предвидеть на основании опыта других стран, новые коммерческие отношения создали тенденцию к концентрации земли в руках меньшего числа собственников и к уничтожению прежних семейственных отношений внутри крестьянской общины [Ibid., p. 145–146, 149, 157–163]. Значительный факт, касающийся Японии, состоит, однако, в том, что эти тенденции не продвинулись достаточно далеко. После развития арендного фермерства в качестве решения проблем коммерческого сельского хозяйства отношения собственности претерпели лишь незначительные изменения на протяжении почти целого века. Несмотря на некоторые признаки возможной экспроприации собственности крестьянства, этого не случилось. Со своей стороны крестьянство не восстало с целью экспроприации собственности господствующего класса японского общества. Тем не менее к середине XIX в. вторжение коммерческих отношений в сельское хозяйство создало опасную ситуацию для старого режима и оставило серьезные проблемы в наследство правительству Мэйдзи.
Первые шаги Японии в направлении индустриального общества в первые годы Мэйдзи были знакомыми мерами, призванными извлечь больше ресурсов из подвластного населения. Как и в Советской России, в основном японские крестьяне заплатили за то, что марксисты называют первоначальным накоплением капитала, собиранием достаточного капитала для совершения скачка из аграрного в индустриальное общество. Но во многом благодаря иным условиям, в которых провели тогда индустриализацию, японский опыт оказался почти прямо противоположным советскому.
Новое правительство нуждалось в регулярном и надежном источнике доходов. Принятый в 1873 г. земельный налог был сознательно выбранной мерой, пожалуй единственно возможной экономически и политически в данных обстоятельствах. Крестьяне обеспечивали правительству большую часть доходов.[173] Поэтому когда правительство предприняло большинство первоначальных шагов в сторону индустриализации – с тем, чтобы переложить расходы на частных собственников в течение нескольких лет, – именно крестьяне заплатили за первые этапы промышленного роста.
Однако, по мнению современных авторитетов, земельный налог Мэйдзи не предполагал увеличения поборов в сравнении с эпохой Токугава. Новое правительство просто перенаправило деньги по новым каналам, преуспев с модернизацией без снижения стандартов жизни в деревне [Ibid., p. 111]. Это оказалось возможным благодаря продолжавшемуся росту производительности в сельском хозяйстве, как и при Токугава.[174] Рост продолжался на протяжении большей части японской истории, рассматриваемой в этой книге. По оценкам, в период с 1880 по 1940 г. урожаи удвоились [Dore, 1959, p. 19]. Нужно с осторожностью относиться к оптимистичным выводам о шансах нереволюционного способа индустриализации, сделанным на основании этих фактов. Япония – так же, как и другие страны – заплатила цену за провал модернизации своей аграрной структуры, когда японские войска маршировали по Китаю, а японские бомбы падали на американские корабли.
Непосредственным экономическим эффектом для крестьян стало усиление определенных тенденций, которые проявились еще при Токугава. Для уплаты земельного налога крестьянину приходилось копить наличные деньги и, как следствие, попадать во все большую зависимость от превратностей рынка и услуг деревенского ростовщика, которым нередко становился ведущий землевладелец в деревне. У многих крестьян возникли долги, и они потеряли свои фермы. Масштаб этого явления – предмет спора специалистов. Хотя новый режим гарантировал крестьянам права собственности, в реальных условиях «маленький человек» часто терпел неудачу, поскольку он мог полагаться лишь на свою память и устную традицию, тогда как «закон» – в лице деревенского старосты либо чиновника – обычно занимал сторону крупного землевладельца.[175] Все эти факторы работали на усиление позиций помещика за счет арендатора и мелкого собственника.
Они также являлись продолжением традиционной ставки на сильного и трезвого, что могло быть одной из причин того, почему провалилось сопротивление этим мерам со стороны крестьян.[176] Законы Мэйдзи и влияние экономических факторов не привели к окончательной утрате крестьянами прав собственности, несмотря на некоторые тенденции в этом направлении. В целом итогом было противоположное: усиление и легитимация помещика, а также легитимация прав собственности крестьянина на свой участок земли в форме аренды или владения. Большого исхода крестьян в город не случилось, как и значительной консолидации или увеличения единицы обрабатываемой земли [Norman, 1940, p. 149, 153].
Политика правительства Мэйдзи была консервативной в том смысле, что оно не намеревалось отказываться от власти в пользу какого-либо иного класса. В то же время современные специалисты нередко замечают, что она была революционной в том смысле, что разрушала феодальные различия и стремилась включить крестьян в консервативный политический организм. Довольно важным шагом в этом направлении стало принятие закона о призыве в армию (1872–1873).[177] Другим важным шагом стало введение системы всеобщего обязательного образования, о чем было объявлено в императорском рескрипте 1890 г. К 1894 г. 61,7 % детей посещали начальную школу, а вскоре после этого, в начале столетия, – все дети соответствующего возраста. В дополнение к элементарным навыкам чтения и письма японские дети получали в школе солидные порции патриотического воспитания [Scalapino, 1953, p. 195–198]. Таким образом, эти революционные особенности составляли часть правительственной политики по заимствованию с Запада тех черт европейской цивилизации, которые, на взгляд образованного японца, требовались для создания сильного национального государства. Противоречия между революционными и консервативными мероприятиями скорее видимость, чем реальность. Естественно, среди японских лидеров было много жарких споров о том, что именно необходимо для достижения этой цели. Возникла даже небольшая группа поклонников самого по себе западного образа жизни. Тем не менее ошибочно было бы придавать слишком большое значение этим спорам и противоречиям. Чтобы превратиться в независимую современную нацию, Японии требовалось население, которое может читать и писать по крайней мере на уровне, необходимом для овладения современной техникой, а также армия, которая может вести войну с врагами за рубежом и поддерживать мир внутри страны. Подобную политику вряд ли можно было назвать революционной.
В итоге политика Мэйдзи свелась к использованию крестьянства в качестве ресурса для накопления капитала. В свою очередь, для этого требовалось еще больше открыть крестьянскую экономику для коммерческого влияния и компенсировать возникающие при этом противоречия через включение крестьян в единый политический организм. Ликвидация феодализма сверху была не столько самостоятельной целью или политикой, сколько средством для достижения других целей.
Анализируя процесс в целом, можно установить яснее и конкретнее, почему он не сопровождался революционным подъемом. Непрерывный рост сельскохозяйственного производства был жизненно важен для того, чтобы переход оказался посильным. Конечно, сам по себе рост требует какого-то объяснения, но этот вопрос лучше отложить до следующего раздела. Одним из следствий этого роста было то, что в городах не случилось большого голода, порождающего плебейских союзников крестьянского радикализма, как это случилось на пике Французской революции. В городах не было и серьезного антифеодального движения буржуазии, к которому могли бы присоединиться более умеренные крестьянские требования по свержению старого порядка. Наступление рынка привело на практике к появлению земельной собственности у беднейших слоев крестьян, хотя бы на правах аренды. Реальное владение более крупным участком земли, чем в прежние времена, могло стать стабилизирующим фактором.
Ставка новых помещиков в нарождающемся капитализме, если кратко, была достаточно очевидной. По большей части эта группа возникла из класса зажиточных крестьян, который приобрел большое значение к закату эпохи Токугава и, по мнению некоторых историков, внес важный вклад в движение Реставрации. После превращения в помещиков сегмент крестьянской элиты можно было отключить от активного участия в политике и сделать политически безопасным. Кроме того, многие из них имели коммерческие интересы и не противились серьезному реформированию старого порядка. Но в целом зажиточные крестьяне не хотели ломать олигархическую систему японской деревни, чьим главным бенефициаром они являлись. Как только при правлении Мэйдзи бедные крестьяне и арендаторы стали выдвигать радикальные требования, зажиточные крестьяне отвернулись от них.[178] Таким образом, японское деревенское общество в этой исторической ситуации имело важные внутренние ограничения в отношении любого серьезного выступления против капитализма и новых социальных веяний.
Помимо ограничений в отношении антикапиталистических «эксцессов», на этом этапе оставались также важные помехи для антифеодальных сил. Здесь достаточно важным оказалось проникновение феодального влияния в японскую деревню через пятерочную систему взаимной слежки с особой ролью деревенского старосты. Эти ограничители антифеодального влияния могли привести к опасной концентрации недовольства, что, очевидно, случалось в некоторых областях, где феодальные влияния, объединившись с новыми коммерческими элементами, оставили крестьян со всем худшим, что свойственно обоим мирам, с репрессивной комбинацией, которой не было на главной базе Имперского движения (княжество Тёсю).
Конфликт между феодальной системой, все еще обладавшей значительной жизнеспособностью, и коммерческими элементами, постоянно расшатывавшими ее, обеспечивал правительству Мэйдзи пространство для маневра. Если самураи при случае оказывались во главе крестьянских восстаний, они, конечно, представляли опасность. Но в целом Мэйдзи с помощью армии, набранной из крестьянских рекрутов, удалось использовать в своих интересах антифеодальные чувства – как показывает подавление Сацумского восстания, самой большой угрозы, с которой столкнулось новое правительство. Хотя ситуация порой внушала тревогу, правительство, используя противоречия между своими врагами и союзниками, сумело выжить и укрепить свою власть.
Сомнительно, что иностранная угроза всерьез занимала умы крестьян, но она играла существенную роль в ходе событий и внесла вклад в их консервативный итог. Революционные силы в японском обществе сами по себе были слишком слабы для того, чтобы убрать все препятствия с пути модернизации. Но они смогли обеспечить некоторую базу для поддержки подобных мероприятий, когда правительству потребовалось прибегнуть к ним ради сохранения власти через создание сильного государства.