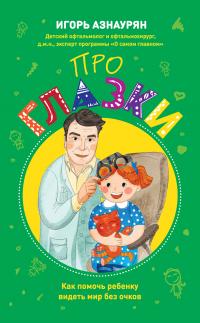5. Эпоха Гоминьдана и ее значение
К 1920-м годам коммерческие и промышленные круги стали важным фактором в китайской политической и социальной жизни, хотя неослабевающая зависимость от иностранцев и аграрных кругов вынуждала капиталистов играть совсем иную роль, нежели в Западной Европе. В то же время, как показано ниже, численно небольшой, но политически значимый слой помещиков, обосновавшихся по соседству с портовыми городами, начал смешиваться с этим классом, превращаясь в рантье. Кроме того, о своем появлении на исторической сцене в бурной и насильственной манере заявил городской пролетариат.
В этой ситуации инициативу перехватила партия Гоминьдан. История ее прихода к власти слишком известна, чтобы повторять ее здесь в подробностях.[131] Пусть некоторые вопросы остаются спорными, для нашей цели важными представляются следующие моменты.
Выступив со своей базы на юге, Гоминьдан, пользуясь серьезной поддержкой со стороны китайских коммунистов и Советской власти, к концу 1927 г. установил контроль над значительной частью Китая. До этого момента в основе его успеха было использование и управление энергией недовольства, царившего среди крестьян и рабочих. Таким образом, социальная программа Гоминьдана отличалась от программы милитаристов и обеспечивала преимущество над ними. На время возникала даже надежда на то, что военная сила Гоминьдана способна одолеть милитаристов и объединить Китай на основе революционной программы.
Этого не случилось, хотя формальное объединение произошло. Частичный успех Гоминьдана вскрыл внутренние конфликты между разрозненными элементами, на время ставшими союзниками ради программы националистического объединения. Высшие классы землевладельцев, поставлявшие в войска офицеров, испытывали все большее беспокойство, что крестьяне уйдут с земли. По иронии судьбы китайские коммунисты, подстрекаемые из Москвы, в этих условиях поддержали наследников джентри на том основании, что национальная революция предшествует социальной [Brandt, 1958, p. 106–107, 125]. Роль городских торговцев и финансистов остается менее ясной.[132] Но они вряд ли больше, чем джентри, обрадовались перспективе успеха левой программы Гоминьдана.
В этих условиях Чан Кайши, сохранявший твердый контроль над важным сегментом армии, благодаря серии военных успехов посреди хаоса интриг, смог дистанцироваться от революции. Покончив с размежеванием, он обрушился на рабочих в классической манере аграрно-буржуазного союза. Его представители, наряду с действовавшими на месте событий агентами полиции и военными силами Франции, Британии и Японии, 12 апреля 1927 г. осуществили массовую резню рабочих, интеллектуалов и всех уличенных в симпатиях к коммунистам [Isaacs, 1951, ch. 2, p. 180]. Чан Кайши и его военная машина не были, однако, пассивным инструментом коалиции. Чан атаковал даже капиталистические круги, проведя конфискации и принудительные заемы под угрозами тюремного заключения и казней [Isaacs, 1951, p. 181].
Победа Чан Кайши означала новый этап в китайской политике. На словах и на деле приоритетом для Гоминьдана было национальное единство, которое должно предшествовать политической и аграрной реформе. В реальности это означало решение аграрной проблемы посредством военной силы, т. е. давления как на бандитов, так и на коммунистов. Вряд ли можно утверждать, что этот проект был безнадежным с самого начала. В Японии и Германии модернизация также происходила под контролем реакционеров и с существенной долей принуждения, причем немецкое правительство столкнулось с той же задачей национального объединения. Тем не менее проблемы, возникшие в Китае, оказались намного сложнее.
Сколько-нибудь подробное уточнение аграрной ситуации быстро приводит к пробелам в данных, даже к почти полному отсутствию статистики, на которую можно положиться, и в случае Китая эти лакуны обширнее, чем в других странах, рассматриваемых в данной книге. Но все же в главных чертах проблема совершенно ясна. Первый момент, заслуживающий упоминания, – негативный. В Китае, возможно за исключением некоторых областей, после Первой мировой войны не было ситуации, когда класс аристократов, владельцев огромных латифундий, эксплуатировал массы бедных крестьян и безземельных рабочих. Однако чрезмерное внимание к этому факту серьезно искажает реальную картину. Под влиянием роста торговли и промышленности Китай постепенно двигался к системе «отсутствующего землевладельца» с постоянно усиливающимся разрывом в уровне благосостояния. Наиболее выражен этот сдвиг был в прибрежных районах, особенно вблизи крупных городов. Во многих внутренних частях страны проблемы аренды стояли не менее остро, хотя скорее всего это было вызвано наследием прежних практик, а не влиянием новых сил.[133] Хорошо известно и не нуждается в повторении, что сельское хозяйство в Китае подразумевало огромные затраты ручного труда при минимальном использовании дорогостоящих орудий труда или скота (лишь отдельные богатые семьи на севере, где выращивали пшеницу, держали лошадей). Р. Тони, по своему обыкновению прибегая к кудрявой классической прозе, помещает это обстоятельство в должный политический и социальный контекст, замечая, что отличительной чертой китайского сельского хозяйства «была экономия пространства, экономия материалов, экономия орудий труда, экономия фуража, экономия топлива, экономия продуктов жизнедеятельности, экономия всего на свете, за исключением леса, который расходовался с крайней беспечностью, обусловливавшей эрозию почвы, и людских ресурсов, которых по социальным обыкновениям было в избытке и этот избыток продавался по дешевой цене» [Tawney, 1932, p. 48].
В отсутствие традиции, ставившей феодальные поместья в привилегированное положение, отношения между помещиком и арендатором в Китае содержали существенные черты делового соглашения. Однако это было доиндустриальное деловое соглашение, опиравшееся на местный обычай. В итоге статистическая категория арендных отношений охватывала большое число различных ситуаций. Отдельные помещики, обремененные долгами после покупки земли, находились в худшем положении, чем многие арендаторы. В то же время арендаторы земли могли быть преуспевающими людьми с запасом наличных денег и орудий труда либо бедными, практически безземельными крестьянами, которых любое бедствие ставило в почти рабскую зависимость [Tawney, 1932, p. 63, 65; China-U.S., 1947, p. 53; Agrarian China, 1939, p. 59]. Эти соображения показывают проблематичность привязывания конкретных терминов «помещик» и «крестьянин» к общему понятию социального класса. Но не следует поддаваться и противоположной иллюзии: будто о социальных классах вообще нельзя вести речь, потому что статистические данные не позволяют их выявить. Еще более запутанная проблема, к которой мы перейдем в свое время, – это масштаб непримиримой классовой борьбы на селе.
Некоторые исторические оценки заслуживают того, чтобы обратить на них внимание читателей. К концу первой четверти XX в. земля в Китае почти полностью перешла в частную собственность. Государству принадлежало лишь около 7 %. Оставшиеся 93 % почти полностью находились в руках частных лиц. Примерно три четверти этих земель принадлежало фермерам, одна четверть была арендована [Buck, 1937, p. 9; China-U.S., 1947, p. 17]. На первый взгляд эти цифры демонстрируют, что аренда не была серьезной проблемой. Но анализ по регионам показывает совсем иную картину. В северных областях, где выращивали пшеницу, в собственности, по самым надежным оценкам, находилось около семи восьмых земли [Buck, 1937, p. 194]. Аренда в этих местах нередко принимала долевую форму, которая вообще была предпочтительной в областях с высокой вероятностью наводнения или засухи [China-U.S., 1947, p. 55]. В свете последующего роста влияния коммунистов во многих северных регионах эта статистика внушает мне подозрение, однако я могу лишь констатировать наличие определенной проблемы. Согласно одному источнику, помещичество сильно расцвело и укоренилось в социальной структуре той области северо-восточного Китая, которая впоследствии перешла под контроль коммунистов.[134] На юге, особенно в областях производства риса, помещик был намного более важной фигурой. В некоторых провинциях доля арендуемой земли превышала 40 %, однако в целом по региону производства риса три пятых земли все еще оставалось в собственности [Buck, 1937, p. 194, 195]. Вблизи больших городов помещики, проживавшие на своей земле, были редкостью. Здесь еще с конца 1920-х годов, если не раньше, типичной фигурой стал «отсутствующий землевладелец», как правило собиравший ренту наличными [Tawney, 1932, p. 37–38; China-U.S., 1947, p. 55]. Таким образом, карта [Buck, 1937, p. 195] показывает нам знакомую историческую картину общества, в котором коммерческое влияние постепенно размывало крестьянскую собственность, что вело к накоплению богатства в руках представителей новой социальной формации, возникшей благодаря коалиции части старого правящего класса с новыми городскими кругами.
Поскольку эта коалиция была главной социальной опорой Гоминьдана, аграрная политика партии направлялась на поддержание либо восстановление status quo. Кроме того, наличие конкуренции со стороны коммунистов, обладавших de facto независимой позицией, вело к поляризации ситуации, что делало политику Гоминьдана реакционной и репрессивной. Симпатизировавший Гоминьдану американский ученый предлагает следующую общую характеристику: «Коммунисты действуют как наследники фанатичных крестьянских бунтов, национальное правительство и партия Гоминьдан – как преемники мандарината» [Linebarger, 1941, p. 233]. Конечно, это лишь часть истории, но оценка точная. По другому случаю тот же специалист пишет, основываясь на своем непосредственном опыте:
Поскольку [Гоминьдан]… не поощрял классовую борьбу в деревне, сохранялись прежние классовые отношения. Партия и правительство стремились, пусть не всегда эффективно и до конца последовательно, реализовать программы земельных реформ… Гоминьдан попустительствовал распространенной испольщине, захватам земли, ростовщичеству и сельскому деспотизму, поскольку все это уже сложилось ранее, и занимался в первую очередь построением национального правительства, современной армии, адекватной финансовой системы и борьбой с тем, что считалось худшим злом, – с опиумной зависимостью, бандитизмом и коммунизмом… [Ibid., p. 147–148].
Судя по этому пассажу, автор принимает за чистую монету утверждения Гоминьдана о причинах своей политики. Тем не менее этот пассаж представляет собой важное свидетельство, исходящее от источника, близкого к Гоминьдану, которое показывает, что политика, направленная на поддержание в деревне status quo, сама по себе была формой классовой борьбы.
Неспособность Гоминьдана осуществить серьезную перестройку аграрных отношений не означает, что не было вообще никакого прогресса. Периодически Гоминьдан выпускал декреты и официальные заявления, нацеленные на улучшение положения крестьян.[135] В некоторых областях, например в Сычуани, похоже, произошло реальное улучшение, после того как политика Гоминьдана пришла на смену поборам милитаристов [Linebarger, 1941, p. 111]. Согласно официальному американскому отчету, в некоторых областях помещики забирали себе в среднем одну треть общего дохода фермы, что было чуть меньше, чем потолок в 37,5 %, некогда законодательно установленный коммунистами и Гоминьданом.[136] Либеральные элементы могли способствовать постепенному ходу реформы, например выступать в поддержку движения реконструкции села, которое было приемлемо, покуда его представители оставались «политически безвредными». Целью движения реконструкции было «улучшение общества в целом без революционных изменений его классовой структуры» [Ibid., p. 110–111]. Сходный характер был у «живой социальной лаборатории» в северном районе Диньшэн с 400 тыс. жителей, где интеллектуалы впервые осознанно пошли к людям [Ibid., p. 118–119].[137]
Особенность, наиболее ясно выступающая на фоне дружественных и враждебных свидетельств, состоит в том, что реформы Гоминьдана были всего лишь декорацией, поскольку они оказались не способны поколебать контроль над местной жизнью со стороны элит. В областях, которых не коснулись реформаторские попытки, элиты несомненно сохранили власть. Даже такой дружественный источник, как Лайнбаргер, отмечает, что «многие уезды остаются под контролем местных администраций, позволяющих состоятельным реакционерам уклоняться от уплаты налогов, красть государственные фонды и подавлять фермерскую самоорганизацию» [Ibid, p. 120]. Во многих областях Китая конец имперского режима не привел к фундаментальным изменениям в политической и экономической роли высшего класса землевладельцев. В слабо связанных между собой сатрапиях Гоминьдана элита продолжала действовать так же, как прежде при генералах или маньчжурах. Критически настроенные по отношению к Гоминьдану источники указывают на это еще более ясно. Анализируя произведенные Гоминьданом в 1937 г. изменения в земельном законодательстве, целью которых была поддержка крестьянских ферм, один китайский писатель замечает, что политическая власть в деревне сохранилась у бывших джентри. «Поэтому нечего и мечтать о том, чтобы эти господа добросовестно осуществили арендную политику нового закона, направленного на ослабление их экономической власти над крестьянством».[138] Сходным образом анализ состава местных администраций показывает, что во многих провинциях выборные процедуры не были реализованы на уровне уезда (или округа) не только по причине непрерывных смут, но также из-за саботажа со стороны местного начальства и высших правительственных чиновников [Shen, 1936, p. 190–191, 193]. Согласно другому источнику, помещики нередко шантажировали арендаторов, требовавших снижения арендной платы, обвинениями в сотрудничестве с коммунистами, что грозило арестом.[139]
Скорее всего ситуация не была повсюду настолько плоха, как говорят разрозненные критические замечания. То, что они вообще были опубликованы в начале 1930-х годов, само по себе значительный факт, если вспомнить кровавые репрессии, проведенные Чан Кайши за несколько лет до этого. Антропологические исследования нескольких китайских общин этого периода показывают, что патриархальные отношения и институции во многих местах ограничивали возникновение еще худших форм эксплуатации. Однако в общей картине они свидетельствуют о сохранении власти бывших джентри на местном уровне. Таким образом, подтверждается вывод о том, что аграрная политика Гоминьдана в целом вела к сохранению старого порядка.
Были важные региональные различия в том, как прежние институции функционировали в период Гоминьдана. Как замечено выше, эти различия отражают последовательность стадий исторического развития. В отдаленных деревнях с уровнем жизни, который показался бы западному человеку чрезвычайно низким, богатые семьи все-таки умели воспроизвести отдельные черты образа жизни праздных классов, в том числе свободу от физического труда и склонность к гедонизму, чему порой способствовало курение опиума, хотя эти успехи и отставали от жизненного идеала классически образованных джентри (см., напр.: [Fei, Chang, 1948, p. 19, 81–84, 91]). Полной противоположностью были деревни, расположенные рядом с большим городом, где почти не осталось следов бывших джентри, а около двух третей земель разного назначения принадлежало «отсутствующим землевладельцам» из города, что оставляло в «собственности» лишь поверхностную долю земли тем, кто ее обрабатывал.[140] Однако в еще одной деревне недалеко от Нанкина, где исследования проводились накануне прихода к власти коммунистов, могущество бывшего правящего класса и неизменность прежних методов поддержания отношений были выражены намного ярче. Статусом «помещика» здесь обладали только богатые землевладельцы. Однако, что было символично для этой эпохи, власть помещиков распространялась лишь там, где ее обеспечивал местный гарнизон. Удаленные от городской полицейской власти области на краю округа «сопротивлялись помещикам и не платили ренту» [Fried, 1953, p. 7, 17, 101, 196]. Эти факты говорят очень многое о реальной связи между военной силой, буржуазией и богатыми помещиками, новыми джентри, в последние годы эпохи Гоминьдана.[141]
Еще больше свидетельств о том, что прежний высший класс землевладельцев сохранил свои позиции и политическое влияние, дает стратегическая политика Гоминьдана накануне и во время войны с Японией. Хорошо известно, что при Гоминьдане коммерческие и промышленные круги не смогли добиться значительных успехов. На первый взгляд этот факт объясняется японской блокадой и оккупацией. Но это часть правды, поскольку блокада началась лишь в 1937 г. По-видимому, большую роль сыграла аграрная оппозиция превращению Китая в индустриальную державу. Военный историк, не заподозренный в симпатиях к марксизму, замечает, что до начала войны Китай предпочитал скорее ввозить необходимое оборудование, чем строить собственную промышленную базу [Liu, 1956, p. 155]. Тактика, применявшаяся на поле боя, также соответствовала социальной структуре, хотя сам Лиу и не делает достаточно очевидных выводов. Не обладая современным оружием, китайская армия просто использовала живую массу крестьян, заставляя солдат проявлять героизм для защиты страны. Идеология «смертного часа» вела к огромным потерям. Говорят, что только сражения 1940 г. обошлись Китаю в 28 % живой силы. По оценке того же источника, за восемь лет войны погибло в среднем 23 % всего мужского населения, призванного на службу [Ibid., p. 145]. Можно возразить, что то же самое произошло бы с любым доиндустриальным государством в аналогичной ситуации. Однако, на мой взгляд, это возражение упускает из виду главное: Китай оставался доиндустриальным лишь потому, что политический контроль сохранился у наследников джентри.
Теперь нужно сменить ракурс и рассмотреть режим Гоминьдана с точки зрения сравнительной институциональной истории. Поскольку мы отвлекаемся от подробностей (при том что нам хотелось бы иметь намного более точные сведения), то очевидно, что двадцатилетнее правление Гоминьдана воспроизводило некоторые существенные черты реакционной фазы европейского ответа на индустриализацию, в том числе тоталитарные. Социальной опорой Гоминьдана, как мы видели, была коалиция, или разновидность антагонистической кооперации, между наследниками джентри и городскими торговыми, финансовыми и промышленными кругами. Партия Гоминьдан, обладая контролем над средствами насилия, служила связью, скреплявшей эту коалицию. Одновременно контроль над средствами насилия позволял партии шантажировать городских капиталистов и прямо или косвенно влиять на правительственный механизм. В этих двух отношениях партия Гоминьдан напоминала гитлеровскую НСГРП.
Однако в социальных базах этих партий, как и в исторических обстоятельствах, были важные различия, которые делают случай Гоминьдана особым. Они также помогают объяснить сравнительно слабый характер китайской реакционной фазы. Один из очевидных моментов – отсутствие в Китае сильной промышленной базы. Соответственно, капиталистический элемент здесь был намного слабее. Можно с уверенностью предположить, что японская оккупация приморских городов еще сильнее снизила влияние этой группы. Наконец, иностранная интервенция, хотя и обеспечила широкую популярность националистическим настроениям, в конечном счете помешала китайской реакционной фазе дойти в своем развитии до внешней экспансии, как это произошло с немецким, итальянским и японским фашизмом. По этим причинам китайская реакционная и протофашистская фаза напоминает скорее не Германию и Италию, а франкистскую Испанию, где аграрная элита также удержалась у власти, но не смогла проводить агрессивную внешнюю политику.
Наиболее поразительные сходства между периодом реакции в Китае и его европейскими аналогами обнаруживаются в области теории, где реалистичность размышлений не настолько непреложна. На революционном этапе накануне прихода к власти Гоминьдан солидаризировался с восстанием тайпинов. После захвата власти и выдвижения Чан Кайши в качестве реального лидера партия совершила полный разворот, отождествив себя с императорской системой и ее успехами периода Реставрации 1862–1874 гг. [Wright, 1957, p. 300, 301(3n)], – эта смена курса заставляет вспомнить о политике итальянских фашистов на ранней стадии. После победы доктрина Гоминьдана стала любопытной амальгамой конфуцианских элементов и фрагментов западной либеральной мысли. Последняя, как известно, была завезена в Китай Сунь Ятсеном, который относился к числу наиболее почитаемых основателей партии. Аналогии с европейским фашизмом возникают преимущественно из-за тех акцентов, которые Чан Кайши или те, кто сочинял его доктринальные высказывания, делали на этих разрозненных элементах.
В основном диагноз национальных проблем, выраженный языком полуконфуцианской морали и философских банальностей, сводился к тому, что кризис после революции 1911 г. объясняется неправильным мышлением китайского народа. В 1943 г. Чан Кайши утверждал, что китайцы не поняли всей мудрости глубокого философского высказывания Сунь Ятсена – «понимать трудно, действовать легко» – и по-прежнему считали, что «понимать легко, действовать трудно». Единственный конкретный элемент, упоминаемый в этом диагнозе, – вред, нанесенный Китаю иностранным господством и несправедливыми договорами, а также несколько замечаний о слабости и коррупции маньчжурской династии [Chiang Kai-shek, 1947, ch. 1–2]. Практически никакого внимания не уделялось рассмотрению социальных и экономических факторов, приведших Китай в его нынешнее положение. Сказать об этом открыто, в сколько-нибудь честной форме, значило бы серьезно рискнуть поддержкой со стороны высшего класса. Как отсутствием реалистичного анализа ситуации, так и причинами его отсутствия доктрина Гоминьдана напоминает европейский фашизм.
То же самое относится к планам Гоминьдана на будущее. В полуофициальной книге Чан Кайши встречаются отдельные замечания о важности «народного благосостояния» (этот термин использовался как эвфемизм для аграрной проблемы). Но, как замечено выше, в реальности было очень мало сделано или хотя бы предложено для решения этого вопроса. Был принят десятилетний план индустриализации, но опять-таки скорее для галочки. Вместо реальных дел акцент ставился на моральной и психологической реформе сверху, лишенной социального содержания. Как диагноз прошлого, так и план действий на будущее резюмируются в следующих словах Чан Кайши:
Из того, что было сказано, мы знаем, что ключ к успеху национальной реконструкции – это изменение нашей социальной жизни, а изменение нашей социальной жизни, в свою очередь, зависит от тех, кто обладает ви?дением, силой воли, моральным убеждением и чувством ответственности, и тех, кто с помощью своей мудрости и усилий ведет людей в городе, в округе, в провинции и по всей стране по новому пути, пока незаметно для себя люди не привыкнут к нему. Я также указал, что национальная и социальная реконструкция с легкостью осуществится, если молодежь по всей стране преисполнится решимости совершить то, на что не отваживаются другие, и выдержать то, что другие не в силах выдержать… [Chiang Kai-shek, 1947, p. 212].
Здесь китайская теория аристократической благожелательности под давлением обстоятельств приобрела воинственный, «героический» характер. Эта комбинация уже была известна на Западе в форме фашизма.
Сходство усиливается, если рассмотреть организационную форму, которую этот героический элитизм должен был приобрести, т. е. саму партию Гоминьдан. Но есть важное различие. Гоминьдан был ближе к концепции «вооруженной нации». Предполагалось, что каждый член общества восхищается силой партийных идеалов и нравственным примером вождей. Хотя идея всеохватной партии восходила к Сунь Ятсену, она имела некоторые тактические преимущества. Чан Кайши придерживал дверь открытой даже для коммунистов в надежде, что они вольются в его организацию [Chiang Kai-shek, 1947, p. 211–216, 219–221, 233]. В реальности Гоминьдан, как и европейские тоталитарные партии левого и правого толка, составлял очень малую часть всего населения [Linebarger, 1941, p. 141–142].[142]
Декларируемой целью моральной и психологической реформы и ее показного организационного воплощения была военная мощь. В свою очередь, военная мощь должна была обеспечить национальную оборону и единство нации. Чан Кайши снова и снова делал военное объединение предварительным условием для всякой реформы. Его главному аргументу в пользу этой позиции был свойствен определенный тоталитарный круг. Он цитирует суждение Сунь Ятсена, что Руссо и Французская революция не могут служить образцом для Китая, поскольку европейцы того времени не имели свободы, тогда как нынешние китайцы имеют ее в избытке. Согласно любимой метафоре Чан Кайши и Сунь Ятсена, Китай словно гора сыпучего песка был легкой жертвой иностранного империализма. «Чтобы бороться с иностранной агрессией, – завершает Чан цитату из Суня, – мы должны освободить себя от идеи “частной свободы” и слиться в сильный сплоченный организм, как твердая масса из песка и цемента». Чан Кайши продолжает следующим замечанием:
Другими словами, если китайской нации для защиты страны нужно сплотиться в единство, твердое как камень, то само собой разумеется, что частные лица не могут пользоваться излишней свободой наподобие сыпучего песка. Китай должен стать сильным национальным единством, способным к самозащите, поскольку ему предстоит одержать окончательную победу в этой войне, а в послевоенный период вместе с другими независимыми и свободными нациями мира работать на обеспечение постоянного мира во всем мире и освобождение всего человечества. Поэтому… избыточной личной свободе… не дозволяется существовать ни во время войны, ни в послевоенный период [Chiang Kai-shek, 1947, p. 208].
Три особенности выделяются в кратком изложении доктрины Гоминьдана согласно Чан Кайши. Первая – это почти полное отсутствие какой-либо социальной и экономической программы для решения внутренних проблем, скорее заметны ритуальные жесты отстранения от реальности этих проблем. Разговоры о «политической опеке» и о подготовке страны к демократии были чистой риторикой. Актуальная политика состояла в том, чтобы как можно меньше затрагивать существующие социальные отношения. Такая политика не исключала принуждения и насильственных контрибуций в отношении любых слоев населения, оказывавшихся удобной мишенью. Гангстеры в американских городах занимаются тем же самым, не предпринимая реальных попыток перевернуть существующий социальный порядок, от которого они на самом деле зависят. Второй особенностью можно назвать сокрытие конкретных политических и социальных целей с помощью гротескных усилий по оживлению традиционных идеалов в ситуации, которая долгое время все больше подрывала социальную базу этих идеалов. Поскольку профессор Мэри С. Райт убедительно разобрала этот момент на основании большого числа конкретных свидетельств в своей книге «The Last Stand of Chinese Conservatism», нам остается только напомнить о том, что искаженная патриотическая идеализация прошлого – это и есть один из главных стигматов западного фашизма. Третьей и последней особенностью является стремление Гоминьдана решать проблемы с помощью военной силы, что также было важной чертой европейского фашизма.
Делать акцент на этих особенностях еще не значит, что Гоминьдан не отличался от европейского фашизма или предшествовавших ему реакционных движений. Полного совпадения в истории не случается, и нас здесь интересует другая проблема. Важно то, что эти сходства соответствуют определенной констелляции, значимой для понимания не только Китая, но и вообще динамики тоталитарных движений. Другими словами, перед нами неопределенный набор случайных сходств, в котором незначительные китайские особенности напоминают ключевые черты ряда европейских стран. Напротив, образуя комплексное единство, они некоторое время господствовали в политическом, социальном и интеллектуальном климате как Европы, так и Китая.
Усилия Гоминьдана поставить Китай на реакционный путь, ведущий к современному государству, завершились полным провалом. Тем же завершилась аналогичная и даже более обоснованная попытка российской власти. В обеих странах этот провал стал непосредственной причиной и предвестием успеха коммунистов. В России коммунистам удалось создать первоклассную индустриальную державу, в Китае подобные перспективы пока сомнительны. В обоих случаях крестьянский бунт и восстание внесли решающий вклад в продвижение этих стран по коммунистическому пути модернизации, а не по пути реакционного или демократического варианта капитализма. В Китае этот вклад был даже существеннее, чем в России. И вот теперь самое время для того, чтобы подробно рассмотреть роль крестьянства в этих грандиозных трансформациях.