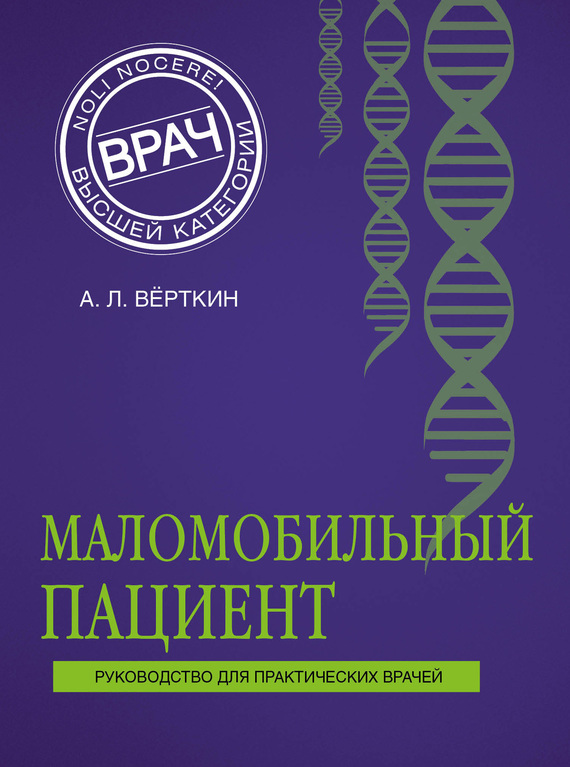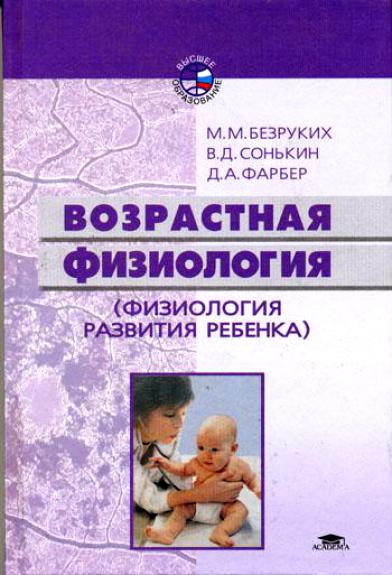VIII. Революция сверху и фашизм
Второй основной путь в мир современной промышленности мы назвали капиталистическим и реакционным; его самые очевидные примеры – Германия и Япония. Капитализм прочно укоренился как в сельском хозяйстве, так и в промышленности этих стран, превратив их в индустриальные. Однако его развитие обошлось без революционного восстания народных масс. Слабые революционные тенденции, причем намного более слабые в Японии, чем в Германии, в обоих случаях удалось отклонить в сторону и подавить. Хотя аграрные условия и специфические типы капиталистической трансформации, которая произошла в деревне, не были единственными причинами, они внесли существенный вклад в провал этих тенденций и в ослабление любых попыток движения в сторону демократических реформ западного образца.
Существуют определенные формы капиталистической трансформации сельского хозяйства, которые могут быть экономически успешны в смысле получения хорошей прибыли, но которые по очевидным причинам неблагоприятны для роста либеральных институций, характерных для XIX в. Хотя эти формы смешиваются между собой, несложно выделить среди них два типа. Высший класс землевладельцев может, как в Японии, поддерживать в неизменном виде сложившееся к этому времени крестьянское общество, ограничиваясь лишь теми нововведениями, которые позволяют крестьянам вырабатывать достаточные излишки продукции, которые можно присвоить себе и продать с прибылью. Либо высший класс землевладельцев может изобрести совершенно новые социальные отношения по типу рабовладельческой плантации. Современное рабство – это изобретение колонизаторов, вторгшихся в тропические регионы. Однако в Восточной Европе местной знати удалось установить крепостное право, которое привязывало крестьян к земле, приводя в целом к аналогичным последствиям. И это был промежуточный случай между двумя первыми.
Как функционирование системы, при которой крестьянское общество сохранялось, поскольку из него можно было выжимать все большую прибыль, так и использование рабского или полурабского труда в крупных аграрных хозяйствах требовали силовых политических методов для отъема излишков продукции, закрепления рабочей силы на месте и в целом для поддержания работы системы. Не все эти методы были политическими в узком смысле этого слова. В особенности там, где крестьянская община сохранялась в прежнем виде, предпринимались всевозможные попытки использовать традиционные отношения и взгляды для упрочения позиции помещика. Поскольку у этих политических методов были важные последствия, будет полезно дать им названия. Экономисты различают трудоемкий и капиталоемкий типы сельского хозяйства в зависимости от того, ориентируется ли система на использование больших объемов рабочей силы или капитала. Возможно, небесполезно будет выделить также трудорепрессивные системы, предельным примером которых является рабовладение. Сложность с этим понятием в том, что всегда с полным правом можно спросить, система какого типа не является трудорепрессивной. Различие, которое мне хотелось бы провести, – это различие между использованием политических механизмов (в широком смысле, как указано выше), с одной стороны, и опорой на рынок рабочей силы, чтобы обеспечить необходимый объем рабочей силы для обработки земли и производства излишков сельскохозяйственной продукции, которые потребляют другие классы, – с другой. В обоих случаях сильнее всего страдают те, кто находится в самом низу социальной лестницы.
Чтобы понятие трудорепрессивной сельскохозяйственной системы было полезным, следует оговорить, что в этом случае к труду принуждаются большие группы людей. Кроме того, необходимо прямо указать, что это понятие не включает, например, американскую семейную ферму XIX в. Конечно, и в этом случае происходила трудовая эксплуатация членов семьи, однако она в основном осуществлялась главой домохозяйства с минимумом внешней помощи. Далее, система наемного сельскохозяйственного труда, при которой рабочие имеют значительную свободу в том, чтобы отказаться от работы или уехать в другое место – что весьма редко случается в актуальной практике, – не попадает под эту рубрику. Наконец, докоммерческие и доиндустриальные сельскохозяйственные системы не обязательно являются трудорепрессивными, если в них устанавливался примерный баланс между вкладом суверена в поддержание правопорядка и общественной безопасности и вкладом крестьянина в форме продуктов своего труда. Вопрос о том, можно ли точно определить этот баланс в каком-то объективном смысле, является спорным, и его лучше рассмотреть в следующей главе, где эта тема поднимается в связи с анализом причин крестьянских революций. Здесь нам достаточно лишь заметить, что формирование трудорепрессивных систем в процессе модернизации не обязательно приводит к бо?льшим тяготам для крестьян, чем в иных случаях. Японским крестьянам жилось легче, чем английским. Нас интересует другой вопрос: как и почему трудорепрессивные аграрные системы были неблагоприятны для развития демократии, став важной частью институционального целого, обеспечившего подъем фашизма.
При рассмотрении аграрных истоков парламентской демократии мы заметили, что определенный уровень независимости от единоличной власти является благоприятным условием для демократического развития, пусть оно и не обеспечивается во всех случаях. Хотя трудорепрессивная сельскохозяйственная система может возникать в оппозиции к центральной власти, впоследствии в поисках политической поддержки она склонна к объединению с монархией. Эта ситуация может также привести к сохранению военной этики среди знати в форме, неблагоприятной для развития демократических институций. Эволюция прусского государства – самый яркий тому пример. Поскольку мы ссылались на эти процессы несколько раз на протяжении этой книги, здесь было бы уместно дать им краткую характеристику.
На северо-востоке Германии реакционные настроения помещиков в XV–XVI вв., о чем нам придется поговорить подробнее в совершенно ином контексте, воспрепятствовали движению в сторону освобождения крестьянства от феодальных уз, а также тесно связанному с этим развитию городской жизни, которое в Англии и Франции привело в итоге к установлению западной демократии. Фундаментальной, хотя и не единственной причиной этого стало увеличение экспорта зерна. Прусская знать расширяла свои владения за счет крестьянства, которое при тевтонских порядках пользовалось большой свободой, а теперь оказалось закрепощенным. В рамках того же процесса знать поставила в зависимость города, расстроив их экспортную торговлю. Впоследствии Гогенцоллернам удалось ликвидировать независимость знати и разделить сословия, настраивая друг против друга аристократов и горожан, что привело к ограничению аристократического участия в движении к парламентской демократии. Результатом этого в XVII–XVIII вв. стало возникновение «Северной Спарты», воинственного союза монаршей бюрократии и земельной аристократии [Rosenberg, 1958; Carsten, 1954].
Именно знать культивировала идеи о наследственном превосходстве правящего класса и внимание к статусным отличиям, которые сохраняли свое значение даже в XX в. Впоследствии в новых условиях эти представления были вульгаризированы и сделаны привлекательными для простых жителей Германии в форме доктрины расового превосходства. Королевская бюрократия продвигала вопреки значительному сопротивлению знати идеал полного и беспрекословного подчинения государственным учреждениям, независимого от классовых и личных заслуг (до XIX в. было бы анахронизмом говорить о нации). Прусская дисциплина, послушание и восхищение суровыми солдатскими добродетелями в основном исходят от усилий Гогенцоллернов по созданию централизованной монархии.
Все это, конечно, не означает, что еще с XVI в. какой-то неумолимый рок вел Германию к фашизму и что этот процесс невозможно было повернуть назад. В игру должны были включиться и другие факторы, в том числе довольно важные, по мере того, как в XIX в. стала набирать силу индустриализация. Об этом необходимо будет поговорить ниже. В общей модели, которая привела к фашизму, было также значительное число вариантов и подстановок – «субальтернатив» (если требуется техническая точность определений) внутри главной альтернативы – консервативной модернизации через революцию сверху. В Японии идея о тотальном подчинении власти явно ведет свое происхождение со стороны феодализма, а не монархии [Sansom, 1958, vol. 1, p. 368]. А в Италии, на родине фашизма, вообще не было сильной национальной монархии. Поэтому Муссолини в поисках соответствующей символики пришлось обращаться к наследию Древнего Рима.
На более позднем этапе процесса модернизации обычно появляется новый и решающий фактор в форме грубой рабочей коалиции между влиятельными секторами высших землевладельческих классов и нарождающихся коммерческих и промышленных кругов. В общем это была конфигурация, характерная для XIX в., хотя она сохранялась и в XX в. Маркс и Энгельс в своем анализе провала революции 1848 г. в Германии, в основном ошибочном, правильно указали решающий фактор: коммерческий и промышленный класс, слишком слабый и зависимый для того, чтобы прийти к власти и править самостоятельно, объединился поэтому с землевладельческой аристократией и монаршей бюрократией, выменяв себе право наживы за счет права на власть ([Marx, n.d.], текст написан в основном Энгельсом). Необходимо добавить, что, даже если коммерческие и промышленные круги были слабыми, у них все-таки уже было достаточно влияния (либо они его быстро приобрели впоследствии), чтобы считаться ценным политическим союзником. Если бы этого не произошло, в политический расклад могла бы вмешаться крестьянская революция, которая привела бы к коммунистическому режиму. Именно это случилось в России и в Китае после провала усилий по созданию подобной коалиции. На более позднем этапе, следующем за ее формированием, в игру вступает еще один фактор: рано или поздно трудорепрессивные системы непременно сталкиваются с трудностями, возникающими из-за конкуренции с технически более развитыми системами в других странах. Конкуренция со стороны американского экспорта пшеницы привела к проблемам во многих странах Европы после окончания Гражданской войны. В условиях формирования реакционной коалиции подобная конкуренция усиливает авторитарные и реакционные тенденции среди высших классов земельной аристократии, опасающейся угрозы для своего экономического базиса и прибегающей поэтому к политическим рычагам для сохранения своей власти.
Там, где коалиции удавалось упрочить свое положение, возникал длительный период консервативного и даже авторитарного правления, которое, однако, не было фашистским. Исторические границы подобных систем часто оказываются нечеткими. По самой благосклонной оценке в эту рубрику попадает временной период, начиная с реформ Штейна – Гарденберга и заканчивая Первой мировой войной, в Германии, а в Японии – с момента падения сёгуната Токугава по 1918 г. Эти авторитарные режимы отличались некоторыми демократическими чертами: при них действовал парламент с ограниченной властью. Их история знавала попытки расширить пределы демократии, которые в конце концов привели к установлению нестабильных демократических режимов (Веймарская республика, Япония 1920-х годов, Италия при Джолитти). В итоге дорога к власти для фашистских режимов оказалась открытой вследствие неудачных попыток этих демократий справиться с серьезными проблемами своего времени, их нежелания или неспособности осуществить фундаментальные структурные изменения.[255] Одним из факторов (среди множества других) в социальной анатомии этих правительств было сохранение достаточно существенной доли власти в руках землевладельческой элиты из-за несостоявшегося революционного выступления крестьян в союзе с городскими слоями.
Некоторые полупарламентские правительства, возникшие на этом основании, проводили более или менее мирные экономические и политические революции сверху, и этим странам пришлось пройти длинный путь превращения в современные индустриальные государства. Германия двигалась быстрее других в этом направлении, Япония немного отставала, Италия развивалась гораздо медленнее, а Испания – едва заметно. В процессе революционной модернизации сверху правительству приходилось решать многие из тех проблем, которые в других странах были решены посредством революции снизу. Как показывает история Германии и Японии, представление о том, что насильственная народная революция безусловно необходима для устранения «феодальных» препятствий на пути индустриализации, полный абсурд. В то же время политические последствия демонтажа старого порядка сверху оказываются совершенно иными. Продвигаясь по пути консервативной модернизации, эти полупарламентские правительства пытались сохранить как можно больше от исходной социальной структуры и при малейшей возможности переносили крупные блоки в новое здание. Результатом этого было нечто вроде нынешних домов викторианской эпохи, в которых есть современные электрические плиты, но недостаточно ванных комнат, а текущие трубы декоративно скрыты за новыми гипсовыми стенами. В конечном счете эти спонтанные постройки рухнули.
Важной серией мероприятий стала рационализация политического строя. Это подразумевает разрыв с традиционными, издавна установленными территориальными делениями, такими как феодальное княжество в Японии или независимые государства и княжества в Германии и Италии. Во всех странах, за исключением Японии, этот разрыв не был доведен до конца. Но по ходу времени центральное правительство установило сильную власть и унифицированную административную систему, возникли более или менее единообразные кодекс законов и судебная система. Кроме того, с разным успехом этим государствам удалось создать достаточно мощную военную машину, которая позволяла правителю утверждать свои интересы на международной арене. Экономически установление сильной центральной власти и устранение внутренних барьеров для торговли означали увеличение размеров эффективной экономической единицы. Без этого разделение труда, необходимое для индустриального общества, не могло бы существовать, разве только все страны согласились бы на мирную торговлю друг с другом. Англия, первой вставшая на путь индустриализации, еще могла рассчитывать на большую часть доступного мира в поисках сырья и рынков сбыта, но эта ситуация стала постепенно ухудшаться в XIX в., когда подтянулись другие страны, охотно прибегавшие к использованию государственной власти для защиты своих рынков и источников ресурсов.
Еще один аспект рационализации политического строя связан с превращением граждан в общность нового типа. Грамотность и базовые технические навыки необходимы народным массам. Развитие национальной системы образования обычно приводит к конфликту с религиозной властью. Верность новой абстракции – государству – должна заменить в том числе религиозные узы, если они выходят за пределы национальных границ или их соперничество угрожает нарушить внутреннее согласие. У Японии в этом отношении было меньше проблем, чем у Германии, Италии или Испании. Но даже в Японии, как показывает отчасти искусственное возрождение синтоизма, трудности были существенными. Для преодоления такого рода трудностей наличие внешнего врага может оказаться вполне полезным. Тогда патриотические и консервативные обращения к воинским традициям помещичьей аристократии помогут преодолеть местечковые тенденции среди влиятельных групп и отодвинуть на задний план любые чересчур активные требования нижних слоев, мечтающих о неоправданно большой доле в преимуществах нового строя.[256] Занимаясь рационализацией и распространением политического порядка, правительства XIX в. проделывали работу, которую в других странах уже выполнил королевский абсолютизм.
Поразительной особенностью процесса консервативной модернизации является появление целой плеяды выдающихся политических лидеров: в Италии – Кавура, в Германии – Штейна, Гарденберга и, самого известного из них, Бисмарка, в Японии – политиков эпохи Мэйдзи. Хотя причины этого неясны, вряд ли появление сходных по типу лидеров в сходных обстоятельствах могло быть чистой случайностью. В политическом спектре своего времени и своей страны все они были консерваторами, преданными монархии, желавшими и способными использовать ее силу для проведения реформы, модернизации и национального объединения. Хотя все они были аристократами, но в то же время и своего рода диссидентами или аутсайдерами в отношении старого порядка. Поскольку их аристократическое происхождение обогатило политику командными навыками и чувством вкуса, можно даже зафиксировать вклад прежнего аграрного режима в построение нового общества. Но здесь также были сильные импульсы в противоположном направлении. Поскольку эти политики были чужыми для аристократии, можно констатировать неспособность этого сословия ответить на вызов современного мира с помощью собственных интеллектуальных и политических ресурсов.
Наиболее успешные консервативные режимы достигли довольно многого не только в ликвидации прежнего порядка, но и в установлении нового. Государство несколькими важными методами помогало индустриальному строительству. Оно служило двигателем первичного накопления капитала, поскольку собирало ресурсы и направляло их на строительство промышленного производства. Оно также играло важную роль, хотя и не полностью репрессивную, в усмирении рабочей силы. Производство вооружений служило важным стимулом для промышленности. Как и протекционистская тарифная политика. Все эти меры в некоторый момент привели к оттягиванию ресурсов или людей из сельского хозяйства. Поэтому периодически они обостряли отношения внутри коалиции между представителями высших коммерческих и аграрных кругов, что и было главной чертой этой политической системы. В отсутствие внешней угрозы, порой реальной, порой, вероятно, вымышленной, а в случае Бисмарка – и расчетливо организованной ради внутренних целей, интересами помещиков могли пренебречь, что ставило под угрозу весь политический процесс. Однако нет необходимости объяснять его характер только лишь внешней угрозой.[257] Материальные и иные награды – «выигрыш» (payoff) на языке гангстеров и теории игр – были довольно значительными для обеих сторон, поскольку им удавалось удерживать на месте крестьянство и промышленных рабочих. Там, где был существенный экономический прогресс, промышленные рабочие смогли получить значительные преимущества, как, например, в Германии, где была изобретена Sozialpolitik («социальная политика»). Именно в тех странах, которые сильнее отставали, – в Италии и в большей степени в Испании – была сильнее выражена тенденция к «каннибализации» собственного населения.
По-видимому, для успеха консервативной модернизации были необходимы определенные условия. Во-первых, требуется достаточно способное политическое руководство для того, чтобы вести за собой более близорукие реакционные элементы, сконцентрированные в основном, хотя и не исключительно, в высших землевладельческих классах. Японии вначале пришлось подавить реальный мятеж, Сацумское восстание, для обуздания этих элементов. Реакционеры всегда могут выдвинуть правдоподобный аргумент, что вожди модернизации совершают изменения и уступки, которые лишь пробуждают аппетит низших классов и ведут к революции.[258] Руководство должно иметь в своем распоряжении или суметь создать достаточно мощный бюрократический аппарат, включающий репрессивные органы, армию и полицию (как говорят немцы: «Gegen Demokraten helfen nur Soldaten» – «От демократии помогают только солдаты»), чтобы освободить себя от крайних влияний как со стороны реакционеров, так и со стороны народных масс и радикалов. Правительство должно изолировать себя от общества, что может произойти гораздо легче, чем утверждается в примитивных пересказах марксистской теории.
В краткосрочной перспективе сильное консервативное правительство имеет отчетливые преимущества. Оно способно одновременно поощрять и контролировать экономический рост. Оно может присматривать за тем, чтобы низшие классы, которые оплачивают все варианты модернизации, не создавали больших проблем. Но Германия и – даже в большей степени – Япония попытались решить, по сути, неразрешимую проблему – провести модернизацию без изменения социальной структуры. Единственным выходом из этой дилеммы был милитаризм, который сплотил высшие классы. Милитаризм усилил напряженность в международных отношениях, что, в свою очередь, делало промышленный рост все более настоятельной задачей, пусть даже в Германии Бисмарку удавалось некоторое время контролировать ситуацию, отчасти потому что милитаризм еще не стал массовым явлением. Проведение бескомпромиссных структурных реформ, т. е. переход к платному коммерческому сельскому хозяйству, осуществленный таким образом, чтобы не подвергать репрессиям тех, кто трудится на земле (как и их собратьев на производстве), одним словом, рациональное использование современных технологий на благо людей совершенно не вписывалось в политическое видение этих правительств.[259] В конечном счете эти системы потерпели крах из-за стремления к внешней экспансии, но это случилось лишь после того, как они попытались внушить реакционные взгляды массам в форме фашизма.
Перед обсуждением этой финальной фазы поучительно было бы проанализировать неудачи реакционных тенденций в других странах. Как сказано выше, в определенной мере реакционный синдром обнаруживается во всех рассмотренных случаях. Понимание того, почему он потерпел поражение в одних странах, может прояснить причины его успеха в других. Краткий обзор этих тенденций в таких разных странах, как Англия, Россия и Индия, поможет выделить важные фундаментальные сходства, скрытые под внешними различиями в их историческом опыте.
Начиная с последних лет Французской революции и вплоть до 1822 г. английское общество прошло через реакционную фазу, которая заставляет вспомнить как о рассмотренных выше случаях, так и о современных проблемах американской демократии. Почти все эти годы Англия вела войну против революционного режима и его наследников, причем на кону иной раз оказывалось спасение нации. Как и в наше время, сторонников внутренних реформ считали иноземными врагами, воплощающими само зло. Опять-таки, как и в наше время, насилие, репрессии и предательства, которыми сопровождалось революционное движение во Франции, приводили в отчаяние и разочаровывали его английских сторонников и в то же время облегчали и делали более убедительной деятельность реакционеров, страстно желавших затоптать на своей земле малейшие искры пожара, бушевавшего по ту сторону канала. Великий французский историк Эли Галеви, далекий от драматических преувеличений, утверждал в своем сочинении 1920-х годов, что «знать и средний класс установили по всей Англии царство террора, причем более ужасного, хотя и менее слышного, чем громкие акции [радикалов]» [Hal?vy, 1949, vol. 2, p. 19]. События 40 с лишним лет, прошедших со времени написания этих строк, притупили наше восприятие и снизили наши стандарты. Ни один из сегодняшних авторов не назвал бы эту фазу царством террора. Число прямых жертв этих репрессий было невелико. В «бойне при Петерлоо» (1819) – как называют это событие с саркастическим намеком на знаменитую победу Веллингтона в битве при Ватерлоо – погибло 11 человек. Тем не менее митинговое движение за парламентскую реформу было поставлено вне закона, прессу заставили замолчать, ассоциации, имевшие черты радикализма, подвергались запретам, была организована серия спешных судебных процессов над изменниками родины, в народную среду внедрялись шпионы и провокаторы, а правовая гарантия Habeas Corpus была приостановлена после окончания войны с Наполеоном. Репрессии и страдания были реальными, распространенными и лишь отчасти сдерживаемыми за счет активности непреклонных оппозиционеров – аристократов, подобных Чарлзу Джеймсу Фоксу (1749–1806), отважно выступавшему в парламенте, а иногда судей или присяжных, отказывавшихся вынести приговор обвиняемому в измене родине и по другим статьям.[260]
Почему этот реакционный подъем был не более чем проходной фазой развития Англии? Почему Англия не пошла дальше по этому пути и не стала еще одной Германией? Англосаксонские свободы, Великая хартия вольностей и тому подобная риторика не дают ответа на этот вопрос. Парламент принимал репрессивные меры подавляющим большинством голосов.
Многое объясняет тот факт, что за век до этого английские радикалы отрубили голову своему монарху, уничтожив тем самым магию королевского абсолютизма в Англии. На уровне причинно-следственных связей выясняется, что вся предшествующая история Англии, ее опора на морской флот вместо армии, на неоплачиваемых мировых судей вместо королевских чиновников привели к тому, что в распоряжении центрального правительства здесь был намного более слабый репрессивный аппарат, чем в мощных континентальных монархиях. Поэтому материальные условия, на основе которых можно было построить немецкую систему, либо отсутствовали, либо были недостаточно развиты. Тем не менее мы встречали выше достаточно примеров крупных социальных и политических изменений, развивавшихся из, казалось бы, малообещающего начала, поэтому следует допустить, что недостающие институции могли бы возникнуть в более благоприятных обстоятельствах. Однако, по счастью (для гражданских свобод), они не были таковыми. Движение в сторону индустриализации началось в Англии намного раньше, избавив английскую буржуазию от необходимости искать поддержку со стороны короны или землевладельческой аристократии. Наконец, самим высшим классам землевладельцев не было нужны угнетать крестьян. В основном они стремились оттеснить крестьянство в сторону, чтобы оно не мешало развитию коммерческого сельского хозяйства; в общем экономических мер было достаточно для того, чтобы обеспечить потребность в рабочей силе. Добиваясь экономического успеха такими методами, крупные землевладельцы не испытывали необходимости прибегать к репрессивным политическим мерам для удержания своего господствующего положения. Поэтому в Англии промышленные и аграрные круги соперничали между собой за народную поддержку на протяжении оставшейся части XIX в., постепенно расширяя избирательное право, но в то же время они ревниво отвергали и сокрушали более эгоистичные меры своих оппонентов (билль о реформе 1832 г., отмена «хлебных законов» 1846 г., поддержка со стороны джентри фабричного законодательства и т. д.).
В английской реакционной фазе были намеки на возможность фашизма, в особенности в некоторых выступлениях против радикалов. Но это были не более чем намеки. Время еще не пришло. Фашистские симптомы были намного заметнее в другой части мира в более позднюю эпоху – во время краткой фазы экстремизма в России после 1905 г. Это было слишком даже по российским меркам той поры, и можно найти хорошие аргументы в пользу тезиса о том, что именно русские реакционеры изобрели фашизм. Таким образом, эта фаза российской истории особенно поучительна, поскольку она показывает, что фашистский синдром (1) может возникнуть в ответ на сложности в развитии промышленности независимо от специфических социальных и культурных условий, (2) может найти множество первопричин в аграрной жизни, (3) появляется отчасти в ответ на слабый импульс в сторону парламентской демократии, (4) но не способен добиться успеха без преобладания промышленности или в условиях доминирования сельского хозяйства. Все эти моменты, конечно, подтверждаются недавней историей Китая и Японии, однако поучительно найти для них серьезное подтверждение в российской истории.
Накануне революции 1905 г. малочисленный класс российских торговцев и промышленников выразил некоторые признаки неудовольствия репрессивной политикой царского самодержавия и проявил готовность поиграть с идеями либерализма и конституции. Однако забастовки рабочих и содержавшееся в императорском Манифесте от 17 октября 1905 г. обещание согласиться на некоторые требования рабочих вновь вернули сторонников индустриализации в лагерь защитников царской власти [Gitermann, 1944–1949, Bd. 3, S. 403, 409–410; Берлин, 1922, с. 226–227, 236]. На фоне этого возникает движение черносотенцев. Опираясь отчасти на американский опыт, они ввели в русский язык слово «линчевать» и настаивали на применении «закона Линча». Они прибегали к насилию в стиле штурмовиков для подавления «измены» и «мятежа». Как утверждала их пропаганда, если России удастся избавиться от «жидов» и приезжих, все будут жить счастливо, вернувшись к «исконно русским» традициям. Этот антисемитский нативизм пользовался большой популярностью у отсталых, докапиталистических, мелкобуржуазных элементов в городской среде и среди мелкого дворянства. Однако в отсталой крестьянской России начала XX в. эта форма правого экстремизма оказалась неспособна найти прочную поддержку в народе. Она в основном распространилась в областях совместного проживания разных национальностей, где объяснение всех несчастий деятельностью евреев и чужеземцев приобретало какой-то смысл в рамках крестьянского опыта [Левицкий, 1914, с. 347–472, 353–355, 370–376, 401, 432]. Как всем известно, в той мере, в какой оно было политически активным, русское крестьянство было революционным и в конечном счете стало главной силой, сокрушившей прежний режим.
В Индии, которая была в равной степени, если не более, отсталой страной, аналогичные движения также потерпели неудачу в получении твердой опоры среди народных масс. Конечно, Субхас Чандра Бос, погибший в 1945 г., имел диктаторские замашки, сотрудничал со странами «Оси» и пользовался значительной народной поддержкой. Хотя его профашистские симпатии согласовывались с остальными аспектами его публичной деятельности и вряд ли стали результатом сиюминутного энтузиазма или оппортунизма, в индийской традиции Субхас Чандра Бос остался радикальным, пусть и заблуждавшимся антибританским патриотом [Samra, 1959, p. 78–79]. Кроме того, было множество нативистских индусских политических организаций, в некоторых случаях развивших автократическую дисциплину европейских тоталитарных партий. Пик их влияния пришелся на время хаоса и бунтов, сопровождавших раздел Британской Индии, когда они способствовали антимусульманским выступлениям и обеспечивали защиту индусских общин от атак мусульман, возглавлявшихся обычно такими же организациями на другой стороне. Их программы, которым недоставало экономического содержания, в основном имели форму воинственного ксенофобского индуизма, опровергавшего стереотип, согласно которому индусы миролюбивы, разделены по кастовому принципу и слабы. До сих пор они пользовались незначительной поддержкой у избирателей [Lambert, 1959, p. 211–224].
Одна из причин слабости индусского варианта фашизма на сегодняшний день, возможно, заключается в фрагментации индусского мира по кастовым, классовым и этническим границам. Поэтому откровенно фашистский призыв, обращенный к одному сегменту, вызывает неприятие у остальных, а более общий призыв, окрашенный в оттенки всеохватывающего гуманизма, уже начинает утрачивать чисто фашистские черты. В этой связи стоит заметить, что почти все экстремистские индусские группы выступили против «неприкасаемости» и прочих социальных неравенств кастовой системы [Ibid., p. 219]. Главная причина, однако, вероятно, состоит в том простом факте, что Ганди предвосхитил враждебные настроения по отношению к иностранцам и капитализму, свойственные огромным слоям населения – крестьянам и ремесленникам из кустарной промышленности. В условиях британской оккупации ему удалось связать эти настроения с интересами крупных сегментов коммерческого класса. В то же время землевладельческая аристократия в целом осталась в стороне. Поэтому реакционные тенденции были сильными в Индии, и они помогли замедлить экономический прогресс после провозглашения независимости. Но в качестве массового феномена крупные политические движения относятся к иному историческому виду, нежели фашизм.
Хотя не менее полезно было бы предпринять параллельное рассмотрение провалов демократии, которые привели к фашизму в Германии, Японии и Италии, для наших теперешних целей достаточно заметить, что фашизм немыслим без демократии или без того, что порой торжественно называется выходом масс на историческую арену. Фашизм был попыткой сделать реакционные и консервативные идеи популярными и плебейскими, вследствие чего консерватизм, конечно, утрачивал свойственную ему связь со свободой – некоторые аспекты этого процесса были рассмотрены в предшествующей главе.
Фашизм отменял понятие объективного права. Среди его наиболее значимых черт было насильственное отторжение гуманистических идеалов, включая любое понятие о равенстве людей. Фашистская идеология не только подчеркивала необходимость иерархии, дисциплины и повиновения, но также утверждала, что все это имело самостоятельную ценность. Романтические представления о товариществе едва ли смягчают эту доктрину; это товарищество в повиновении. Еще одной особенностью был акцент на насилии. Он превосходил все холодные и рациональные оценки фактического значения насилия в политике и доходил до мистического преклонения перед «твердостью» ради нее самой. Крови и смерти нередко свойственны черты эротического соблазна, однако в свои менее экзальтированные моменты фашизм был совершенно «здоровым» и «нормальным», он обещал возврат в уютное буржуазное или даже добуржуазное, крестьянское, лоно.[261]
Плебейский антикапитализм, таким образом, наиболее явно отличает фашизм XX в. от его исторических предшественников – консервативных и полупарламентских режимов XIX в. Он является результатом как вторжения капитализма в деревенскую экономику, так и напряжений, возникающих после конкурентной фазы развития капиталистической промышленности. Поэтому наиболее полно фашизм развился в Германии, где капиталистический промышленный рост продвинулся дальше всего в рамках консервативной революции сверху. В таких отсталых регионах, как Россия, Китай и Индия, он проявил себя лишь в форме слабой второстепенной тенденции. До Второй мировой войны фашизму не удалось распространиться в Англии и Соединенных Штатах, поскольку капитализм там функционировал достаточно хорошо либо усилия по исправлению его недостатков предпринимались в рамках демократии, а их успеху способствовал долговременный военный бум. На практике большая часть попыток антикапиталистической оппозиции противостоять крупному бизнесу ни к чему не привела, впрочем, нельзя делать и противоположную ошибку – считать фашистских вождей простыми агентами крупного капитала. На привлекательность фашизма для нижних слоев городского среднего класса, который испытывал угрозу со стороны капитализма, многократно указывалось; мы можем здесь ограничиться кратким рассмотрением сведений о разнообразии отношений к нему в крестьянской среде в различных странах. В Германии усилия по формированию массовой консервативной опоры в деревне предпринимались задолго до нацистов. Как указывает профессор Александр Гершенкрон, базовые элементы нацистской доктрины вполне отчетливо проявились в достаточно успешных попытках юнкеров завоевать поддержку крестьян из небольших хозяйств в неюнкерских областях с помощью Аграрной лиги, созданной в 1894 г. К приемам, использовавшимся для усиления антикапиталистических настроений среди крестьян в контексте, тесно связанном с нацистским различением «хищнического» и «производительного» капитала, относились: культ «фюрера», идея корпоративного государства, милитаризм, антисемитизм [Gerschenkron, 1943, p. 53, 55]. Есть много надежных указаний на то, что в годы, предшествовавшие депрессии, зажиточные и преуспевающие крестьяне постепенно сдавали свои позиции крестьянской бедноте. Депрессия ознаменовала собой глубокий и всесторонний кризис, главным ответом на который в деревне стал национал-социализм. Деревенская поддержка нацистов составляла в среднем 37,4 % и практически не отличалась от поддержки в целом по стране на последних относительно свободных выборах 31 июля 1932 г.[262]
Если посмотреть на карту Германии, показывающую распределение голосов, поданных за нацистов в сельских регионах, и сравнить эту карту с другими, которые показывают распределение цен на землю, типов культивации[263] или области преобладания небольших, средних и крупных хозяйств,[264] то на первый взгляд популярность нацизма в деревне не показывает жесткой связи с чем-либо из этого. Однако если изучить карты подробнее, можно обнаружить существенное подтверждение тому, что нацисты добились успеха у крестьян, владевших небольшими наделами, сравнительно нерентабельными для своей местности.[265]
Для мелкого крестьянства, страдавшего под натиском капитализма с его проблемами цен и кредитов, которыми, как казалось, заправляли враждебно настроенные горожане среднего класса и банкиры, нацистская пропаганда представляла романтический образ идеализированного крестьянина, «свободного человека на свободной земле». Крестьянин стал ключевой фигурой в идеологии правого радикализма, разработанной нацистами. Они охотно подчеркивали, что для крестьянина земля нечто большее, чем средство, необходимое для того, чтобы заработать себе на жизнь; в их представлениях земля обладала всеми сентиментальными обертонами того, что называется Heimat, Родиной, связь с которой крестьянин ощущал намного сильнее, чем белый воротничок – со своим офисом, а промышленный рабочий – со своим цехом. В этом учении правого радикализма смешивались воедино физиократические и либеральные понятия [Bracher, Sauer, Schulz, 1960, S. 390–391]. «Крепкая сердцевина мелкого и среднего крестьянства во все времена оказывалась наилучшей защитой от социальных бедствий, с которыми мы имеем дело сегодня», – утверждал Гитлер в «Mein Kampf». Такое крестьянство обеспечивает единственный способ, каким нация способна обеспечить свой хлеб насущный. Он продолжает: «Промышленность и коммерция оставляют свои нездоровые лидирующие позиции и встраиваются в общую рамку государственной экономики, базирующейся на потребности и равенстве. Они уже не основа для пропитания нации, а только помощники в этом» [Hitler, 1935, S. 151–152].[266]
Для наших целей нет особого смысла рассматривать судьбу этих понятий после прихода к власти нацистов. Хотя кое-где предпринимались какие-то начинания, большинство из них были свернуты, поскольку они противоречили требованиям сильной военной экономики, с необходимостью базирующейся на индустрии. Идея отказа от промышленности с очевидностью была самой абсурдной чертой.[267]
В Японии, как и в Германии, псевдорадикальный капитализм добился значительного успеха среди крестьянства. Здесь также был первоначальный импульс, происходивший со стороны высших землевладельческих классов. В то же время его более экстремальные формы, такие как банды убийц, состоявшие из молодых военных офицеров, хотя и заявляли о том, что выступают от имени крестьян, похоже, не имели среди них особенной популярности. В любом случае экстремизм растворился на фоне общей картины «респектабельного» японского консерватизма и военной экспансии, которым крестьянство обеспечивало массовую поддержку. Поскольку ситуация в Японии подробно рассматривалась выше, здесь нет необходимости останавливаться на ней дольше.
Итальянский фашизм демонстрирует те же псевдорадикальные и прокрестьянские черты, как в Германии и Японии. Однако в Италии эти понятия были оппортунистскими, они представляли собой циничную декорацию, возведенную ради того, чтобы воспользоваться обстоятельствами. Циничный оппортунизм, конечно, присутствовал в Германии и Японии, но в Италии он был наиболее откровенным.
Сразу после войны 1914 г. в североитальянской деревне разразилась ожесточенная борьба между социалистическими и христианско-демократическими профсоюзами, с одной стороны, и крупными помещиками – с другой. В это время, т. е. в 1919–1920 гг., Муссолини, согласно Иньяцио Силоне, пренебрегал деревней и не верил в фашистский триумф на земле, полагая, что фашизм всегда будет городским движением [Silone, 1934, S. 107]. Однако борьба между помещиками и профсоюзами, представлявшими интересы наемного труда и арендаторов, предоставила фашистам неожиданную возможность поймать рыбу в мутной воде. Выступая в качестве спасителей цивилизации от угрозы большевизма, fasci – по сути, банда идеалистов, демобилизованных армейских офицеров и простых уголовников – громили штаб-квартиры деревенских профсоюзов, нередко при попустительстве полиции, и в течение 1921 г. уничтожили левое движение на селе. Среди тех, кто устремился в ряды фашистов, были крестьяне, ставшие помещиками средней руки, и даже арендаторы, которым были противны монополистические практики профсоюзов [Schmidt, 1938, p. 34–38; Silone, 1934, S. 109; Salvemini, 1918, p. 67, 73]. Летом того же года Муссолини высказал свое известное замечание, что, «если фашизм не хочет умереть или, хуже того, совершить самоубийство, он должен теперь обеспечить себя учением… Я хочу, чтобы за эти два месяца, которые остаются до нашей национальной ассамблеи, была создана философия фашизма» (цит. по: [Schmidt, 1938, p. 39–40]).
Лишь впоследствии вожди итальянского фашизма стали заявлять, что фашизм, защищая интересы крестьян, делает Италию ближе к деревне или что фашизм в первую очередь был «сельским явлением». Подобные заявления были нонсенсом. Число фермеров-собственников сократилось на 500 тыс. человек с 1921 по 1931 г., зато число арендаторов, расплачивавшихся деньгами и продукцией, выросло примерно на 400 тыс. человек. По сути, фашизм защищал крупные аграрные хозяйства и крупную промышленность за счет сельскохозяйственных рабочих, мелких крестьян и потребителей (см.: [Ibid., p. v, 66–67, 71, 113, 132–134]).
Оглядываясь на фашизм и его предшественников, мы можем видеть, что прославление крестьянства возникает как реакционный симптом и на Западе, и в Азии в тот момент, когда крестьянская экономика сталкивается с суровыми испытаниями. В первой части эпилога я попытаюсь указать некоторые повторяющиеся формы, которые приобретает это прославление на более опасных стадиях. Сказать, что подобные идеи были просто навязаны крестьянам со стороны высших классов, не совсем верно. Поскольку эти идеи находят отклик в крестьянском опыте, они могут получить широкое распространение, причем, похоже, тем шире, чем более промышленно развитой и современной является страна.
Можно возразить на то, чтобы расценивать прославление крестьянства как реакционный симптом, процитировав слова одобрения Джефферсона в отношении мелкого фермера или Джона Стюарта Милля в защиту крестьянского фермерства. Однако оба мыслителя в характерном для раннего либерального капитализма стиле скорее защищали не крестьянство, но мелкого независимого собственника. В их рассуждениях нет ни воинственного шовинизма, ни прославления иерархии или повиновения, которые встречаются в последующую эпоху, пусть им и были свойственны спонтанные всплески романтического отношения к сельской жизни. Но даже и в этом случае их позиция по аграрным проблемам и по деревенской общине обозначает те пределы, выйти за которые не мог либеральный мыслитель той поры. Для того чтобы подобные идеи смогли послужить реакционным целям в XX в., они должны были бы приобрести новую форму и появиться в новом контексте; защита тяжелого труда и мелкой собственности в XX в. приобрела совершенно иной политический смысл, отличающийся от того, который она имела в середине XIX или в конце XVIII в.