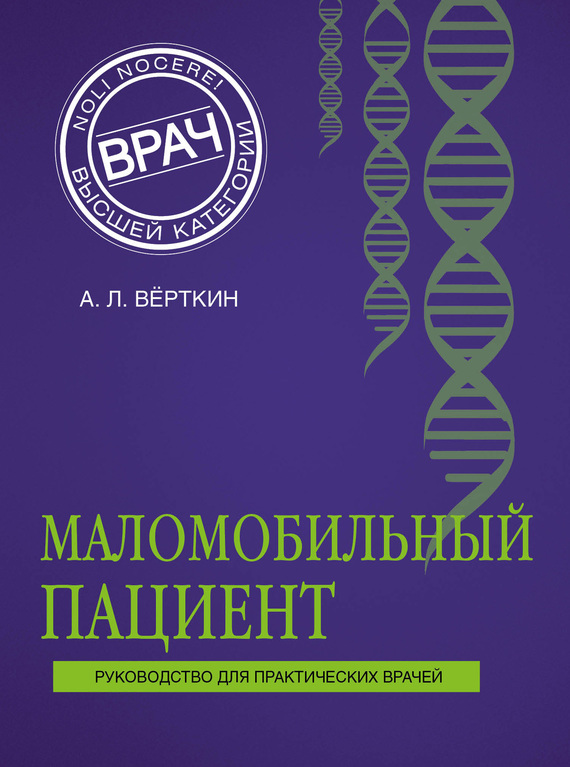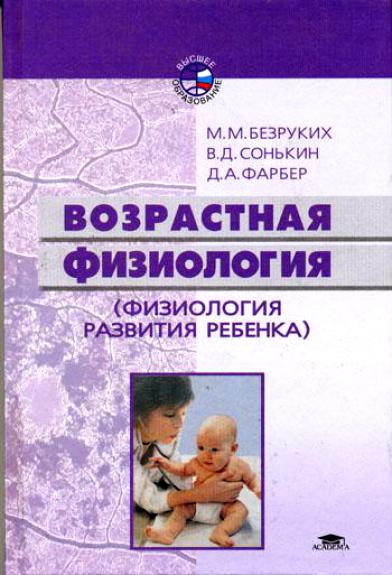6. Восстание, революция и крестьянство
Частота крестьянских восстаний в Китае хорошо известна. Фицджеральд называет шесть главных бунтов за всю долгую историю Китая до 1900 г. [Fitzgerald, 1952, p. 13]. Было множество других – локальных и безуспешных. Я попытаюсь указать основные причины того, что китайское общество в период до современной эпохи было предрасположено к крестьянским восстаниям, ограничившись рассмотрением финальной стадии правления маньчжурской династии. Хотя некоторые из этих факторов действовали еще при прежних династиях, это выходит за рамки данной книги и авторской компетенции. Тем не менее можно занести в протокол тот факт, что речь идет именно о восстаниях, а не революциях: ни один из этих бунтов не изменил базовую структуру общества. Затем я постараюсь показать, как эта первоначальная структурная слабость обернулась на пользу подлинной революции из-за новых конфликтов, порожденных влиянием коммерции и промышленности в XIX–XX вв. В целом эта история составляет поучительный контраст с ситуацией в Индии, где до современной эпохи крестьянские восстания были сравнительно редкими и совершенно бесплодными, а модернизация на долгое время разорила крестьян не меньше, чем в Китае. Сравнение с Японией так же показательно, хотя и менее поразительно. Японские власти оказались способны сдерживать крестьянские восстания в ходе модернизации отчасти потому, что крестьянское сообщество в этой стране было организовано на иных принципах, чем в Китае. Но этот успех, в свою очередь, позволил Японии развиваться по реакционной модели модернизации, которая, как и в Германии, привела к фашизму.
Перед тем как приступить к рассмотрению китайского крестьянства, стоит напомнить о том, что политическая структура Китая в XIX в. демонстрировала серьезную слабость, имевшую лишь косвенное отношение к крестьянству; ее уместнее считать следствием характера и организации правящей страты помещиков и чиновников. Я упоминал выше некоторые причины того, почему этот сегмент китайского общества в целом был не в состоянии приспособиться к современному миру коммерции и промышленности. Есть достаточно ясные указания на определенный дефект в политическом механизме традиционного Китая. В своей среде обитания в качестве помещиков представители джентри нуждались в том, чтобы имперская система была достаточно сильной для поддержания их власти над крестьянами. В то же время действия, необходимые для укрепления имперской системы, противоречили краткосрочным интересам провинциальных джентри, которые не спешили платить свою часть налогов и обычно стремились решать местные вопросы самостоятельно [Hsiao, 1960, p. 125–127]. Окружной магистрат не мог ничего поделать с этой ситуацией. Когда коррупция возросла, а польза от центрального правительства стала неочевидной, центробежная сила лишь увеличилась и образовался порочный круг.
В контексте нашей непосредственной проблемы наиболее важные структурные дефекты означают пропуски в связях, соединявших крестьянство с высшим классом и господствующим режимом. Как указано выше, представители джентри не играли какой-либо, хотя бы контролирующей, роли в аграрном цикле, которая давала бы им легитимный статус для того, чтобы претендовать на руководство крестьянской общиной. Одно из главных различий между землевладельцами-аристократами и просто богатыми помещиками, похоже, было в том, что китайские аристократы избегали всякого соприкосновения с ручным трудом и посвящали свое время наукам и искусствам. Джентри договаривались с правительством об улучшении ирригации. Хотя результаты этих договоренностей были очевидны крестьянам и можно не сомневаться, что джентри делали все возможное, чтобы впечатлить крестьян тем, что? они для них сделали, по своей природе такого рода достижения не могли быть связаны с непрерывной или часто повторяемой деятельностью. В любой местности есть ограничения на количество ирригационных каналов. Более того, когда ресурсы центрального правительства и местных властей сократились, старые проекты стало трудно поддерживать на ходу, а новые – невозможно реализовать.
Если строить предположения о возможном экономическом вкладе джентри, который легитимировал бы их статус, на ум приходит известный факт, что знать располагала знаниями об астрономическом календаре, необходимыми для определения сроков проведения работ в сельскохозяйственном цикле. Хотя этот момент нуждается в дальнейшем анализе – здесь требуется более подробная и надежная информация об отношениях между крестьянством и джентри, – есть веские причины для сомнения в том, что подобная монополия играла существенную роль в XIX в.[143] Более того, на основании своего практического опыта крестьяне всегда вырабатывают богатый набор сведений обо всех аспектах сельскохозяйственного цикла: они прекрасно знают лучшее время и место для выращивания каждого типа зерновых, сбора урожая и т. д. Такого рода сведения настолько прочно укоренены в опыте и риск, связанный с отклонением от них, настолько велик для большинства крестьян, что нынешние правительства сталкиваются с большими трудностями, пытаясь заставить крестьян отказаться от своих обычаев. Поэтому скорее астрономы адаптировали свое знание к тому, что крестьяне знали из опыта, чем наоборот, и в современную эпоху они не сделали ничего такого, что было бы для крестьянина совершенно необходимым.
Но что тогда государство делало для крестьян? Современные западные социологи, вероятно, откажутся допустить, что государство не делало почти ничего, но, на мой взгляд, это верный ответ. Соображения социологов основаны на том, что никакая институция с долгой историей не может приносить подданным только вред (хотя, на мой взгляд, это противоречит огромной массе свидетельств прошлого и настоящего), поэтому социологи занимаются безнадежным поиском «функции», которую данная институция выполняет. Здесь неуместно затевать спор о методах или способах, посредством которых сознательные и неосознанные допущения определяют круг вопросов, затрагиваемых в научном исследовании. Тем не менее более реалистично допустить, что огромные массы людей, особенно крестьян, просто принимают социальную систему, в которой они живут, не заботясь о балансе выгод и потерь (и уж, конечно, без малейшей мысли о том, что возможны радикальные улучшения), если только не случается нечто, грозящее полным уничтожением их повседневному образу жизни. Поэтому для таких людей вполне возможно принять существование общества, в котором им отводится роль жертвы.
Можно возразить, что имперская бюрократия, пока она функционировала исправно, как было, например, в XVII–XVIII вв., поддерживала закон и порядок, устанавливала объективные нормы права, намного опережавшие по времени те, что были приняты в большей части Европы. Это верно, но справедливое управление и правосудие оказало довольно слабое влияние на крестьян. В теории, конечно, о криминальных делах: убийстве, разбое, воровстве, прелюбодеянии и похищении людей – можно было в любое время сообщить окружному магистрату. Один магистрат зашел так далеко, что дозволил людям в своем ямэне звонить в гонг, если у них была просьба о рассмотрении какого-то дела. Был отменен «сезон фермерского труда», в течение которого гражданские дела не слушались [Ch’?, 1962, p. 118–119]. Такого рода факты заставляют думать, будто магистрат играл важную роль в жизни людей. Забегая вперед, можно сказать, что до этого было очень далеко. Магистрат вершил правосудие, пусть в самых незначительных формах, над многими тысячами людей. Его ямэнь находился в окруженном стеной городе с окружной резиденцией. Как правило, он вообще обходился без прямого контакта с крестьянами [Ibid., p. 116, 151]. Реальные контакты осуществлялись при посредничестве государственных курьеров – людского отребья, стоявшего на одном уровне с криминальными элементами, и носили по большей части эксплуататорский характер. Периодические отдельные случаи убийства среди крестьян привлекали к себе внимание магистрата. В остальном контакты были минимальны. Внутри семьи и клана крестьяне имели свои договоренности, касавшиеся поддержания порядка и справедливости, согласно собственным принципам. Имперский аппарат использовался разве что для защиты урожая от мародеров и бандитов. Однако крупномасштабный бандитизм, серьезно угрожавший крестьянам, стал в значительной степени следствием официальной эксплуатации. В XIX в. имперская бюрократия была все менее способна поддерживать хотя бы видимость порядка на большей части Китая, поскольку ее собственная политика порождала крестьянские выступления.
Если подвести итог предшествующему анализу, то свидетельства ясно указывают на то, что правительство и высшие классы не выполняли никакой функции, которую крестьяне могли бы посчитать необходимой для своего образа жизни. Поэтому связь между правителями и подданными была слабой, по большей части искусственной, готовой оборваться при первом же усилии.
Имперский режим пытался компенсировать искусственный характер этой связи тремя способами. Первой мерой была система зерноскладов, как местных, так и императорских хранилищ зерна, распределявшегося среди населения при возникновении дефицита. Правители осознавали прямую связь между голодом и крестьянскими выступлениями, хотя голод не был единственной причиной последних, как мы увидим далее. Однако система общественных зерноскладов постепенно пришла в негодность, и в XIX в., когда в ней возникла наибольшая потребность, она по большей части была заброшена. Главной причиной этого, вероятно, были краткосрочные потери джентри и преуспевающих помещиков от продажи или безвозмездной передачи зерна правительству. Ведь именно в период дефицита собственник зерна мог нажить состояние (подробнее см.: [Hsiao, 1960, ch. 5]). Второй мерой была знаменитая система взаимной слежки, баоцзя, которая напоминает, намного опережая по времени, современные тоталитарные методы. Десять домохозяйств объединялись в бао, глава которого отвечал за предоставление наверх сведений о поведении его членов. Определенное количество этих бао (в разное время было по-разному) объединялось в сходные группы с аналогичными обязанностями, и так далее по восходящей иерархии. Это была попытка распространить правительственные функции наблюдения и контроля на уровень ниже окружного магистрата. Современные китаеведы полагают, что система бао была крайне неэффективной [Ch’?, 1962, p. 151–152; Hsiao, 1960, p. 26–30, 43–49, 55]. Взаимная слежка оказалась в одной упряжке с собиранием налогов, что вряд ли повысило ее популярность среди крестьянства. Эффективность всякой меры такого рода опирается на достаточное число простых людей, которые, с одной стороны, зависимы от системы и поэтому их можно заставить играть незавидную роль доносчика, но, с другой стороны, пользуются достаточным уважением среди населения, чтобы собирать интересующие сведения. Отсюда можно сделать вывод, что эти условия едва ли выполнялись при маньчжурской династии. Третья мера также заставляет вспомнить тоталитарную практику регулярных лекций для населения по конфуцианской этике. Эта практика распространилась в XVII в., и некоторые императоры относились к ней очень серьезно. Другое дело население, которое, если верить многочисленным свидетельствам, воспринимало эти лекции как приторный вздор. Система лекций просуществовала до 1865 г., под конец выродившись в пустую формальность, к которой не относились всерьез ни чиновники, вынужденные читать лекции, ни крестьяне, вынужденные их слушать [Hsiao, 1960, ch. 6].
В целом подобное сочетание военной политики, полицейской слежки и индоктринации населения явно предвосхитило современные тоталитарные практики. На мой взгляд, это убедительно доказывает, что ключевые черты тоталитарного комплекса возникли еще до наступления современной эпохи. Однако пока современная техника не сделала тоталитарные методы эффективными и не произвела на свет новые формы восприимчивости к ним, тоталитарный комплекс сохранялся в аграрных обществах только в зародыше.
Четвертым видом связи между крестьянством и высшим классом был клановый механизм, достаточно эффективно прикреплявший крестьянина к господствующему порядку. Напомню, что клан – это группа людей, убежденных в своем происхождении от общего предка. Хотя делами клана занимались представители джентри, он включал большое число крестьян. У клана были свои правила поведения, которые воспроизводились устно на красочных церемониях, когда члены клана собирались вместе, визуально удостоверяя свое членство в коллективном единстве. Некоторый набор конфуцианских понятий, таких как уважение к старшим и предкам, через клан все-таки доходил до крестьян. По крайней мере эти понятия были совместимы со структурой крестьянского общества. Почтение перед прошлым являлось одним из таких понятий благодаря ценности коммулятивного опыта в мире, где социальные изменения происходят чрезвычайно медленно. Здесь можно заметить одну из главных сил, порождавших крестьянский консерватизм. Заповедная земля, бывшая в коллективной собственности, обеспечивала клан солидной экономической базой. Она сдавалась в аренду бедным членам клана по ставке ниже рыночной. В некоторых случаях эта земля обеспечивала средства, с помощью которых одаренные, но не слишком богатые члены клана могли получить классическое образование и проникнуть в чиновничью среду, обогатив тем самым коллективные ресурсы клана. Деревни, где позиции клана были сильны, особенно те, где жители составляли единый клан, по свидетельствам, были намного более сплоченными и солидарными, чем другие. Хотя на севере тоже существовали кланы, наиболее сильными их позиции были на зажиточном юге, и вообще кланы указывали на наличие повышенного аграрного благосостояния [Hsiao, 1960, p. 319–326; Liu, 1959]. Поэтому они существовали не везде. По преимуществу клан был всего лишь расширенной версией наследования по отцовской линии с сильными патриархальными чертами, широко распространенными в высших классах. Поэтому можно с уверенностью предположить, что в других частях Китая, где кланы не играли важной роли, существовало множество меньших линий преемственности, включавших как джентри, так и крестьянские домохозяйства и служивших той же цели: связать между собой правителей и подданных.
В общем клан и наследование по отцовской линии оказываются единственной важной связью между высшей и низшей стратой китайского общества. Их значение не стоит недооценивать, хотя, как выяснится ниже, клан был обоюдоострой силой: при случае он мог стать ключевым механизмом консолидации повстанческих групп. Общая слабость связи между правителями и подданными по сравнению с другими обществами (за исключением русского, также подверженного крестьянским восстаниям) достаточно хорошо установлена, по крайней мере для маньчжурской эпохи, и, на мой взгляд, в значительной мере объясняет, почему крестьянские бунты были неизбежны для китайского общества. Однако отличалась ли сама по себе крестьянская община какими-либо структурными аспектами, способными объяснить эту явную особенность китайской политики?
На этот счет у нас мало прямой информации по маньчжурскому периоду. Но ряд антропологов провели хорошие полевые исследования китайских деревень текущего периода, в том числе деревень из внутренней части страны, не подверженных современным веяниям. На основании их результатов можно судить о предшествующем периоде, если исключить факты, по своему происхождению связанные с позднейшими причинами.
В Китае, как и в других странах, деревня была базовой ячейкой сельского общества, но, если сравнивать Китай с Индией, Японией и с многими странами Европы, китайской деревне явно не хватало сплоченности. В Китае существовало очень мало причин для того, чтобы массы деревенских жителей все вместе занимались выполнением какой-то общей задачи, что обычно порождает навыки кооперации и чувство солидарности.[144] Скорее китайская деревня напоминала скопление множества крестьянских домохозяйств, а не живое функционирующее сообщество, пусть даже степень атомизации здесь и была меньшей, чем, например, в современных деревнях юга Италии, где жизнь напоминает безмолвную борьбу всех против всех [Banfield, 1958]. Тем не менее часто повторявшиеся высказывания Сунь Ятсена и Чан Кайши о том, что китайское общество подобно куче песка, не были просто политической риторикой.
Первичной единицей экономического производства (а также потребления) в деревне было домохозяйство: муж, жена, дети.[145] Выдающийся антрополог Фей утверждает, что использование мотыги при обработке рисовых полей привело к тому, что большая часть работы выполнялась индивидуально. «Групповая работа производит лишь сумму частных усилий, не сильно повышая общую эффективность».[146] Хотя о севере, где выращивали пшеницу, информация более скудная, там господствовала аналогичная система интенсивного ручного труда, применяемого к небольшим разрозненным участкам, и был распространен тот же тип деревенского общества.[147] Поэтому вряд ли одной лишь технологией объясняется относительная недоразвитость практики совместного труда.
Некоторая кооперация все-таки существовала; краткий комментарий об этом в наших источниках позволяет сделать предположение о том, почему она была ограниченной. Для повышения эффективности рисоводство нуждается в бо?льших затратах труда в период пересаживания молодых побегов, чем в период сбора урожая. В последующих главах мы познакомимся с максимально эффективной организацией труда, созданной в японской деревне для решения этой проблемы, и с максимально неэффективной – до сих пор превалирующей на большей части Индии. Китайцы решали эту проблему несколькими способами. Они могли обмениваться между собой трудовыми ресурсами, устанавливая сроки посева таким образом, чтобы растения не достигали одинаковой степени зрелости одновременно, и тем самым выигрывая время для помощи своим родственникам. Обмен трудовыми ресурсами между родственниками считался наиболее предпочтительным вариантом [Fei, Chang, 1948, p. 36, 64–65, 144; Yang, 1959a, p. 265]. Но если род не мог обеспечить достаточное количество рабочих рук в решающие моменты сельскохозяйственного цикла, то нанимались посторонние люди. Лишние рабочие руки можно было привлечь по трем причинам. Во-первых, у некоторых местных крестьян было недостаточно собственной земли для поддержания своих семей [Fei, Chang, 1948, p. 299].[148] Наличие этой группы позволяло тем, у кого было достаточно земли, заставлять других работать на себя в рамках господствующей социальной и политической системы. Во-вторых, источником рабочей силы были безземельные крестьяне. В-третьих, нанимались на работу те, кому не удавалось зарабатывать на жизнь на бесплодных землях в бедных удаленных районах. В конце 1930-х годов многие приезжие рабочие имели другое этническое происхождение («бродячие души», «корабельные люди») – это были скитальцы, соглашавшиеся на очень низкую оплату, что не давало расти местной заработной плате. Временами безземельные китайцы из другого района поселялись в деревне, но, не будучи членами клана и не имея доступа к земле, они жили уединенно, не участвуя в деревенской жизни [Ibid., p. 58–62; Yang, 1959a, p. 11, 51–52, 101, 149].
Пока по вышеуказанным причинам рабочая сила была в избытке, экономической кооперации среди отдельных жителей китайской деревни недоставало постоянства и институциональной почвы, которая все еще сохраняется в Индии из-за кастовой системы и в Японии, пусть и по другим основаниям. В досовременную эпоху в Китае обмен лишней рабочей силой и ее аренда подчинялись гибким правилам и были краткосрочным и неспешным делом, как на севере, так и на рисоводческом юге [Crook, Crook, 1959, p. 63; Gamble, 1954, p. 221–222]. Даже среди близких родственников обмен рабочей силой обсуждался и устанавливался каждый год заново, а в пиковые периоды землевладельцы выжидали до последнего, чтобы нанять дополнительных рабочих по самой низкой ставке.
Единственным часто повторявшимся видом деятельности, при котором требовалась кооперация, была организация водоснабжения. Но скорее это был вопрос распределения скудных ресурсов, решение которого нередко кончалось дракой между жителями деревни либо между деревнями, а не совместной работы для решения общей задачи [Hsiao, 1960, p. 419]. В отличие от Японии и от досовременной Европы в Китае основные решения по сельскохозяйственному циклу принимались избранными домохозяйствами. Здесь не было никаких признаков чего-либо, отдаленно напоминавшего европейскую практику Flurzwang, при которой деревенская община совместно устанавливала сроки, когда поля всех ее членов превращались на зимний период в пастбище и становились общинной, доступной для всех землей, а когда отдельные полосы вновь возвращались в частное владение в период пахоты и сева. Земельная собственность китайцев была также разделена на полосы, распределенные по всей территории деревни. Но малое поголовье скота и слишком интенсивная эксплуатация земли делали невозможной эту европейскую практику, даже в северных областях, где выращивали пшеницу.
Историки России и Японии подчеркивают важность коллективной ответственности по уплате налогов, благодаря которой деревенская солидарность стала отличительной чертой этих двух стран, поэтому стоит обратить внимание на то, что китайская имперская система также возлагала некоторую ответственность на коллектив [Ibid., p. 60, 84–86, 96, 100]. Но, как показывают позднейшие свидетельства, китайская система не привела к подобным результатам. По-видимому, налоговые практики, несомненно будучи важным фактором, сами по себе все же недостаточны для создания сплоченных деревенских сообществ. Как сказано выше, ради достижения своих целей империя пыталась обеспечить солидарность через систему баоцзя. Общепризнанная неудача баоцзя в Китае и, напротив, успех аналогичной японской организации, основанной на китайской модели, серьезно подкрепляют тезис о слабой сплоченности сообществ в традиционных китайских деревнях имперской эпохи. Конечно, впечатление засилья индивидуализма и минимума кооперации может быть несколько преувеличенным вследствие использования антропологических данных, относящихся к недавнему времени. Тем не менее маловероятно, что базовые структурные принципы деревенской жизни фундаментально различались в имперскую эпоху и в период проведения исследований. Система испольщины и тяга высших классов к эстетской праздности, для чего требовалась рабочая сила, не нуждавшаяся в личном контроле, – все это указывает на отношения, в целом похожие на обрисованные выше. Таким образом, политические нужды высших классов в сочетании с господствующими сельскохозяйственными практиками порождали крестьянский индивидуализм и избыток рабочей силы, что вело к относительной атомизации крестьянской общины.
Эти замечания не должны производить впечатления, будто раньше китайская деревня была миниатюрной версией войны всех против всех. Определенный уровень общности в ней имелся. В деревне обычно был храм, часто отмечались праздники, и в празднованиях достаточно свободно участвовали все жители. Кроме того, местная олигархическая знать была в целом эффективным средством урегулирования споров между жителями деревни и предотвращения вспышек насилия, возникающих в любой группе людей, живущих в тесной близости. Одним из признаков чувства общности может служить тот факт, что во многих деревнях твердо отказывались принимать в свои ряды чужаков. Причина была простой: нехватка земли.
Это знакомит нас с еще одним базовым принципом китайского общества: владение землей было абсолютно необходимым условием для того, чтобы считаться полноправным жителем деревни. Выше уже говорилось о том, как владение землей обеспечивало основу клановой активности. То же самое действовало на уровне семьи. Поскольку семья была главной единицей экономического производства, работы на земле исключительно благоприятствовали сильным и стабильным родственным связям [Yang, 1959a, p. 80, 91–92]. Вся конфуцианская этика уважения к предкам была бы невозможна без собственности, и она ослабевала среди бедных крестьян. Ведь для них даже семейная жизнь часто оставалась недоступной. В отличие от ситуации, долгое время господствовавшей в западном обществе, в Китае у бедных крестьян было меньше детей и, естественно, еще меньшее число этих детей доживало до зрелого возраста [Ibid., p. 17–19; Crook, Crook, 1959, p. 7–11]. Многие вообще не могли жениться. Даже в современных китайских деревнях бывает несколько «пустых палок», холостых мужчин, слишком бедных, чтобы жениться. «Они были объектами жалости и насмешки в глазах деревенских жителей, чья жизнь вращалась вокруг семьи» [Yang, 1959a, p. 51]. Кроме того, бедняки продавали своих детей, в основном девочек, но иногда и мальчиков, поскольку не имели возможности их вырастить.
Короче – ни собственности, ни семьи, ни религии. Это предельный случай. В китайской деревне было место, пусть скромное и ненадежное, для безземельных сельскохозяйственных рабочих, хотя более распространенной была ситуация, когда крестьяне, которым не хватало земли, работали на своих богатых соседей.
Тем не менее старая академическая теория о патриархальной этике, якобы объединявшей китайское общество через миллионы крестьянских семей, по большей части не что иное, как нонсенс. Патриархальный образ был драгоценным аристократическим идеалом, недоступным большинству крестьян. Среди крестьян он всего лишь подпитывал почву мелкого внутрисемейного деспотизма, неизбежного в суровых условиях жизни. Китайская крестьянская семья накапливала в себе взрывоопасное напряжение, которое привело в свое время к революции не без участия «искры» коммунистической агитации.[149]
В целом сплоченность в китайской крестьянской общине была значительно ниже, чем в других странах, причем она сильно зависела от обеспеченности земельной собственностью. Забегая вперед, надо сказать, что в Индии кастовая система предоставляла социальную нишу безземельным рабочим, вовлекая их в разделение труда внутри деревни, а функционирование кастовых санкций слабо зависело от наличия собственности. Политическое значение подобных различий указывает на неразрешимые проблемы в оценке фактов, особенно, если вспомнить еще и о том, что в России крестьянские восстания были отличительной чертой царского режима, даже несмотря на то, что крестьяне там развили сильные институции солидарности. Очевидно, одни формы солидарности поощряли крестьянские бунты, а другие, напротив, были направлены против них – и это большая тема, которую лучше отложить для последующего рассмотрения.
Специфическая структура крестьянской общины, наряду со слабостью связей между крестьянством и высшими классами, позволяет объяснить, почему в Китае так часто происходили крестьянские восстания, а также их сложности и пределы. Это указывает на линии разрыва в китайском обществе, все более проявлявшиеся в XIX–XX вв., когда бедность усилилась во многих частях страны. Затем социальные связи совсем оборвались. Крестьяне покидали свои дома, бродяжничали, превращались в бандитов. Впоследствии из них набирали рекрутов для армий милитаристов. В китайском обществе возникли огромные пласты пустой человеческой породы, т. е. материала, легко вспыхивающего от революционной искры. В то же время восстание не может ограничиваться разрушением господствующих социальных связей, для его успеха требуется становление новых форм солидарности и лояльности. В Китае это было проблематично, поскольку за пределами своей семьи и клана крестьяне не сотрудничали между собой. Эта задача еще более осложняется в случае революции, которая должна построить общество нового типа. Если бы не случайное стечение обстоятельств (случайное в том смысле, что их причиной не было что-либо, происходившее в самом Китае), коммунисты никогда бы не решили эту проблему. Анализ конкретных форм насилия в последние годы существования империи и в последующие годы позволит придать бо?льшую осмысленность этим неизбежно слишком общим замечаниям.
Даже в «нормальные» времена слабая имперская система поддержания мира и безопасности в сельской местности не спасала деревенских жителей от того, что за неимением лучшего выражения можно просто назвать гангстеризмом, неконтролируемым применением насилия в отношении населения без малейшего интереса в изменении политической системы или хотя бы в замене прежних правителей на новых. Разбойников нельзя романтизировать, рисуя их друзьями бедняков, как нельзя принимать за истину и официальную пропаганду. Обычно местные жители договаривались с бандитами, чтобы те оставили их в покое. Очень часто лидеры местных джентри поддерживали с бандитами теплые отношения. Встречались профессиональные гангстеры и целые бандитские династии [Hsiao, 1960, p. 430, 456, 462, 465]. Само по себе это еще не особенно примечательно: гангстеризм процветает всюду, где слабеют силы закона и порядка. Европейский феодализм по своей сути был гангстеризмом, сформировавшим общество и приобретшим лоск респектабельности благодаря представлениям о рыцарстве. Как показывает постепенное возникновение феодализма на руинах римской административной системы, эта форма самоорганизации, насильственная в отношении посторонних, принципиально противоположна нормальной бюрократической системе. Для выживания бюрократия должна пользоваться монополией на насилие и выбирать своих жертв на рациональных основаниях, введенных в Китае конфуцианством. Когда имперская система распалась на генеральские сатрапии, лишь временно и нежестко объединенные под властью Гоминьдана, система в целом стала все больше приобретать бандитские черты, быстро теряя народную поддержку.
В любом случае при маньчжурской династии граница между обыкновенными бандитами и организованными повстанцами была призрачной. Для восстания мало того, чтобы из деревень прибывал постоянный поток отщепенцев, чему социальная структура китайской деревни вполне способствовала. Для начала такое пополнение, конечно, очень важно, но на самом деле это всего лишь приток свежей крови в бандитские группировки. Если повстанцы рассчитывают стать серьезной угрозой, они должны получить территориальную базу, неподконтрольную правительству, и эта территория должна непрерывно увеличиваться. Захват территориальной базы, в свою очередь, предполагает, что на сторону восставших переходят целые деревни. В Китае это означало, что повстанцы должны заставить сотрудничать с собой местную знать, включая проживающих здесь джентри, и предложить крестьянам лучшие условия жизни.
К сожалению, нет хорошей монографии о восстании тайпинов в 1850-х годах, написанной ученым, внимательным к проблемам социальной структуры. Однако есть одно поучительное исследование восстания няньцзюней (1853–1868), которые временами взаимодействовали с тайпинскими повстанцами. Этот анализ позволяет нам обнаружить некоторые причины и пределы традиционных восстаний XIX в. В связи с этим будут полезны несколько замечаний.
Подобно другим аналогичным событиям в XIX в., восстание няньцзюней было следствием упадка империи, но, в свою очередь, послужило усилению и ускорению этого процесса. К непосредственным причинам подобных бунтов относились административная неразбериха и голод, иногда на фоне крупных природных катаклизмов, например наводнений, вынуждавших множество крестьян покидать свои дома. В определенной степени наводнения были не только природными бедствиями, но имели политические и социальные истоки в повсеместном пренебрежении к плотинам и системе речного контроля.[150] Поскольку имперское правительство было неспособно защищать от мародеров местные сообщества, те брали оборону в свои руки, собирали со своего населения налоги и перенимали административные функции. В регионе восстания няньцзюней повстанцы возвели вокруг деревень земляные валы. В этой связи важную роль играли тайные общества, предлагавшие крестьянам помощь в самообороне, когда между деревнями возникали раздоры. Тем временем местные джентри получили контроль над местными военными силами. Центральному правительству пришлось направить одну местную армию против другой, открыто бунтовавшей, в итоге из-за этого компромисса еще более ослабив свою власть и авторитет. Эти два фактора – тайные общества и существование военных соединений, подконтрольных джентри, – превратили мятеж в нечто большее, чем бандитизм [Chiang, 1954, p. v—vii, Introduction].
Няньцзюни расширяли свою базу, занимая деревни, окруженные земляным валом, т. е. значительно изолированные от центральной правительственной власти. Они убеждали местную знать в необходимости сотрудничества, как правило предоставляя им власть, пока те были согласны на такие условия. Если в занятой ими области оставались чиновники, лояльные правительству, они подвергались публичному унижению. Следует заметить, что база повстанческой организации формировалась внутри клана. Только богатые и влиятельные семьи имели в своем распоряжении достаточную поддержку и клиентелу, чтобы их покровительство ценилось. Однако это еще не конец истории: клановая лояльность заложила основу аффективной привязанности крестьянства к своим вождям [Ibid., p. 38–41, 48, 113]. Хотя повстанцы по большей части действовали через господствовавшую социальную организацию, у них была своя рудиментарная экономическая и социальная программа. Они понимали, что облегчение участи голодающих крестьян было существенным фактором для того, чтобы заручиться их лояльностью; придавали особое значение производству пшеницы и ячменя в своих регионах. Борьба за урожай стала важной темой в сражениях на границах их территории [Ibid., p. 41]. Возможно, под влиянием тайпинов няньцзюни реализовали грубый вариант земельной реформы, разделив урожай поровну и ограничив власть крупных землевладельцев [Ibid., p. 37].
И здесь обнаруживаются пределы восстания при традиционной системе, которые преодолели лишь коммунисты, хотя и не без труда. Участие джентри в восстании и главенствующая роль этого класса ограничивали возможности реальных перемен. Более того, по сути система няньцзюней была хищнической, поскольку повстанцы захватывали продовольствие в рейдах по других областям, настраивая против себя тамошнее население [Ibid., p. vii, xii, xiii]. Это была война против самих себя. Легко понять, почему не все местные группы поддерживали повстанцев. Некоторые прибегали к «нейтральной самозащите», другие даже сражались на стороне империи [Ibid., p. 90]. Сходные факторы действовали и в случае тайпинов. Поначалу жители во многих областях считали их лучше имперских правителей. Но после того, как мятежники показали свою неспособность осуществить реальное улучшение, и, возможно, после того, как налагавшиеся ими повинности становились все более обременительными в борьбе против правительства, они потеряли большую часть народной поддержки [Hsiao, 1960, p. 183, 200–201, 483–484].
Долгое время имперские войска применяли против няньцзюней чисто военную политику, безуспешно пытаясь разрушить земляные валы. Но в итоге Цзэн Гофань, великий министр империи, несостоявшийся местный Бисмарк, одержал победу, прибегнув к тактике повстанцев. Он также работал с местными лидерами и предложил через них крестьянам конкретные выгоды: поддержку в обработке земли и шанс на мирную жизнь как раз тогда, когда они устали от беспорядков. Под конец многие уступили ради денег и перспективы получения продовольствия в правительственных войсках [Chiang, 1954, p. 101–107, 116–117]. Восстание, вспыхнувшее зимой 1852–1853 гг., окончательно завершилось в 1868 г. С точки зрения наших исследовательских задач одна из его наиболее поразительных черт заключается в том, что и повстанцы, и императорские власти в управлении местной социальной структурой сталкивались примерно с равными сложностями. «Организационное оружие», похоже, не играло решающей роли. Важнее были страдания крестьян. Обе стороны конфликта пытались манипулировать их лояльностью и в своих интересах способствовали ее смене, что определило моменты начала и окончания восстания.
Итак, рамка традиционного китайского общества не только поощряла восстание, но и серьезно ограничивала пределы того, что оно могло достичь. Восстание могло сместить прежнюю династию, после чего (как замечают китайские источники) летописцы представляли все предшествующие события в выгодном для новой династии свете [Hsiao, 1960, p. 484]. Либо оно могло превратиться в худшую форму насилия и постепенно сойти на нет после того, как императорские войска восстанавливали видимость порядка. Только когда влияние современного мира сломало эту суперструктуру указанным выше способом, стала возможной подлинная революция. Теперь необходимо понять, какое именно влияние оказало воздействие нового мира на то, что было в основании этой структуры, – на крестьянина.
В XIX в. встречались разрозненные, но безошибочные признаки ухудшения экономического положения крестьянства: заброшенные пашни, ветхие ирригационные системы, рост сельскохозяйственной безработицы. Хотя признаки бедственного положения крестьян появлялись практически во всех частях империи (возможно, на севере чаще, чем в других местах), региональное разнообразие Китая обусловливает наличие исключений при любых обобщениях. Одни провинции продолжали жить сытно и благополучно, тогда как другие страдали от недоедания и почти повального голода [Ibid., p. 396–407, 397]. После появления дешевого западного текстиля серьезный урон был нанесен крестьянским промыслам, которые были важным источником пополнения скудных ресурсов и шансом для применения лишней рабочей силы в паузах сельскохозяйственных циклов. В стандартных исследованиях, даже недавних, этому факту придавалось большое, порой преувеличенное значение. Вполне возможно, что крестьяне находили себе другие занятия: в антропологических исследованиях современных деревень часто подчеркивается значение ремесел как небольшого, но жизненно важного дополнения к крестьянскому быту [Crook, Crook, 1959, p. 4; Fei, 1948, p. 173–177]. В любом случае влияние этого события было серьезным во многих областях. Распространение опиума, поощрявшееся сперва Западом, а затем японцами, еще больше способствовало деморализации и нежеланию искать лучшей доли.
Тем временем в приморских городах и на берегах больших рек локальные деревенские рынки сменились крупными городскими и влияние рыночной экономики все глубже проникало в сельские районы. Рынок и деньги как институции существовали в Китае издавна. Эти перемены не принесли ничего совершенно нового. В 1930-е годы львиная доля произведенной продукции все еще оставалась в пределах города, где находился локальный рынок, в лучшем случае что-то достигало столицы округа (уезда) [Buck, 1937, p. 349]. Но постоянно возраставшая роль рынка привела ко многим социально-политическим сдвигам, которые в европейской истории случились на более ранней стадии. Когда рынок превратился в эффективную централизованную институцию, крестьянство оказалось неподготовленным к этой перемене и его рыночные позиции ухудшились. Не имея запасов и работая на грани своих возможностей, крестьяне часто принуждались продавать урожай сразу после сбора по заниженным ценам. В Китае, располагавшем весьма скудными возможностями транспортировки и хранения, сезонные колебания цен были предсказуемо колоссальными. Крестьянская нищета играла на руку дилерам и спекулянтам, как правило состоявшим в сговоре с помещиками. Дилеры располагали большими запасами, обширными источниками информации и намного лучшими возможностями для проведения сделок, чем крестьяне. Иногда дилеры организовывались в гильдию, которая фиксировала цены и запрещала своим членам перебивать их друг у друга. С учетом этих обстоятельств нет ничего удивительного в том, что дилеры обычно получали от торговли бо?льшую выгоду, чем крестьяне [Tawney, 1932, p. 56–57].
Когда крестьяне залезали в долги, они занимали деньги, часто под достаточно высокие проценты. Если они не могли платить по своим долгам, им приходилось передавать землю в собственность помещику, после чего они оставались на ней работать на неопределенных условиях. Все эти процессы острее всего проявлялись в приморских провинциях. Здесь вспыхнуло крестьянское восстание 1927 г., которое, по мнению его исследователя Гарольда Исаакса, стало самым крупным со времени «длинноволосых» тайпинов [Isaacs, 1951, p. 221; Tawney, 1932, p. 74; Lang, 1946, p. 64, 178].
С учетом связи между землевладением и социальной сплоченностью, возможно, наиболее важным аспектом рассматриваемых изменений было увеличение массы крестьян-маргиналов, находившихся на дне социальной иерархии в деревне. Локальные исследования нашего времени показывают, что их численность превышала половину жителей [Yang, 1959a, p. 41, 44–45, 61–64; Fei, Chang, 1948, p. 199, 300]. Нам пока неизвестно, насколько увеличился этот уровень по сравнению с XIX в. В то же время достаточно ясно, что такие люди представляли собой взрывоопасный материал [Hsiao, 1960, p. 395–396, 687–688 (n. 84)]. Их маргинальность имела не только физический смысл (существование на грани голода), но и социологический: лишение собственности означало, что их связи с господствующим порядком неуклонно ослабевали. На самом же деле их связь со своей деревней была, вероятно, еще более призрачной, чем можно заключить на основании антропологических исследований, которые проводились в областях, где все-таки действовали закон и порядок. Однако обширные части страны уже пребывали в активном революционном движении либо находились под контролем бандитов. Таким образом, массовой опорой революции, вспыхнувшей в 1927 г. и увенчавшейся победой коммунистов в 1949 г., было малоземельное крестьянство. Ни в Китае, ни в России не было многочисленного сельскохозяйственного пролетариата, работавшего на современных капиталистических латифундиях, который и стал главной опорой деревенских восстаний в Испании, на Кубе и в ряде других стран. Но ситуация отличалась и от Франции 1789 г., где, несмотря на большое число безземельных крестьян, революцию на селе подняла высшая крестьянская страта, впоследствии ее и завершившая, когда возникли признаки того, что революция рискует зайти дальше подтверждения прав собственности и уничтожения феодального наследия.
Массовая бедность и эксплуатация сами по себе недостаточны для возникновения революционной ситуации. Должно распространиться ощущение несправедливости социальной структуры, после того как будут предъявлены новые требования к угнетенным либо старые требования уже не воспринимаются как оправданные. Упадок высших классов китайского общества добавил в прежнюю ситуацию этот необходимый ингредиент. Джентри потеряли свой raison d’ ?tre, превратились просто в помещиков-узурпаторов. Конец экзаменационной системы стал для них и для поддерживавшей их конфуцианской системы концом легитимации. Сомнительно, что крестьяне ее вообще когда-либо признавали. Как заметил Макс Вебер, религией масс была комбинация даосизма и магии, более подходившая для их нужд. Тем не менее некоторые конфуцианские идеи распространялись при содействии клана. В любом случае авторитет, придававший представителям прежних правящих классов чувство уверенности среди крестьян, большей частью исчез. Вакуум, возникший после коллапса прежней правящей страты, заполнялся всякого рода теневыми элитами, рэкетирами, гангстерами и т. д. В отсутствие сильной центральной власти частное насилие стало неподконтрольным и превратилось в важный инструмент, с помощью которого помещики продолжали эксплуатацию крестьян. Многие помещики перебрались в город, где они чувствовали себя в большей безопасности. Оставшиеся на селе превратили свои резиденции в крепости и собирали долги и ренту под дулом пистолета [Yang, 1959a, ch. 7; Crook, Crook, 1959, ch. 2]. Конечно, не все помещики были такими. Весьма возможно, что так вело себя незначительное меньшинство, хотя, судя по антропологическим исследованиям, к ним относились самые богатые и влиятельные из местных помещиков. Патриархальные отношения продолжали существовать наряду с грубой и неприкрытой эксплуатацией. Это было достаточно распространенным явлением, создававшим во многих частях Китая потенциально взрывоопасную ситуацию, которая давала шанс коммунистам. Стоит заметить, что в Индии аналогичного упадка высших классов пока что не случилось.
Наличие революционной ситуации еще не означает, что пожар должен неминуемо вспыхнуть. Консервативная полуправда о том, что «внешние агитаторы» затевают мятежи и делают революцию (полуправда, ставшая ложью, поскольку она игнорирует условия, способствовавшие успеху агитации), в Китае в значительной мере подтверждается фактами. Среди многочисленных историй о деревенской жизни мне не встретилось ни единого указания на то, что крестьяне приблизились к спонтанной самоорганизации либо к какому-либо поступку, направленному на решение своих проблем. Представление о том, что крестьянские деревни открыто бунтовали еще до появления коммунистов на исторической арене, не согласуется с обширным корпусом свидетельств полевых антропологических исследований.[151] Те, кто больше не мог терпеть свое бедственное положение, скорее всего покидали родную деревню, во многих случаях присоединяясь к бандитам либо к милитаристским армиям, а со временем и к постоянно увеличивавшимся силам коммунистов. Внутри прежней рамки китайской деревни почти не происходило никаких спонтанных усилий что-либо изменить. Как и при маньчжурах, крестьяне нуждались во внешнем руководстве, чтобы активно выступить против господствующей социальной структуры. Если ограничиваться только деревней, то ситуация определенно могла и далее ухудшаться, пока наконец большинство жителей просто бы не умерли при следующем голоде. Именно так много раз и происходило.
Эти замечания совсем не предполагают, что китайские крестьяне были от природы недалекими, лишенными инициативы и смелости. Поведение революционных армий, даже за вычетом всей пропаганды и революционной героики, доказывает прямо противоположное. Это означает попросту то, что до последнего момента во многих областях щупальца старого порядка сжимались вокруг отдельного человека с достаточной силой, чтобы помешать ему действовать на свой страх и риск, а нередко – даже задумываться о подобных действиях. Недостаток сплоченности в китайской деревне, рассматривавшийся выше в связи с другим вопросом, возможно, сыграл на руку коммунистам, обеспечив постоянный приток пополнения в занятые ими районы. Он также, вероятно, облегчил их задачу разрушения и изменения прежней структуры деревни. Для надежной оценки требуется более точная информация. Каким бы шатким ни был старый порядок, он не исчез благодаря спонтанным действиям внутри самой деревни. То же самое, конечно, происходило во всех крупных революциях современности.
Даже само по себе появление Коммунистической партии Китая на исторической арене, уже отмеченной знаками бедствия и упадка, не оказалось достаточным для того, чтобы вызывать фундаментальные перемены. Партия была основана в 1921 г. Тринадцать лет спустя коммунистам пришлось оставить свой главный территориальный плацдарм в провинции Цзянси и отправиться в знаменитый Великий поход в отдаленный Яньань. Их шансы, по суждению некоторых историков, в этот момент были крайне низкими. Единственное, что они доказали, – свою невероятную способность к выживанию: пять крупных военных наступлений Чан Кайши в период между 1930 и 1933 гг. не смогли их уничтожить. Но коммунистам не удалось расширить свою территориальную базу или приобрести значительное влияние за пределами областей, находившихся под их прямым контролем.
В какой-то мере неудачи коммунистов вплоть до этого момента объяснимы ошибочностью их стратегии. Только в 1926 г. они начали проявлять сколько-нибудь серьезный интерес к использованию крестьянства в качестве опоры революционного движения [Ch’en, 1965, p. 107–108]. После разрыва с Чан Кайши в 1927 г. партия все еще пыталась прийти к власти через революционный подъем городского пролетариата, что обернулось катастрофическими и кровавыми последствиями. Хотя отказ от этого элемента марксистской ортодоксии и принятие маоистской стратегии опоры на крестьянство сыграли существенную роль, для успеха потребовалось нечто большее.[152] Прежде всего следовало смягчить позицию по отношению к зажиточным крестьянам, – эта политика была принята только в 1942 г., хотя некоторые намеки на нее возникали намного раньше.[153] Но какими бы важными ни были все эти изменения, вряд ли они одни позволили бы коммунистической революции одержать победу. Решающим фактором стала японская интервенция и оккупационная политика иностранных завоевателей.
В ответ на японскую агрессию гоминьдановские чиновники и помещики покинули сельские области и переехали в города, предоставив крестьян самим себе. Затем периодические рейды по зачистке и уничтожению, проводившиеся японской армией, сплотили крестьянство в единую солидарную массу. Таким образом, японцы выполнили за коммунистов две важнейшие революционные задачи: устранение прежних элит и усиление солидарности среди угнетенных [Johnson, 1962, p. 48–60, 70, 110, 116–117]. Одно свидетельство от противного выступает серьезным доводом в пользу этого на первый взгляд парадоксального вывода. Там, где японцы либо их марионетки гарантировали крестьянам некоторую защиту, партизанские отряды не были сформированы. Более того, коммунисты оказались не способны создать повстанческие базы в регионах, не имевших опыта прямого контакта с японской армией [Ibid., p. 66–67, 146].
Хотя фактор японской оккупации важен, его нужно рассматривать в должной перспективе. Конечно, глупо трактовать взаимодействие между противоборствующими сторонами как своего рода дьявольский сговор между японцами и коммунистами. Обстоятельства благоприятствовали коммунистам, наращивавшим преимущество над японцами и гоминьдановцами, продемонстрировавшими серьезную тягу к коллаборационизму и, разумеется, совершенно не желавшими того, чтобы война переросла в социальную революцию [Ibid., p. 120]. Война обострила революционную ситуацию и привела к социальному взрыву. С точки зрения китайского общества и политики война была случайностью. С точки зрения взаимной игры политических и экономических сил во всем мире она была далеко не делом случая. Как и при анализе победы большевиков в России, которую некоторые историки трактуют как побочный итог Первой мировой войны, неизбежная исследовательская необходимость изоляции отдельных контролируемых сегментов истории приводит к утверждению частных истин, которые оказываются заблуждением и даже ложью, если впоследствии эти промежуточные заключения не поместить обратно в подходящий для них общий контекст.
Мы можем завершить это рассуждение несколькими замечаниями о том, как коммунисты воспользовались линиями раскола в деревне, чтобы уничтожить остатки старого порядка. По счастью, у нас есть два хороших исследования о различных деревнях на севере и на юге в период прихода коммунистов к власти, которые показывают последовательные стадии и проблемы, возникавшие в этом процессе.
Северная деревня была в пограничном регионе Шаньси – Хэбэй – Шандунь – Хэнань, где коммунисты сумели закрепиться и успешно сочетать классовую борьбу с национальным сопротивлением японским захватчикам. Поскольку местные богачи, включая последних представителей гоминьдановской администрации, сотрудничали с японцами ради спасения своей собственности, коммунисты получили важное преимущество, совместив свою социальную программу, на тот момент весьма умеренную, с борьбой против иностранных захватчиков. Шаг за шагом они смогли внедрить в деревнях свою политическую организацию под фундаментом господствующей системы. Тем самым они сочетали программу, обеспечивавшую выгоды многочисленным крестьянам-беднякам, с тем, что взвалили бремя расходов на более обеспеченных. Эта программа отменяла сборы, ранее поступавшие в карманы гоминьдановцев, и распределяла новые обязательства по организации тыловой поддержки в приблизительном согласии с платежеспособностью. Возник новый лозунг: «богатые – богатство, трудящиеся – труд». Решающий момент приблизился, когда японцы стали угрожать ввести налог на деревню. Поставив вопрос о том, стоит ли платить налог по японской единой ставке или по коммунистической системе, перекладывавшей бремя на богачей, коммунистам впервые удалось вбить клин между деревенскими богачами и бедняками. В то же время коммунисты убеждали крестьян прятать зерно под землей и готовиться к эвакуации из этой местности. Поскольку богачи этого не сделали, то в какой-то момент поняли, что японцы придут и отнимут у них зерно. Поэтому они согласились с предложением коммунистов. Важность этого эпизода заключается в том, как коммунисты, подобно революционерам прошлого, смогли заставить целые деревни и регионы перейти на свою сторону и признать свою власть, а также в указании на то, как японцы помогли коммунистам выковать новую солидарность. Однако коммунисты пошли намного дальше. Хотя они прибегали порой к услугам прежней скомпрометированной администрации, они создали новые организации среди бедных крестьян и даже среди женщин, самой угнетенной группы китайского общества. Но самое главное, как показала организация кооперативов, а также многие другие факты, своей программой местной экономической самодостаточности они продемонстрировали крестьянам конкретные альтернативы подчинению и голодной смерти. Крупная земельная реформа могла подождать. Когда подошло ее время, она уже сочеталась с местью коллаборационистам и бывшим угнетателям. Знакомство с этой историей помогает понять революционный порыв, стоявший как за сопротивлением японской агрессии, так и за победой коммунистов над Гоминьданом [Crook, Crook, 1959, ch. 1–5, p. 31–37].
Спустя несколько лет коммунистическая революция пришла в Нанкин, небольшую деревушку рядом с Гуанчжоу, но не в виде помощи в борьбе с японцами, а сверху. Страшный взрыв, устроенный отступающими войсками националистов, уничтожил мост через реку Чжуцзян, потряс окна деревенских домов и возвестил о конце прежней власти. Через несколько дней в деревню прибыл хорошо вооруженный отряд солдат-коммунистов, которые развесили объявления, сообщавшие о смене политического режима и приказывавшие представителям прежней администрации оставаться на своих местах, пока их обязанности и документы не перейдут к новой власти. Через десять месяцев, в течение которых почти ничего не произошло, появились ответственные за проведение земельной реформы, трое мужчин и одна женщина, все в возрасте около 20 лет, скрывавшие свое городское происхождение «под грязной серой униформой и сознательным намерением подражать крестьянскому образу жизни» [Yang, 1959a, p. 167, 134].[154]
Начавшись, процесс разрушения старого порядка и реализации предварительных мер на пути к созданию нового порядка стремительно набирал ход под руководством правительства. По сути перемены сводились к изъятию земли у богачей и передаче ее беднякам. «Общая стратегия была в том, чтобы объединить бедных крестьян, сельскохозяйственных рабочих и крестьян-середняков для нейтрализации сопротивления зажиточных крестьян и изоляции помещиков» [Ibid., p. 133]. Результат оказался несколько иным. Хотя коммунисты использовали категории, хорошо отвечавшие социальным реалиям в деревне, главным следствием этой политики стала общая неопределенность, даже среди беднейших крестьян, прямых выгодоприобретателей этих мер, которые, как и все остальные, не были уверены в том, что новый порядок сохранится надолго. До этого скрытая ненависть возникала между двумя крайними группами: богатыми жестокими помещиками-эксплуататорами и их арендаторами. При новой системе вся деревня методично делилась на части, настроенные одна против другой [Ibid., p. 148].
Один аспект заслуживает специального упоминания, поскольку проливает свет на порядок докоммунистической эры и на тактику коммунистов. Земля выделялась не отдельной семье как целому, но каждому отдельному человеку на равных основаниях, независимо от возраста и пола. Таким образом коммунисты разрушили прежний деревенский строй в самом его основании, уничтожив связь между земельной собственностью и родством. Устранив экономическую основу родственных уз или по крайней мере значительно их ослабив, коммунисты создали серьезные причины для вражды по линиям классового различия, а также возраста и пола. Лишь после того, как они это сделали, борьба крестьян против помещиков, арендаторов против собирателей ренты, жертв против локальных тиранов стала открытой и ожесточенной. Финальным аккордом стали обвинения, предъявленные молодежью старшему поколению. Даже в этом случае обнаружились жестокие противоречия [Yang, 1959a, p. 178–179].
Коммунистический режим выковал новую связь между деревней и центральным правительством. Каждому крестьянину стало очевидно, что его повседневная жизнь зависит от общенациональной политической власти. Согласно подсчетам Янга, через эту связь коммунисты выжали из деревни даже больше, чем до них удавалось помещикам-рантье и Гоминьдану. Однако новое и большее по объему бремя было распределено равномернее, чем прежде [Ibid., p. 174–175, 158–159]. Все эти изменения были временными и переходными. Разрушение старого порядка, создание новой связи с правительством, извлечение большего объема ресурсов из крестьянского труда – все это могло быть лишь предварительными шагами для решения базовой проблемы всестороннего увеличения экономического производства в окружении вооруженных и противоборствующих держав. Эта часть истории выходит за рамки данной книги. В Китае, даже в большей степени, чем в России, крестьяне обеспечили накопление взрывоопасного материала, уничтожившего в итоге старый порядок. Они вновь стали главной движущей силой в успехе политической партии, поставившей своей целью путем безжалостного террора достичь той якобы неизбежной фазы истории, когда крестьянство должно было прекратить свое существование.