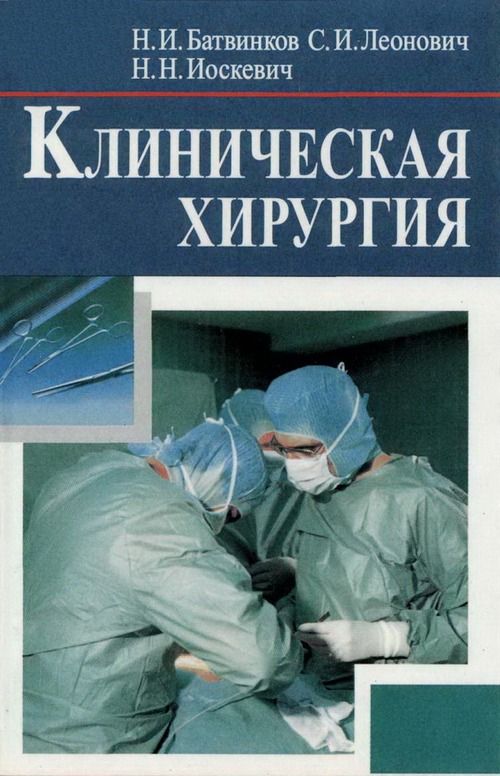2. Джентри и мир коммерции
Имперское китайское общество так и не породило городской класс торговцев и владельцев мануфактур, сравнимый с тем, что возник на поздней стадии феодализма в Западной Европе, хотя временами некоторые подвижки в этом направлении происходили. Успех империи в деле объединения страны можно указать в качестве одной из самых очевидных причин этого различия. В Европе конфликты между папой и императором, королями и нобилями помогали городским торговцам преодолевать каркас традиционного аграрного общества, поскольку они были ценным ресурсом в этой многосторонней борьбе за власть. Стоит заметить, что в Европе прорыв начался с Италии, где феодальная система была в целом слабее (см.: [Pirenne, 1951, p. 365–372]).[125] Китайская экзаменационная система также отвлекала амбициозных людей от занятий коммерцией. Этот аспект ощутим в одном из последующих неудачных рывков к коммерческой экспансии в XV в. Один французский историк даже заводит речь о «крупной финансовой буржуазии», состязавшейся с джентри за лидерство в эту эпоху, но многозначительно уточняет, что эта новая буржуазия нацеливала своих детей на сдачу экзаменов [Masp?ro, Escarra, 1952, p. 131]. Другой историк высказывает интересное предположение, что распространение книгопечатания могло усилить всепоглощающие способности сословия мандаринов. Книгопечатание открыло для мелких торговцев возможность приобрести достаточный уровень книжной культуры, чтобы получить официальный пост. Хотя затраты на сдачу экзамена оставались серьезным препятствием, доступ к официальным постам несколько упростился. Автор приводит поразительное свидетельство привлекательности имперской службы. Некоторое число торговцев даже подвергло себя кастрации, чтобы стать евнухами и получить позицию, приближенную к трону. Добровольные кастраты пользовались особым преимуществом, поскольку они получили образование, недоступное для обычных евнухов (которые были главными соперниками ученых чиновников при дворе) [Eberhard, 1948, S. 280–282].
Заглядывая чуть глубже, можно быстро заметить, что стремление к наживе таило в себе опасность для ученых чиновников, потому что оно формировало альтернативную иерархию престижа и альтернативное основание легитимации высокого социального положения. Ни конфуцианские беседы, ни законы, ограничивающие расходы, не могли окончательно похоронить простую истину, состоявшую в том, что любой, кто зарабатывает много денег, может приобрести предметы роскоши, в том числе и солидную меру уважения. Если бы ситуация вышла из-под контроля, то вся приобретенная с большим трудом классическая культура оказалась бы бесполезной и излишней. За этим конфликтом культур и систем ценностей в истоке стояли сильные материальные интересы. Сама по себе традиция не была непреодолимым препятствием для развития коммерции; всякий, кто желал, находил для нее оправдание в конфуцианской классике [Chang, 1962, p. 154–155]. В любом случае в краткосрочной перспективе джентри были достаточно проницательны и следили за тем, чтобы ситуация оставалась управляемой. Они подвергали торговлю налогообложению и сами пользовались ее доходами либо вводили государственную монополию и сохраняли за собой наиболее доходные должности. Самой важной монополией была торговля солью. Чиновники относились к ней в основном эксплуататорски. Коммерция, как и земля, представляла собой нечто вроде дойной коровы для образованного высшего класса. Мы вновь убеждаемся в том, что имперская бюрократия была средством для выкачивания ресурсов из населения и передачи их в руки правителей, пристально следивших за тем, чтобы предупреждать любые события, угрожавшие их привилегиям.
С упадком имперского аппарата, обозначившимся еще до конца XVIII в., с неизбежностью ослабла и его способность поглощать и контролировать коммерческие элементы. Даже если бы имперская система сохранила свою мощь, она вряд ли могла бы сопротивляться новым силам, подтачивавшим ее, поскольку за этими силами стоял военный и дипломатический напор Запада, ослабевавший лишь в те периоды, когда алчность одной из европейских держав уравновешивалась жадностью ее соперников. Ко второй половине XIX в. традиционная власть ученых-чиновников прекратила действовать в приморских городах Китая. Там возникло новое гибридное общество, в котором власть и социальное положение больше не находились гарантированно в руках тех, кто получил классическое образование [Lattimore, 1960]. По окончании Опиумной войны в 1842 г. компрадоры появились во всех портах Китая, перечисленных в договоре. Эти люди оказывали целый ряд услуг в качестве посредников между слабеющим китайским чиновничеством и иностранными торговцами. Их положение было неоднозначным. Прибегая к сомнительным методам, они аккумулировали огромные состояния и наслаждались изысканным досугом. Однако многие китайцы видели в них прихвостней заезжих дьяволов, разрушавших основания традиционного общества[Wright, 1957, p. 84, 146–147; Levy, Shih, 1949, p. 24]. Начиная с этого момента большая часть социальной и дипломатической истории Китая становится перечнем правительственных усилий по ограничению амбиций такого гибридного общества и противоположно направленных усилий могущественных западных держав, спешивших воспользоваться имеющимся шансом в своих коммерческих и политических интересах.
Когда китайская промышленность весьма скромно начала свое развитие в 1860-х годах, оно проходило в тени провинциальных джентри, которые надеялись воспользоваться новой техникой в своих сепаратистских целях. Военные проблемы выступили на передний план, и первые заводы были исключительно военными начинаниями: арсеналами, военно-морскими верфями и т. п. На первый взгляд эта ситуация напоминала меркантилистскую эпоху в социальной истории Запада, когда правителей интересовали те формы промышленности, которые усиливали их власть. Но различия более существенны. Европейские правительства уже были сильны и еще больше усиливались. В Китае маньчжурская династия отличалась слабостью. Меркантилистская политика на манер Кольбера не годилась, потому что коммерческий и промышленный элемент был иностранным и неподконтрольным правительству. Основное национальное движение в сторону индустриализации исходило от провинциальных очагов власти и в очень малой степени от имперского правительства [Feuerwerker, 1958, p. 12–13; Levy, Shih, 1949, p. 27, 29]. Поэтому оно скорее было разобщающим, чем объединяющим фактором. Ради наживы коммерческие и промышленные элементы были готовы обратиться за поддержкой к любым политическим группам, обладающим реальной властью. Если это император, прекрасно, его власть будет расти. Но если это местный чиновник, то все будет наоборот. Марксисты придают преувеличенное значение тому, как западные империалисты душили развитие китайской промышленности. (Индийские националисты точно так же постарались превратить европейцев в козла отпущения.) Но все это случилось уже после того, как промышленный рост был остановлен внутренними силами.
Лишь к 1910 г. китайский деловой класс демонстрирует определенные признаки выхода из-под опеки и власти чиновников [Levy, Shih, 1949, p. 50]. Согласно одному недавнему исследованию, даже складывается впечатление, что к концу XIX в. китайские торговцы успешно продвигались к освобождению от иностранной зависимости [Allen, Donnithorne, 1954, p. 37, 49]. Тем не менее очень долгое время важнейшие области оставались в руках иностранцев. В целом местный коммерческий и промышленный импульс оставался слабым. Как говорят, на момент краха имперского режима в Китае было около 20 тыс. «фабрик». Из них лишь на 363 применялась механическая сила. В остальных случаях использовалась людская либо животная сила [Feuerwerker, 1958, p. 5].
Таким образом, наряду с Россией, Китай вошел в новую эпоху с небольшим по численности и политически зависимым средним классом. В отличие от Западной Европы здесь эта страта не выработала своей независимой идеологии. И все же она сыграла важную роль в ослаблении государства мандаринов и в формировании новых политических группировок в ходе его демонтажа. Усиление этого класса на побережье сочеталось с началом распада империи на региональные сатрапии, что в результате предопределило сочетание «буржуазной» и военных функций в момент наивысшей власти генералов (примерно с 1911 по 1927 г.) вплоть до эпохи Гоминьдана. Ранний пример (1870–1895) этого общего развития – Ли Хунчжан, который в течение 20 лет «продвигался к единоличному контролю над внешней политикой посредством господства над доходом приморской таможни, монополии на производство вооружения и полного контроля над военными силами в северной половине империи» [Feuerwerker, 1958, p. 13]. Кроме того, постепенно происходило субстанциальное сращивание слоев джентри (а позже помещиков, которые им наследовали) и городских лидеров торговли, финансов и промышленности [Levy, Shih, 1949, p. 50; Lang, 1946, p. 97]. Эта амальгама обеспечила главную социальную опору Гоминьдана как попытки реанимировать существо императорской системы, т. е. осуществить политическую поддержку системы крупного землевладения посредством комбинации специфического китайского бандитизма и показного псевдоконфуцианства, обнаруживающей любопытные черты сходства с западным фашизмом. Эта комбинация возникла в значительной степени из-за неспособности джентри перейти от доиндустриальных к коммерческим формам сельского хозяйства. Причины этой неудачи станут теперь предметом нашего внимания.