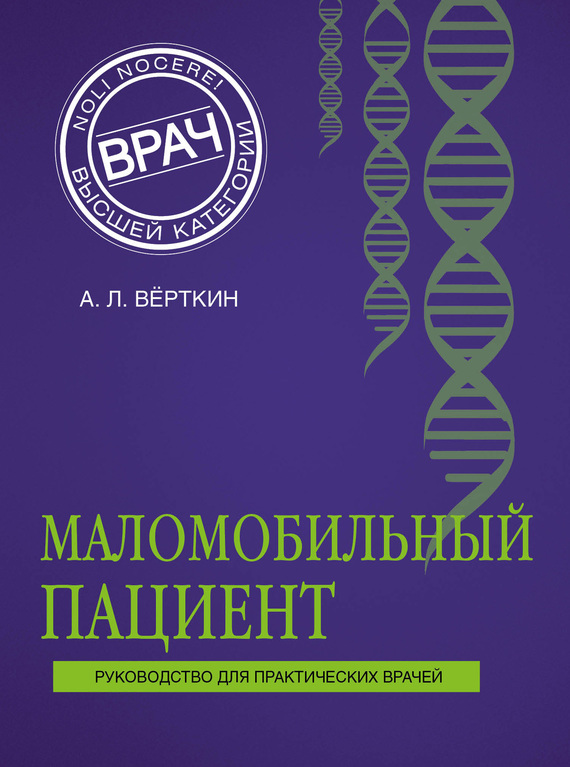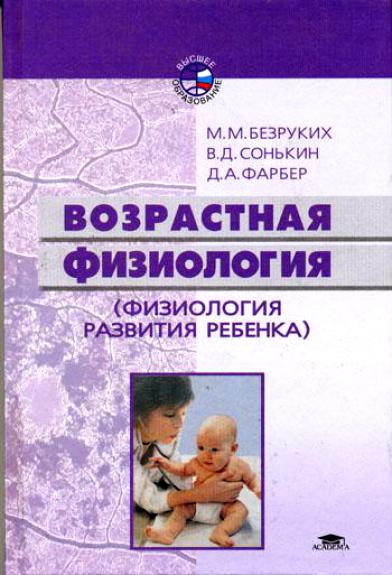4. Политические последствия: природа японского фашизма
Для наших целей политическую историю современной Японии в период после Реставрации можно разделить на три основных этапа. Первый, характеризуемый провалом аграрного либерализма, завершился в 1889 г. принятием формальной конституции и введением некоторых внешних атрибутов парламентской демократии. Второй заканчивается после неудачи демократических сил преодолеть препоны, возведенные этой системой, – это становится вполне очевидно с наступлением Великой депрессии в начале 1930-х годов. Неудача 1930-х годов дает начало новому этапу военной экономики и японской версии правого тоталитарного режима. Очевидно, такое деление содержит элемент произвола. Но оно выполнит свое предназначение, если позволит обратить внимание на ключевые события.
Как читатель, возможно, помнит, «либеральное» движение возникло из феодальной и шовинистской реакции самураев, разочарованных итогами Реставрации Мэйдзи. Вопреки такому происхождению, движение все-таки может претендовать на имя либерального, поскольку оно требовало более широкого участия общества в политике через дискуссии и голосование, чем было готово допустить правительство Мэйдзи.
Экономически эта группа, объединенная лозунгом «Свобода и права народа», из которой возникла Либеральная партия (Дзиюто), по-видимому, выросла из выступлений мелких помещиков против господства аристократической и финансовой олигархии Мэйдзи. Норман возводит их либеральные устремления к тому факту, что многие помещики в 1870-х годах одновременно были мелкими торговыми капиталистами, производителями саке, соевой пасты и т. п. [Norman, 1940, p. 169–170]. Я отношусь скорее скептически к надуманной связи между пивоварней и демократией и считаю это тем редким случаем, когда Норман некритически применяет европейские аналогии и марксистские категории. Поражение японского демократического движения в 1870–1880-х годах было не в том, что слабый класс капиталистов бросился в объятия феодальной аристократии, поскольку нуждался в ней для защиты от рабочих, обменяв, по словам Маркса, право властвовать на право зарабатывать. Япония не была Германией, по крайней мере на тот момент.
Национальная проблема, если взглянуть на нее с позиции правительства Мэйдзи, состояла в примирении высших аграрных классов с новым порядком [Ike, 1950, p. 173]. Правительство хотело развивать торговый флот, военные поставки и тяжелую индустрию, но все это означало увеличение налогов на землю. Поэтому на первом собрании Дзиюто в 1881 г. был высказан протест против налогов, направленных на увеличение расходов на флот [Scalapino, 1953, p. 101]. Поскольку эта группа осознавала, что главные плоды Реставрации пожинают другие, в особенности те, кто были вхожи в правительство, она стремилась расширить базу своих сторонников, рассчитывая даже на крестьян. Но как только помещики обнаружили, что радикальные требования крестьян противоречат интересам землевладельцев, Дзиюто распалась и потерпела неудачу. Эта левая по меркам своего времени партия была распущена в 1884 г., так и не став по-настоящему радикальной группой, что в то время было практически невозможно.
Так завершился первый японский проект организованного политического либерализма. Движение возникло в среде помещиков, которые предали его сразу же, как только осознали, что оно вызывает волнения среди крестьян. Таким образом, вопреки утверждениям ряда авторов, оно никак не могло быть попыткой, пусть и неполноценной, со стороны городских коммерческих классов приблизиться к «буржуазной демократии» [Scalapino, 1953, p. 96–107; Ike, 1950, p. 68–71, 88–89, 107–110].
Во время краткого периода «либерального» оживления правительство Мэйдзи без колебания применяло репрессивные меры. Уже в 1880 г., как только появились признаки зарождения политических партий, вышло постановление, в котором говорилось, что «никакая политическая ассоциация… не имеет права призывать на свои лекции или дебаты, убеждать людей вступать в свои ряды через своих представителей или выпускать агитационные проспекты и вступать в общение с другими подобными обществами» (цит. по: [Scalapino, 1953, p. 65]). Правда, последующая деятельность Дзиюто показывает, что контроль за соблюдением этого закона отсутствовал. С точки зрения правительства, крестьянские бунты 1884–1885 гг. были куда важнее. Хотя, как мы видели, некоторые из этих выступлений приобрели характер маленькой гражданской войны, они плохо координировались и вскоре потерпели неудачу. Опираясь на новую полицию и регулярную армию, правительство оказалось способно подавить их без большого труда [Ike, 1950, ch. 14].
В 1885 г., на следующий год после роспуска Дзиюто, экономические условия начали улучшаться. Казалось, время на стороне правительства. Тем не менее когда появились признаки оживления политической активности, правительство попыталось еще раз погасить пламя посредством печально известного «Закона о поддержании мира» от 25 декабря 1887 г., составленного в том числе начальником столичного бюро полиции под контролем генерала Аритомо Ямагата, наиболее влиятельной фигуры периода окончания правления Мэйдзи. Основное положение этого закона позволяло полиции удалять всякого живущего в радиусе семи миль от императорского дворца по обвинению в «планировании угрозы для общественного порядка». Воспользовавшись этим, генерал Ямагата насильно удалил из центра около 500 человек, включая почти всех лидеров оппозиции. Перед этой операцией полиция получила секретное указание уничтожать всех, кто окажет сопротивление. Несмотря на это, по крайней мере один важный лидер оппозиции, Сёдзиро Гото, продолжал выступать с речами по всем сельским регионам, и в итоге он замолчал после того, как ему был предложен пост министра связи через несколько дней после опубликования конституции [Ike, 1950, p. 181, 185–187].
Главная черта правительственной стратегии, таким образом, проясняется. Это было сочетание прямых полицейских репрессий, экономической политики, направленной на смягчение некоторых очагов недовольства без ослабления позиций правящей группы, и, наконец, обезглавливания оппозиции через предложение ее лидерам привлекательных постов в администрации Мэйдзи. За исключением разве что некоторых стилистических особенностей в деталях реализации или в риторике публичных заявлений, в этой политике не было ничего специфически связанного с японской культурой. Ее содержание, очевидно, то же самое, что ожидается от любого рационально мыслящего консервативного правителя в сходных обстоятельствах.
Некоторое время эта политика была успешной. Вряд ли она могла противостоять какой-нибудь энергичной и объединенной оппозиции, решительно добивающейся модернизации общества демократическими средствами – так сказать, на английский манер. Однако такая оппозиция едва ли могла появиться в специфических условиях японского общества той поры. Промышленный рабочий класс находился в зачаточном состоянии; крестьяне, хотя и являлись опорой оппозиции, были относительно слабыми и разобщенными; коммерческие классы едва высвободились из-под опеки феодальной аристократии. Конституция, дарованная сверху в 1889 г., отразила этот баланс социальных сил. Скрепив его печатью имперской легитимности, она помогла зафиксировать и продлить его существование.
Нет нужды подробно описывать всю внутреннюю политику вплоть до Первой мировой войны. Хорошо известно, что парламентский контроль над финансовыми расходами при новой конституции был строго ограничен. Армия обладала необычайной мощью, но ее доступ к трону объяснялся ее сильными позициями в японском обществе, а не наличием автономного центра власти. В итоге правительство ушло в отставку не потому, что проиграло выборы, итогами которых можно было манипулировать, но в результате утраты к нему доверия со стороны важных сегментов национальной элиты: аристократов, бюрократов и военных [Scalapino, 1953, p. 206; Reischauer, 1939, p. 98]. Отставка Ито в 1901 г. ознаменовала закат гражданского крыла олигархии. А после его убийства в 1909 г. в японской политике вплоть до своей смерти в 1922 г. доминировал солдат Ямагата [Reischauer, 1939, p. 121, 125].
Для наших целей более интересны некоторые интеллектуальные течения, привлекшие внимание помещиков, когда рассеялся их умеренный энтузиазм по поводу парламентского правления. Движение, известное как нохонсюги (буквально «сельское хозяйство – это основа»), популярность которого сохранялась вплоть до 1914 г., было любопытным сочетанием синтоистского национализма, веры в уникальность исторической миссии Японии, а также, как сказали бы на Западе, физиократических воззрений. Существенной в этом сочетании была «мистическая вера в духовные ценности сельской жизни и…дидактический акцент на красотах японской семейной системы и патернализма, на добродетелях бережливости, благочестия, упорного труда, смирения и преданности своему долгу, которые составляли традиционное учение патерналистской помещичьей дидактики» [Dore, 1959, p. 56–57].
Патриотическое воспевание крестьянских добродетелей, в особенности тех из них, которые были выгодны высшим классам землевладельцев, – это характерная черта аграрных обществ, столкнувшихся с натиском капитализма. В Японии сохранение важности аграрного вопроса в период индустриализации сделало этот реакционный патриотизм более востребованным, чем в других странах. Нохонсюги представляло собой лишь одну фазу более широкого движения, предтечи которого обнаруживаются среди ведущих мыслителей эпохи Токугава. К его историческим последствиям относятся деятельность приверженцев движения «Молодые офицеры», убийства и попытка государственного переворота, которая внесла вклад в подготовку тоталитарного режима в 1930-х годах [Ibid., p. 57].
В первые десятилетия эры Мэйдзи движение нохонсюги, несмотря на его веру в уникальность Японии, сыграло некоторую роль в организации крупномасштабного капиталистического фермерства в стране. Как мы видели, эти усилия закончились провалом в основном потому, что японским помещикам было выгоднее сдавать землю в аренду мелкими долями, чем обрабатывать ее самостоятельно [Ibid., p. 58–59].
Отношение движения к крестьянству было более важным, хотя никаких конкретных результатов также не последовало, поскольку эти процессы затерялись на фоне общего бюрократического и индустриального настроя после Первой мировой войны. Любое сокращение числа мелких фермеров – даже тех, что имели жалкую половину тё земли, – отвергалось с порога. «Декан» идеологов нохонсюги в 1914 г. эмоционально выступал против деморализации, распространяющейся по сельской местности, поскольку крестьяне начинают покупать лимонад, зонтики и сабо, а молодежь начинает носить шляпы как у Шерлока Холмса. Сегодня мы воспринимаем с иронией эту японскую версию полковника Блимпа. Но у правительства и промышленников были достаточные причины для поддержки таких идей. Они считали, что стабильные крестьянские семьи поставляли верных солдат и служили надежной защитой от подрывной деятельности. Большое количество таких семей позволяло ограничивать рост зарплат, что, в свою очередь, стимулировало экспорт и облегчало создание индустриальной базы в Японии [Dore, 1959, p. 60–62].
Приведенные факты еще раз говорят о том, что материальные интересы были связаны с аграрными и промышленными. Для таких совокупных интересов движение нохонсюги, в своей умеренной версии едва ли отличимое от «нормального» японского патриотизма и культа императора, обеспечивало пригодную легитимацию и рационализацию. В свете актуальной тенденции воспринимать эти идеи всерьез необходимо вновь подчеркнуть, что они были всего лишь рационализацией [Benedict, 1946].[191] Их влияние на политику оказалось ничтожным. Когда пришло время сделать что-то конкретное для блага крестьян и арендаторов, являвшихся основным субъектом сентиментального морализаторства, помещичьи круги в парламенте довольно быстро преградили этому путь. Гражданский кодекс 1898 г. давал защиту арендаторам по важным вопросам, но в сферу его применения попадал лишь 1 % арендуемой земли. По заключению Дора, «подавляющее большинство простых арендаторов не имело никакой защиты» [Dore, 1959, p. 64].
В результате Первой мировой войны баланс сил в японском обществе изменился в ущерб деревенской элите. Война стала периодом ускоренного роста промышленности, а 1920-е годы стали кульминацией как в истории развития японской демократии, так и по степени влияния бизнеса на политику. Генерал Ямагата умер в 1922 г. За несколько лет после этого власть заметным образом перешла из рук военных к коммерческим классам и парламенту [Allen, 1946, p. 99]. Симптомом изменений в политическом климате стал тот факт, что после Вашингтонского договора о морском разоружении 1922 г. некоторые подконтрольные бизнесу газеты даже выступили с призывом «отстранить армию от политики» [Tanin, Yohan, 1934, p. 176]. Ряд исследователей считают, что влияние парламента достигло своего пика при ратификации Лондонского морского договора 1930 г. (см., напр.: [Colegrove, 1936, p. 13–14]). Вскоре после этого экономическая депрессия положила конец подобным надеждам.
Связь между развитием бизнеса и становлением парламентской демократии, а также между экономической депрессией и неудачей в установлении конституционной демократии была несомненно важной, но ею не исчерпывается суть этой ситуации. Депрессия просто стала coup de grace для структуры, которая и без того страдала от серьезных недостатков. Немногие избранные пользовались благами японского капитализма, но его темные стороны были очевидны почти всем.[192] Капитализм еще не распределил свои материальные выгоды (а в тех условиях скорее всего и не мог это сделать) таким образом, чтобы обеспечить массовую народную поддержку капиталистической демократии. Хотя формы зависимости японского капитализма от государства менялись в разные исторические периоды, ему так никогда и не удалось освободиться от помощи государства, выступавшего покупателем продукции и защитником рынков. При капитализме отсутствие сильного внутреннего рынка включает механизмы самосохранения, поскольку бизнес открывает для себя иные возможности заработка. Наконец, возникнув в совершенно иных условиях, японский капитализм никогда не стал таким же стимулом для развития демократических идей, как европейские коммерческие и промышленные круги XIX в.
Во время этой относительно демократической фазы помещичьи круги, хотя и демонстрировали некоторые признаки упадка, сохранили свое политическое влияние и оставались фактором, с которым были вынуждены считаться коммерческие и промышленные группы. Вплоть до введения всеобщего избирательного права для мужчин в 1928 г. сельские помещики контролировали большинство голосов в обеих главных парламентских партиях [Scalapino, 1953, p. 183; Dore, 1959, p. 86]. Аграрные круги в 1920-е годы также играли активную роль в деятельности разнообразных протофашистских и антикапиталистических движений. В определенной мере правительственные чиновники поощряли эти движения и принимали в них участие, что в перспективе едва ли было обнадеживающим знаком. Однако в то время аграрный патриотический экстремизм все еще не был способен обеспечить себе значительную массовую поддержку [Scalapino, 1953, p. 353, 357, 360, 361].
Тем не менее патриотический экстремизм был важной политической силой даже в этот период. В первые годы после Первой мировой войны как сельский, так и городской радикализм порой переходили грань насилия. Патриотические организации помогали бороться с забастовками арендаторов и рабочих, а наемные боевики громили офисы профсоюзов и либеральных газет [Reischauer, 1939, p. 138, 140]. Правительство ответило кампанией министра образования, направленной против «опасных умонастроений», адресатом которой в основном было студенчество. В апреле 1925 г. правительство провело «Закон о поддержании мира» (намного более конкретный, чем аналогичный закон от 1887 г.), согласно которому тюремное заключение ожидало всякого вступающего в сообщества, целью которых было изменение системы или отмена частной собственности. Этот закон впервые в Японии вводил политику массовых тюремных заключений [Ibid., p. 143–144].
Один эпизод 1923 г. хорошо иллюстрирует, как патриотический экстремизм отравлял политическую атмосферу той поры. Токийское землетрясение в сентябре этого года стало поводом для арестов тысяч жителей столицы, в основном социалистов. Капитан жандармерии собственными руками задушил видного пролетарского вождя, а также его жену и семилетнего племянника. Хотя чиновник по суду трибунала получил десять лет тюрьмы, экстремистские газеты называли его национальным героем [Ibid., p. 140–141]. По всей видимости, целый аппарат устрашения, отчасти подконтрольный правительству, отчасти дезорганизованный и «спонтанный», был необходим для репрессий против широких слоев населения, которое, по мнению ряда авторов, мыслило в духе «феодальной лояльности» к своему начальству.
Какой бы ни была парламентская демократия в Японии, Великая депрессия начала 1930-х годов нанесла ей сокрушительный удар. Однако это случилось не так драматично, как в Веймарской республике. В отличие от Германии в политической истории Японии намного сложнее провести резкую черту между демократической и тоталитарной фазами.[193] Одна из пограничных линий, нередко используемых историками, – это оккупация Маньчжурии в 1931 г. Во внешней политике ей соответствует изменение позиции японского правительства на Лондонской морской конференции 1930 г. Во внутренней политике специалисты отмечают такие значимые события, ознаменовавшие окончание гегемонии политиков, как убийство премьер-министра Инукаи и попытка переворота, предпринятая правыми радикалами 15 мая 1932 г. [Ibid., p. 157; Scalapino, 1953, p. 143]. Убийство Инукаи весьма характерно для японской политики того времени, поэтому на нем стоит кратко остановиться.
В 1932 г. небольшая группа молодых крестьян, возглавляемая буддийским священником, поклялась уничтожить «правящую клику», ответственную за страдания японской деревни. Они составили список фигур из мира бизнеса и политики, и с помощью жеребьевки каждому члену группы досталась своя жертва. Прежде чем заговор раскрыли, были убиты бывший министр финансов Иноуэ (9 февраля) и барон Дан, генеральный директор Мицуи (5 марта). Банды молодых моряков и армейских кадетов были готовы продолжить выполнение этой задачи, и 15 мая 1932 г. они, по их заявлениям, «ради спасения Японии», нанесли удары по дзайбацу, политическим партиям и лицам, приближенным к трону. Одно подразделение смертельно ранило Инукаи, другие группы атаковали императорских чиновников, столичную полицию и Банк Японии [Scalapino, 1953, p. 369–370].
Этот эпизод стал началом периода полувоенной диктатуры, но пока еще не откровенного фашизма. Четыре года спустя, в 1936 г., в Японии прошли относительно свободные выборы. Крайне правые радикалы получили всего 400 тыс. голосов, или 6 мест в парламенте, тогда как Трудовая партия (Сякай тайсюто) удвоила свой результат и получила 18 мест в парламенте. Неожиданно больше всех голосов получила партия Минсэйто (4 456 250 голосов и 205 мест), одним из лозунгов которой было: «Выбор за вами: парламентское правительство или фашизм?» Конечно, итоги выборов не означали всенародной поддержки демократии: уровень абсентеизма был гораздо выше, чем обычно, особенно в городах, из чего можно сделать вывод о широко распространившемся недовольстве политикой и политиками. Одновременно выборы показали недостаточную электоральную поддержку патриотического радикализма.
На это группа военных ответила очередной попыткой переворота, которая получила в японской истории известность как «Инцидент 26 февраля» 1936 г. Несколько высших офицеров были убиты. Мятежники на три дня забаррикадировались в одном из районов столицы и публиковали памфлеты с разъяснением своих целей: уничтожение прежней правящей клики и спасение Японии при «новом режиме». Высшие армейские власти нехотя восстановили порядок силовыми методами. Революционеры сдались после личного приказа императора, назначения переговорщика, которому они доверяли, и впечатляющей демонстрации противостоявшей им силы. Таким образом Япония, если так можно выразиться, восстанавливалась от последствий одного из самых значительных внутренних кризисов, случившихся после Сацумского восстания [Ibid., p. 381–383].
События 26 февраля 1936 г. стали прелюдией к последующим политическим маневрам, на которых мы не будем останавливаться, и к возведению тоталитарного фасада – все это произошло с 1938 по 1940 г. Согласно одному проницательному японскому исследованию, провал переворота стал поражением для «фашизма снизу», т. е. для народного антикапиталистического правого движения, которое было принесено в жертву «фашизму сверху», или, так сказать, респектабельному фашизму, которому высшие правительственные чины придали полезные для себя черты, отказавшись от популярных элементов. После этого респектабельный фашизм стремительно развивался [Maruyama, 1963, p. 66–67]. Была объявлена всеобщая мобилизация, радикалы были арестованы, политические партии распущены и заменены «Ассоциацией помощи трону», которая являлась аналогом (пусть и менее эффективным) западных тоталитарных партий. Вскоре Япония присоединилась к антикоминтерновскому Тройственному союзу, в стране были распущены профсоюзы, на место которых пришли ассоциации «служения нации через промышленность» [Reischauer, 1939, p. 186; Scalapino, 1953, p. 388–389; Cohen, 1949, p. 30 (n. 62)]. В итоге к концу 1940 г. в Японии явно наблюдались главные внешние признаки европейского фашизма.
Как и в Германии, за тоталитарным фасадом скрывалась большая часть разнонаправленных усилий конкурирующих групп по интересам. В обеих странах правые радикалы так и не получили реальной власти, хотя в Японии для их обуздания не пришлось прибегать к кровавым чисткам. В отличие от Германии в Японии централизованный контроль над экономикой был скорее показным (подробнее см.: [Cohen, 1949, p. 58–59]). Крупный японский капитал успешно сопротивлялся попыткам поставить свою выгоду на службу патриотизму. Весь период военной гегемонии и фашизма был чрезвычайно благоприятным для бизнеса. Промышленное производство выросло с 6 млрд иен в 1930 г. до 30 млрд иен в 1941 г. Относительные позиции легкой и тяжелой промышленности переменились. В 1930 г. вклад тяжелой промышленности в общее промышленное производство составлял только 38 %; к 1942 г. ее доля была уже 73 % [Ibid., p. 1]. Номинально предоставив контроль правительству, дзайбацу смогли добиться почти полного господства над всеми отраслями промышленности [Ibid., p. 59]. Совместный капитал четырех крупнейших компаний дзайбацу (Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда), в 1930 г. составлявший 875 млн иен, по окончании Второй мировой войны превышал 3 млрд иен [Ibid., p. 101].[194]
Для дзайбацу антикапитализм на практике оказался мелкой неприятностью, которую они к тому же сумели преодолеть после 1936 г., – в целом это была ничтожная цена за политику внутренних репрессий и зарубежной экспансии, которая позволила предпринимателям пополнить свою казну. Большому бизнесу фашизм, патриотизм, культ императора и военщины был выгоден в той же мере, в которой армия и патриоты нуждались в крупной промышленности для реализации своей политической программы. На это не обращали внимания аграрные радикалы, во всяком случае они не хотели это признать. В особенно безвыходном тупике оказались сторонники аграрной идеологии нохонсюги. В этих кругах распространилась радикальная анархистская культура и даже романтическая вера в эффективность индивидуального террора (примеры см.: [Storry, 1957, p. 96–100; Tsunoda et al., 1958, p. 769–784]). Они были настроены крайне враждебно по отношению к плутократии и старой военной элите, которую воспринимали как обслугу плутократии. Со своей стороны они не могли ничего противопоставить этому, кроме идеализированной версии японской крестьянской общины. Поскольку представления аграрных радикалов находились в явном противоречии с требованиями экспансионистской политики, осуществлявшейся современным промышленным обществом, более ортодоксальные элиты без труда оттеснили их в сторону, позаимствовав у них некоторые идеи ради обеспечения народной поддержки. Почти то же самое, правда более стремительно и насильственно, случилось в Германии после уничтожения радикальных нацистов в Кровавой чистке 1934 г.
В Японии внутренние пределы развития правого аграрного радикализма и безграничный культ императора лучше проясняются, если вкратце рассмотреть события с позиции армии. В 1920–1927 гг. около 30 % новобранцев кадетских корпусов были сыновьями мелких землевладельцев, богатых фермеров и мелкой городской буржуазии. В это время встречались случаи, когда резервисты выступали на стороне крестьян в их спорах с помещиками [Tanin, Yohan, 1934, p. 180, 204]. Таким образом, к этому времени новая группа с новым социальным базисом и политической позицией начала занимать место старой, более аристократической армейской элиты. К 1930-м годам их главным представителем стал генерал Садао Араки, неутомимый поборник «независимости» от финансовых магнатов и придворных клик [Ibid., p. 182–183]. В согласии с этой радикальной позицией многие из них выступили против модернизации армии и новейших тенденций по экономическому планированию и освоению прогрессивных технологий [Crowley, 1962, p. 325].[195] Непродолжительное время после 1932 г. высказывания Араки о поддержке сельского хозяйства вызывали замешательство среди промышленников. Однако уже на этом раннем этапе, обнаружив трудности, с которыми сталкивается его позиция, он быстро изменил свой тон и начал говорить о лености японского крестьянства в условиях деградирующего воздействия современных соблазнов [Tanin, Yohan, 1934, p. 198–200]. Во время милитаристского бума 1930-х годов прибыль, получаемая промышленниками, вновь возмутила группу военных аграрного происхождения, что привело к отставке военного министра в 1940 г. [Cohen, 1949, p. 29]. Военные даже пытались организовать автономную оперативную базу в Маньчжурии, где армия, как они надеялись, будет свободна от влияния промышленных синдикатов. Маньчжурия оставалась в основном аграрной, пока командование Квантунской армии не признало неспособность индустриализовать эту область своими силами, после чего нехотя согласилось на участие предпринимателей. Оккупация Северного Китая началась только после того, как армия извлекла урок из этой ситуации, а необходимость в индустриальной помощи в Маньчжурии привела к более тесной кооперации между военным командованием и бизнес-кругами [Ibid., p. 37, 42].
Картина армии, избегающей современного мира, наглядно иллюстрирует нищету японской правой аграрной доктрины и ее неизбежную зависимость от поддержки большого бизнеса. Отказ от идеологии антикапитализма, хотя бы на практике, если не на словах, – такова была плата, которую большой бизнес сумел взыскать с аграрных и мелкобуржуазных патриотов за modus vivendi японского империализма.
В японской версии фашизма армия представляла несколько иные социальные силы и играла иную политическую роль, чем немецкая армия при Гитлере. В Германии армия была прибежищем для традиционной элиты, с неприязнью относившейся к нацистам. За исключением неудавшегося заговора против Гитлера в 1944 г., когда война была уже проиграна, армия в основном оставалась пассивным техническим инструментом в руках вождя. Генералы могли испытывать отвращение или ворчать о последствиях, но они выполняли приказания Гитлера. Японская армия была гораздо более чувствительной к влияниям, исходившим из деревни и от мелкого городского бизнеса, сопротивлявшегося дзайбацу. Различие можно возвести в целом к различию между японским и немецким обществами. Япония по сравнению с Германией была отсталой страной, ее аграрный сектор играл намного более важную роль. Поэтому японское военное руководство не могло просто так отмахнуться от его требований. По той же причине мы видим, что представители японской армии выходят на политическую арену и предпринимают coups d’etat, что составляет отчетливый контраст с поведением немецких военных.
Японский фашизм отличался от немецкого и даже от итальянского еще в нескольких отношениях. Здесь не произошло стремительного захвата власти, полного разрыва с предшествующей конституционной демократией, не было и аналога Марша на Рим, отчасти потому что не было и предшествующей демократической эпохи, сравнимой с Веймарской республикой. Фашизм возник в Японии намного «естественнее»; это значит, что в японских институциях для него нашлось намного больше родственных элементов, чем в Германии. В Японии не было народного фюрера или дуче. Роль национального символа такого рода исполнял император. Не было в Японии и реально эффективной единой массовой партии. «Ассоциация помощи трону» была скорее ее недостойной имитацией. Наконец, японское правительство не проводило политику массового террора и уничтожения, направленную против специфического сегмента подвластного населения, сравнимую с политикой Гитлера в отношении евреев. Эти различия также могут объясняться сравнительной отсталостью Японии. Проблема лояльности и покорности в Японии могла быть решена апелляцией к традиционным символам при поддержке судебного применения террора, который во многом мог опираться на «спонтанные» народные чувства. Секулярные и рационалистские течения, размывшие традиционные европейские верования на ранних стадиях индустриализации, были чужеродными для Японии и никогда не имели глубоких корней. Большая часть их исходной силы была растрачена на их родине к тому времени, когда японский индустриальный рост набрал скорость. Поэтому японцы, сталкиваясь как с экономическими проблемами индустриального роста, так и с политическими проблемами, сопровождавшими этот рост, были вынуждены опираться в основном на традиционные элементы своей культуры и социальной структуры.
Если осознать все эти различия, то сходства между немецким и японским фашизмом сохраняют свои фундаментальные черты. Обе страны вступили в индустриальный мир на поздней стадии. В обеих странах возникли режимы, чьей главной политикой стали внутренние репрессии и внешняя экспансия. В обоих случаях главным социальным базисом для этой программы была коалиция между коммерчески-индустриальными элитами (первоначально выступавшими со слабых позиций) и традиционными правящими аграрными классами, направленная против интересов крестьян и промышленных рабочих. Наконец, в обоих случаях из союза мелкой буржуазии и крестьян под натиском капитализма возникла разновидность правого радикализма. Этот правый радикализм в обеих странах обеспечил репрессивные режимы некоторыми лозунгами, но на практике был принесен в жертву из соображений выгоды и «эффективности».
Изучая развитие Японии по пути авторитаризма и фашизма, нам остается рассмотреть одну ключевую проблему: какова была роль крестьянства, если она вообще была сколько-нибудь заметной? Было ли крестьянство, как утверждают некоторые авторы, важной опорой фанатичного национализма и патриотизма?
Чтобы ответить на эти вопросы, полезно рассмотреть основные экономические факторы, оказавшие влияние на японских крестьян между Первой и Второй мировыми войнами. В стандартных описаниях сельской жизни в течение этого периода выделяются три момента. Первый – провал локальных попыток изменить арендную систему. Второй – возросшее значение шелка для деревенской экономики. Третий – воздействие Великой депрессии. В общем главная тенденция периода после эпохи Мэйдзи – это сдача позиций японского крестьянства под натиском мирового рынка.
Что касается арендной системы, здесь достаточно краткого замечания, поскольку основные черты рассматривались выше. Сразу после Первой мировой войны по сельской местности прокатилась волна споров между помещиками и арендаторами. В 1922 г. умеренные социалисты, активно участвовавшие в городском рабочем движении, организовали первый национальный союз арендаторов. Следующие пять лет были отмечены многочисленными конфликтами помещиков с арендаторами. Однако к 1928 г. волна столкновений стала терять свою силу, хотя, если верить статистике, в 1934 и 1935 гг. число споров только увеличилось. Потом, очевидно, это движение исчезает. Насколько мне удалось выяснить, причины такого исхода никогда не подвергались тщательному исследованию, по крайней мере в трудах западных ученых. Тем не менее главные причины достаточно ясны. Реальная классовая борьба не прижилась в японской деревне. Унаследованная из прошлого структура приводила к тому, что влияние помещика распространялось на все мелочи сельской жизни. Более того, у отдельного арендатора, похоже, всегда был шанс договориться о персональном решении. Таким образом, конфликты из-за арендной платы не поменяли серьезно ту систему власти в деревне, которая возникла после преобразований Мэйдзи (см.: [Dore, 1959, p. 29; Totten, 1960, p. 192–200, 203 (table 2)]).
Для японских крестьян важным дополнительным источником дохода, а для некоторых даже основным, был шелк. Разведение шелкопряда давало необходимые наличные деньги и некоторые экономические гарантии, обеспечивавшиеся диверсификацией продукции. В 1930-х годах около 2 млн фермеров, почти 40 % общего их числа, занимались шелководством. Японский фермер продавал коконы мотальщику (производителю шелка-сырца), который обычно финансировался заказчиком в Иокогаме или Кобэ. Мотальщик платил высокие проценты по займу и был вынужден переправлять шелк-сырец на корабле к заказчику для возврата кредита. Величина займа была такой, что заказчик фактически контролировал продажу шелка-сырца. Что касается крестьянина, то ему приходилось принимать условия мотальщика, как, в свою очередь, самому мотальщику приходилось принимать условия заказчика. Разведение шелкопряда было семейным делом, которое позволяло главе семьи заниматься параллельно другими сельскохозяйственными работами. Таким образом, шелководство действительно увеличивало доход практиковавших его крестьянских семей [Matsui, 1937, p. 52–57; Allen, 1946, p. 64–65, 110]. Тем не менее при господствовавшей организации рынка крупные городские фирмы забирали себе большую часть прибыли. Здесь складывалась образцовая ситуация для возникновения в крестьянской среде антикапиталистических настроений.
Депрессия нанесла жестокий удар по рису и шелку. В 1927–1930 гг. были высокие урожаи риса. Цены упали [Allen, 1946, p. 109]. Весьма вероятно, что падение цен затронуло помещиков (и, возможно, также крупных собственников-производителей) больше, чем арендаторов, поскольку арендаторы обычно платили арендную плату рисом, в то время как помещики продавали 85 % своей продукции [Ladejinsky, 1937, p. 431]. Падение цен на шелк, сопутствовавшее закату эры американского благополучия, прямо ударило по японским крестьянам. В 1930 г. цены на шелк-сырец снизились вдвое. Экспорт шелка составил лишь 53 % по стоимости в сравнении с 1929 г. Множество крестьян разорились. Некоторые авторы усматривают связь между этими одновременными ударами по деревенской экономике, падением «либерального» правительства и переходом власти к тем, кто выступал за военную агрессию. Ключевым звеном в этой причинно-следственной цепочке предположительно стала армия, где солдаты были крестьянскими рекрутами, а офицеры – выходцами из мелкой буржуазии, чья экономическая ситуация сделала их благоприятной средой для ультранационалистической агитации [Allen, 1946, p. 98–99, 111].
На мой взгляд, эта теория слишком упрощает ситуацию, что чревато серьезным заблуждением. Крестьянство почти не демонстрировало сколько-нибудь воодушевленной поддержки ультранационалистическим движениям.[196] Аграрное течение традиционалистского патриотизма, нашедшее выражение в движениях, подобных нохонсюги, пользовавшееся поддержкой в городах и среди землевладельцев, было направлено против интересов крестьян и нацелено на то, чтобы крестьянин оставался рачительным и примиренным со своей долей, – одним словом, чтобы он знал свое место. В лучшем случае аграрный ура-патриотизм мог привлечь на свою сторону более преуспевающих собственников-производителей, отождествлявших себя с помещиками, для которых как продавцов риса эти идеи обеспечивали некоторую рационализацию.
Конечно, ряд факторов, в первую очередь связанных с торговлей шелком, делали крестьянство благоприятной средой для распространения антикапиталистических идей. Подобные настроения среди крестьян усиливались при сочетании с другими факторами и способствовали тому, чтобы подчинить крестьянство лидерству деревенской элиты. В целом вклад крестьян в японский фашизм (или в националистический экстремизм, если в данном случае уместнее этот термин) был в основном пассивным. Крестьянство поставляло большое число надежных рекрутов для армии, а в гражданской жизни составляло огромную аполитичную (т. е. консервативную) и покорную массу, что оказало решающее воздействие на японскую политику.
Аполитичное и слепое следование приказам, независящее от смысла предписания, – это не просто вопрос психологии. Ментальность такого рода является следствием конкретных исторических обстоятельств ровно в той же мере, как и автономное сознание, которым по-прежнему восторгаются на Западе. Более того, пример Японии показывает, вне всяких сомнений, что пассивное отношение необязательно продукт развитого индустриализма. При наличии специфических условий оно развивается и в аграрных обществах.
В Японии такие условия определялись структурой японской деревни, сохранившейся в неизменном виде с конца периода Токугава и начала эпохи Мэйдзи и лишь еще более укрепившейся благодаря современным экономическим тенденциям. Помещик оставался бесспорным лидером крестьянской общины. Социальная структура деревни позволяла ему отстаивать свои интересы на местном уровне. Одновременно деревня служила ему политической опорой для достижения своих целей на национальном уровне, где они сталкивались с интересами других групп и в итоге становились частью рассмотренного выше всеобщего компромисса. Теперь следует проанализировать подробнее, почему крестьяне оставались под влиянием помещика.
Наиболее поразительными чертами японской деревни вплоть до земельной реформы, произведенной американцами, оставались господство в ней богачей и практическая невозможность открытых конфликтов.[197] Фундаментом деревенской власти было владение земельной собственностью. Результирующие отношения находили поддержку со стороны государства, при необходимости и в насильственной форме. До некоторой степени все смягчалось и делалось более приемлемым вследствие того, что эти отношения были покрыты патиной времени, освящались традицией и обычаем. Помещики-резиденты нередко лично управляли деревенскими делами, хотя наиболее состоятельные из них поручали рутинные заботы другим, реализуя свою власть незаметно. При случае незначительную роль в деревенской администрации могли играть даже арендаторы [Dore, 1959, p. 325]. Во многих деревнях и более крупных местных образованиях существовал небольшой круг помещичьих семей, связанных между собой узами брака, который и контролировал все местные дела [Ibid., p. 330]. Обычно из среды мелких помещиков набирались кадры для оплачиваемых должностей в «мура», что помогало им компенсировать недостаточные доходы с ренты [Ibid., p. 337].
Лишь в редких случаях помещик по своей прихоти лишал арендатора единственного источника его существования или хотя бы подумывал о том, чтобы прибегнуть к такой крайней мере [Ibid., p. 373]. Однако существовали сотни иных, более тонких способов, чтобы продемонстрировать арендаторам власть помещика над источником их существования. Именно эта финальная санкция, находившаяся в основании развитого кода почитания, управляла отношением крестьянина к вышестоящим лицам. Арендатор пристально наблюдал за игрой «оттенков на лице своего помещика». Автор этого наблюдения, профессор Дор, в целом скорее минимизирует, чем преувеличивает темную сторону власти помещика. Тем не менее даже он приходит к выводу, что почтительность арендатора была следствием осознанной калькуляции суммы возможных выгод и неприкрытого страха, основанного на суровом факте экономической зависимости [Ibid., p. 371–372]. Страх и зависимость, по крайней мере в сельской местности, были в итоге конечными причинами возникновения настолько тонкого японского кода почитания старших, который очаровывает американских туристов своей оригинальностью и контрастом с их собственным опытом. Очевидно, эти туристы устали от враждебности под маской дружелюбной беззаботности, такой распространенной в Соединенных Штатах, однако они упускают из виду как исторические корни, так и современное значение японской вежливости. Там, где экономическая зависимость исчезает, будь то вследствие американской земельной реформы или иных причин, традиционная структура статусов и почитания разрушается [Ibid., p. 367]. Если экономический базис деревенской олигархии и японского кода вежливости вызывает сомнение, то известные обстоятельства их частичного исчезновения убедительно выявляют эту причинную связь.
Система взаимной дополнительности крупных и мелких хозяйств сохранилась до последнего времени, поскольку она адаптируема к рыночной экономике посредством аренды и поскольку не было сил, способных ей противостоять. Солидарность и «гармония», царящие в японской деревне, нежелание – пожалуй, лучше сказать «подавление» – открытого конфликта есть также феодальное наследие, более или менее успешно приспособившееся к новым временам. Прежде деревенская солидарность поддерживалась благодаря экономической кооперации крестьян, а также из-за помещичьей политики налогообложения и патерналистского надзора. В современном виде оба этих фактора сохранялись в период между мировыми войнами, а ряд их последствий сохраняется до сих пор. Не углубляясь в подробности, достаточно сказать, что проникновение денежной экономики в деревню ослабило прежние отношения, но серьезно не изменило их.[198]
На стороне того, что можно туманно назвать политикой, также было несколько факторов, способствовавших поддержанию солидарности в деревне. «Большие» вопросы, разделявшие богатых и бедных, не были решены на местном уровне ни в эпоху Токугава, ни в новые времена [Ibid., p. 338, 341]. «Маленькие» вопросы, касавшиеся только местных общин, разрешались методами, знакомыми каждому, кто хоть раз заседал в академических комиссиях. Обычно они сводятся к достижению согласия через скуку и истощение. Вероятно, мы сталкиваемся здесь с одним из тех универсальных законов, которые совершенно серьезно пытаются открыть некоторые социологи. Хитрость заключается в том, чтобы позволить каждому высказывать свое мнение до бесконечности, пока группа в целом не захочет взять на себя коллективную ответственность за решение. В Японии, как, пожалуй, и в любом другом месте, реальные дискуссии обычно происходят вдали от публики, что в равной степени способствует большей откровенности и желанию найти компромисс. В рамках системы существеннее напор, с которым индивид отстаивает свою позицию, чем ее рациональное обоснование. При этом система демократична, поскольку допускает всестороннее обсуждение противоположных позиций. Конфликт может произойти, только если соперничающие стороны приблизительно эквивалентны друг другу за пределами дискуссионной площадки. В современных японских деревнях с несколькими ведущими семьями внутри избранной группы проходят оживленные обсуждения, однако – нужно это повторить – исключительно вопросов местного значения. Несмотря на полное отсутствие локальной традиции, касающейся ценностей демократии, в Японии на собственной почве возникли отдельные ее институциональные черты.[199] Формально более демократические страны вряд ли могут утверждать, что в Японии демократия лучше всего развилась именно там, где она менее всего значима.
Во время тоталитарной фазы в современной истории Японии деревня была интегрирована в государственную систему методами, очень напоминающими политику, использованную правительством Токугава для проникновения в крестьянскую среду и контроля над ней. Источники не позволяют однозначно судить, имело ли место прямое историческое наследование (такого мнения придерживается [Embree, 1939, p. 34–35]). Даже если это не так, подобные установления показывают, что важные аспекты японского феодализма легко согласовывались с тоталитарными институциями XX в.
Читатель может вспомнить о деревенских пятерках, организованных правительством Токугава, чтобы связать крестьян взаимной ответственностью. Весомым подспорьем этой политики были публичные доски с объявлениями в деревнях, призывавшими крестьян к хорошему поведению. После 1930 г. правительство организовало группы соседей, в каждой из которых был свой лидер. По замечанию Дора, эта система вместе с возвышавшейся над ней официальной администрацией открывала для центрального правительства доступ к каждому домохозяйству через нисходящую персональную иерархию поручений. Указания министерства внутренних дел передавались в отдельные домохозяйства при помощи досок объявлений. В особенно важных случаях каждый домохозяин был обязан приложить печать, подтверждающую получение приказа. Эти методы обеспечили эффективный способ организации сельского населения для выполнения таких задач, как распределение товаров по карточкам, изъятие зерна, подписка на военные облигации, а также меры общей экономии. Хотя американские оккупационные власти отменили систему нисходящей коммуникации, местные организации продолжают существовать, так как выполняют ряд локальных функций. Поскольку они сохранились и обеспечили более эффективный способ распространения информации, чем доски объявлений, которыми пренебрегают местные жители, они вскоре вновь взяли на себя выполнение этой функции [Dore, 1959, p. 355].
* * *
Если вновь обратиться к истории японской деревни с начала XVII в., то историка более всего способно поразить неизменное воспроизведение этой особенности. Олигархическая структура, внутренняя солидарность и эффективные вертикальные связи с вышестоящей властью – все эти черты почти в первозданном виде выстояли при переходе к современному рыночному производству. В то же время сама по себе историческая преемственность отнюдь не объяснение, а скорее то, что, в свою очередь, требует объяснения, тем более в условиях, когда очень многое изменилось. Суть этого объяснения, по-моему, в том, что помещики поддерживали принципы прежней деревенской структуры, потому что она позволяла им забирать у крестьян продукцию и продавать ее с прибылью, гарантировавшей им ведущее социальное положение. Те, кто не добивался экономического успеха, пополняли ряды сторонников аграрного псевдорадикализма. Замена псевдородственных отношений арендными была единственной необходимой институциональной переменой. Все это оказалось возможно лишь там, где выращивали рис, поскольку, как показала практика, даже традиционные методы могли привести к значительному росту урожайности. В отличие от английского помещика XVIII в., прусского юнкера XVI в. или русских коммунистов в XX в. японские правящие классы поняли, что могут достичь своих целей без разрушения господствующего крестьянского образа жизни. Если бы традиционная социальная структура стала помехой, мне кажется, что японские помещики едва ли отнеслись бы к деревенскому укладу с большей бережностью, чем в других странах.
Адаптируемость ее политических и социальных институций к принципам капитализма позволила Японии выйти на сцену новейшей истории, не заплатив за это революцией. Отчасти из-за отсутствия подобного страшного опыта Япония стала впоследствии жертвой фашизма и потерпела военное поражение. То же самое произошло с Германией почти по аналогичной причине. Плата за безреволюционный вход в новый мир оказалась чрезвычайно высокой. Не менее высокой цена этого процесса была в Индии. В этой стране историческая драма еще даже не достигла своей кульминации, у нее совершенно другой сюжет и иные действующие лица. Тем не менее урок, извлеченный из рассмотрения предыдущих случаев, пригодится для ее понимания.