ГЛАВА I.5. «Эзоп, ты не прав», или басня о лисе и зайцах
Разные живые существа стареют по-разному — в этом читатель уже мог убедиться по ходу предыдущих глав. Растения-однолетники отравляют себя сами после того, как дадут семена, и под действием собственного яда в короткий срок теряют жизнеспособность и умирают. Примерно то же самое происходит с тихоокеанским лососем или с некоторыми видами американских опоссумов: начало периода размножения запускает программу, которая за короткий срок полностью разрушает организм. Примечательно, что в случае опоссумов это касается только самцов — они умирают, как и сумчатые мыши, в течение нескольких недель после гона. Самки же спокойно вынашивают, рождают и воспитывают детенышей, а при известной доле везения (для опоссумов, которых едят все, кому не лень, это жизненно необходимо!) может даже дожить до следующего периода размножения [8].
Гигантские черепахи, гренландские киты и голые землекопы наоборот, вообще не желают стареть, живут очень долго и умирают от каких-то еще малопонятных причин без видимых признаков одряхления. Основная же масса форм жизни, в том числе и люди, подвержены «классическому» варианту старения: после завершения роста и достижения половой зрелости начинается плавное, неуклонное ослабление различных жизненных функций. Как следствие, вероятность смерти растет с возрастом. Для человека этот процесс начинается в 1015 лет.
И здесь мы подходим к главному вопросу: какова природа старения? Является ли оно следствием медленного накопления случайных поломок и дефектов в нашем теле, способности которого к самовосстановлению ограничены, или же старение — результат специальной программы, записанной в наших генах?
Простого и однозначного ответа на этот вопрос пока нет, в первую очередь потому, что мы пока не знаем, насколько универсальны механизмы старения у разных организмов. В случае однолетних растений, тихоокеанского лосося, сумчатых мышей и опоссумов очевидно, что их смерть — следствие работы генетической программы. В случае людей или крыс это уже совсем неочевидно. Но факт наличия у организма неких «резервных мощностей», которые в определенных условиях могут быть задействованы для того, чтобы замедлить старение, сомнений не вызывает. И способ, которым можно задействовать эти мощности, также хорошо известен. Нужно просто меньше есть.
Речь идет о том, что называется учеными «ограничением питания» и на сегодняшний день является единственным научно доказанным методом увеличения продолжительности жизни для млекопитающих. Если вы думаете, что это знание — результат научного прогресса последних лет, то вы ошибаетесь. Открытие такого явления было сделано почти 80 лет назад. Биохимик и диетолог Клайв МакКей обнаружил, что если взять две группы крыс и предоставить одной группе есть столько пищи, сколько животные хотят, а другой группе давать на 30–50 % меньше (но сохранить полную дозу витаминов и микроэлементов), то крысы, сидящие на диете, будут жить заметно дольше, чем крысы-обжоры. Особенно ярко этот эффект проявился у самцов: одна из «голодающих» групп жила почти на 85 % дольше контрольной группы! Причем воздержанность в пище приводила не только к увеличению средней продолжительности жизни, но также несколько увеличивала и ее максимальную продолжительность [206,208].
Удивительно, но это открытие долгое время оставалось в разряде «забавных курьезов биологии», и несколько десятилетий никто всерьез не изучал чудодейственные последствия ограничения калорийности питания. Но по мере роста интереса ученых к проблеме старения этот феномен привлекал к себе все больше и больше внимания. Эксперименты МакКея были многократно воспроизведены в разных лабораториях; тот же эффект был показан на мышах, а затем в США начался масштабный эксперимент по изучению влияния ограничения питания на обезьян. На момент написания этой книги эксперимент еще не закончен, так как часть наблюдаемых животных пока еще жива (крыса живет около трех лет, а максимальная продолжительность жизни макаки-резуса — сорок лет). Но предварительные результаты уже достаточно однозначно указывают на то, что и у обезьян ограничение питания замедляет старение и продлевает период здоровой жизни.
Ажиотаж вокруг вышеописанного явления вполне понятен: ведь если у людей ограничение питания будет работать так же, как у крыс и мышей, то средняя продолжительность нашей жизни вырастет до 110120 лет, а максимальная может, превысит 150! Головокружительные перспективы, не правда ли?
Впрочем, если побороть головокружение и взглянуть на вещи более трезво, то в бочке меда сразу обнаружится пара-тройка ложек дегтя. Во-первых, мы — не мыши. Мышиный век короче нашего примерно в 20 раз, и вовсе необязательно, что нашу и без того почти рекордно долгую для млекопитающих жизнь можно дополнительно «разогнать» житьем впроголодь так, как это получается у мышей и крыс. Во-вторых, даже если биология старения у нас окажется такой же, как у наших хвостатых братьев меньших, то согласились ли бы вы, читатель, всю жизнь провести впроголодь ради того, чтобы жить на пару десятков лет дольше? В-третьих, современный мир, независимо от того, нравится нам это или нет, в значительной степени управляется жаждой прибыли. Человеческая мысль и усилия направлены в сторону изобретения вещей, которые можно продать. А ограничение питания продать нельзя. Поэтому вряд ли можно ждать большой рекламной кампании на этот счет, даже если ученые докажут, что пост замедляет старение человека.
Но есть во всей этой истории «долголетия впроголодь» один очень важный аспект, посылающий нам весьма яркий луч надежды. Он заключается в том, что старение в принципе можно замедлить! А это значит, что если не полностью, то в значительной степени мы стареем не так, как стареют автомобили, и что старение — это программа. Если бы старение было просто следствием накопления «поломок» в организме, то ограничение питания должно было бы лишь ускорять его! Ведь меньше калорий — это меньше энергии на «ремонт» и на поддержание организма в хорошей форме!
Продление жизни млекопитающих в ответ на ограничение питания означает, что в организме существует значительный резерв жизненных сил, который можно использовать для замедления старения. И сейчас многочисленные ученые по всему миру пытаются понять, каким образом это происходит, и как можно задействовать этот резерв без того, чтобы пожизненно мучить себя жестким недоеданием.
Но вернемся к главной теме этой главы — к природе старения. Если наша гипотеза верна, то «классическое» старение — то есть медленное и согласованное ослабление всех жизненных функций с возрастом — это явление, запрограммированное в наших генах. Иными словами, в какой-то момент (в возрасте около 12 лет) наш организм начинает медленно, но верно сам себя разрушать. Зачем могла понадобиться такая странная и вредная программа? Почему в ходе эволюции естественный отбор не вымел «ущербных» стареющих животных?
В главе I.3 мы уже разобрались с тем, что в ходе эволюции у живых организмов могут сохраняться генетические программы, вредные для индивидуума, но полезные для популяции. Но какая польза для популяции может быть в нелепом (на первый взгляд) медленном самоотравлении индивидов, образующих эту популяцию? Попробуем разобраться.
Представим себе два вида животных: один обычный, стареющий, а другой — из разряда вечноюных счастливчиков. Посмотрим сначала на стареющих животных. Большинство особей в популяции — это или подрастающее потомство, или молодые, полные сил особи. Старение, безжалостно отнимая жизненные силы у тех, кто постарше, приводит к тому, что с определенного возраста более зрелые особи проигрывают молодым в брачном соперничестве, и их шансы на размножение начинают резко падать. Кроме того, падают и шансы успешно избегать опасностей, находить пищу, сопротивляться болезням и паразитам. При таком положении вещей печальный финал не заставит долго себя ждать, и чем старше становится животное, тем меньше у него шансов встретить очередной рассвет.
Старики не выживают в дикой природе: «молодым везде у нас дорога». В результате старение приводит к ускорению смены поколений и к большей скорости эволюции и пластичности популяции в быстро меняющихся условиях.
Но давайте взглянем повнимательней на тех «железных старцев», которые все же — несмотря на преклонный возраст и снижение общей жизнеспособности — ухитряются продолжать жить в безжалостном мире клыкастых врагов и не менее клыкастых молодых сородичей. Как им это удается? Наверняка у них есть какие-то особо ценные свойства, дающие им преимущества перед основной массой прочих животных того же вида. Или, говоря на языке биологии, у них есть некие полезные гены, обеспечивающие в данных условиях обитания заметное эволюционное преимущество, позволяющее им успешно конкурировать за пищу и размножение с более сильными молодыми особями. В результате получается, что благодаря старению популяция в конечном итоге быстрее обогащается ценными в данных условиях генами. То есть, кроме общего ускорения эволюции за счет удаления более взрослых особей из размножения, старение также может помогать отбирать возникающие новые полезные признаки.
А что у нас твориться в популяции нестареющих животных? Там возраст — это скорее преимущество, ведь сил меньше не становится, плюс еще и приходит опыт — «сын ошибок трудных». Кроме того, нередко нестареющие животные растут всю жизнь, а размер, как ни верти, тоже имеет значение. В результате смертность у нестареющих животных вполне может падать с возрастом, а успешность размножения — расти. Получается популяция, где небольшое число пожилых особей подавляет массу молодых сородичей, вытесняя их в брачной конкуренции и не давая места под солнцем. Очевидно, что генетическое разнообразие такой популяции будет гораздо ниже, чем в популяции стареющих животных. Более того, так как накопление ошибок в генетическом материале все же происходит — пусть и медленно, но неизбежно — великовозрастные нестареющие «патриархи» и «праматери» со временем будут давать все менее и менее «качественное» потомство. Все это вместе означает, что при резкой перемене условий обитания (а в природе это происходит с завидной частотой: то ледниковый период случится, то вулкан извергнется и климат поменяется, то какой-нибудь чужеродный вид приплывет с соседнего материка и всех сожрет) нестареющая популяция имеет гораздо меньше шансов пережить эту перемену. Ведь чем генетически разнообразнее популяция, тем больше вероятность, что какая-та часть ее особей окажется лучше приспособлена к новым условиям.
С нашей гипотезой о старении как механизме ускорения эволюции и увеличения пластичности популяции хорошо согласуется тот факт, что большинство нестареющих животных существуют в высокостабильных условиях внешней среды. Киты, рыбы, морские ежи, омары — все они живут в океане, где изменения происходят крайне медленно. Голый землекоп также спрятался от переменчивых условий внешнего мира под землей, где и температура, и влажность и все прочее почти постоянно. А большинство остальных животных продолжает «толкаться» на поверхности Земли, где что ни день, то новая напасть и сегодня никогда нельзя с уверенностью сказать, что ждет тебя завтра. Поэтому неудивительно, что если бросить на живую природу быстрый поверхностный взгляд, то кажется, что старение вездесуще, универсально и неизбежно. Ан нет! Вполне возможно, что старение — это лишь способ ускорить собственную эволюцию, повысить «эволюционируемость» — гибкость и приспособляемость к быстро сменяющимся внешним условиям. И вполне вероятно, что именно поэтому феномен (программа?) старения, несмотря на его очевидную вредность для каждой отдельной особи, закрепляется эволюцией и является столь широко распространенным в живой природе.
Несколько лет тому назад мы предложили гипотезу о том, что старение может быть способом ускорения эволюции [323]. У Эзопа есть афоризм, что заяц всегда убежит от лисы, так как для него это вопрос жизни и смерти, а для нее — обеда. Сказанное означает, что лисы не участвуют в естественном отборе зайцев. По-видимому, такое утверждение справедливо применительно к молодым, сильным зайцам.
Но так ли это, если мы примем во внимание, что при старении заяц бежит все медленнее? Рассмотрим следующий умозрительный эксперимент (рис. I.5.1). Два молодых зайца, один поумнее, а другой поглупее, встретив лису, имеют практически равные шансы удрать от врага просто потому, что бегают гораздо быстрее лисы («сила есть — ума не надо!»). Однако с возрастом умный заяц получит преимущество перед глупым, и это преимущество может оказаться решающим, когда скорости бега зайцев снизятся из-за старения до скорости бега лисы. Теперь у умного зайца, который, увидев лису, тотчас пустится наутек, будет гораздо больше шансов спастись, чем у глупого, который замешкается, а значит, только умный будет продолжать плодить зайчат. В результате заячья популяция поумнеет[323].
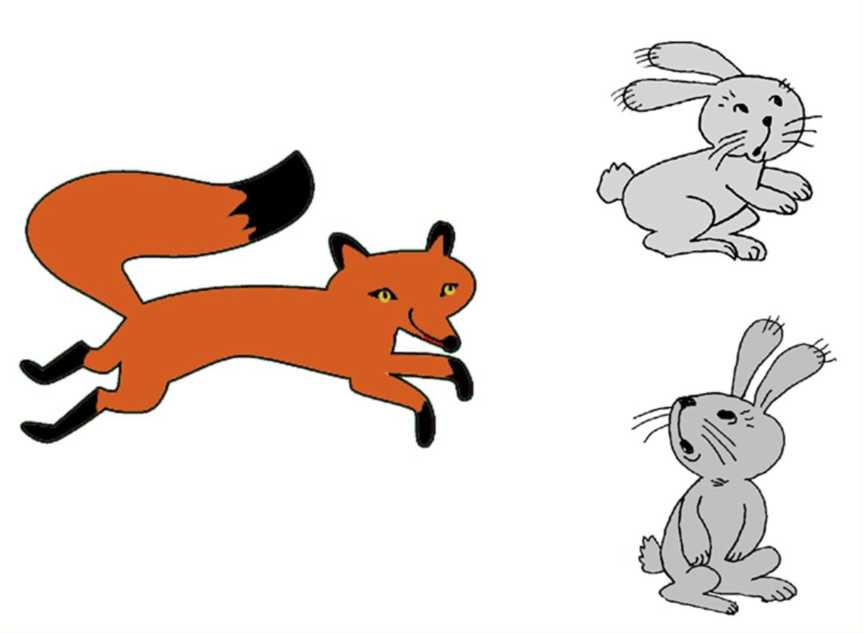
Рис. 1.5.1.
В этот момент нам часто задают вопрос: если старение — такая полезная штука, то, получается, что геронтологи, пытаясь отменить старение, могут навредить человечеству как виду, замедлив нашу эволюцию и таким способом лишив нас перспективы развития? Не стоит ли вообще запретить исследования в этом направлении? Конечно же, нет.
Дело в том, что мы больше не являемся объектом естественного отбора, обеспечивающего выживание индивидов, наиболее приспособленных к условиям окружающей среды. Если нас что-то не устраивает в этой среде, мы изменяем ее, а не меняемся сами. Если нам холодно, то мы не ждем, пока у нас и наших потомков вырастет мех. Вместо этого мы давно научились облачаться в шкуры зверей и разводить огонь. Если окружающая среда пытается сгубить нас микробами, мы не выводим более устойчивую к инфекциям когорту людей, а изобретаем антибиотики. Хорошо это или плохо, но эволюция человека как вида практически остановилась. Ее место занял технический прогресс. По-видимому, программа старения у человека обречена на исчезновение и рано или поздно отомрет, как это уже случилось у нестареющих животных, не имеющих врагов и поэтому не испытывающих давления естественного отбора. А это значит, что наше старение — вредный и отмирающий атавизм, борьба с которым разумна и оправдана.
Заметим, что если старение необходимо для ускорения эволюции, то начинаться оно должно очень рано, чтобы животное успевало существенно состариться, оставаясь при этом в репродуктивном возрасте[4]. Если животное уже не размножается, то оно как бы невидимо для эволюции. Какой бы невероятно полезный новый признак оно ни несло в своих генах, признак этот уже не передать следующим поколениям. У большинства животных такая проблема не стоит: в суровых естественных условиях они не часто доживают до окончания детородного возраста — менопаузы. Человек в этом смысле является одним из исключений. Но, если задуматься, оно только подтверждает правило.
Представим себе жизнь первобытных людей. Их существование принципиально не отличалось от животного. И они крайне редко доживали до менопаузы — то есть, до 50–60 лет. Средняя продолжительность жизни первобытных людей, по-видимому, не превышала 30 лет. И это вполне соответствует ситуации у остальных животных. Действительно, зачем нужны прогрессу особи, которые уже не могут участвовать в процессе эволюции? Для неё старики становятся прямо-таки вредными, занимая место молодых и отнимая у них еду и кров.
Но у Homo sapiens, в отличие от предыдущих, менее продвинутых версий приматов, есть два принципиальных улучшения — громадный объем коры полушарий головного мозга и очень тонко работающий голосовой аппарат. В результате, после долгих экспериментов, эволюция получила существо, которое может передавать информацию своим потомкам не только генетически, в виде молекулы ДНК в сперматозоиде и яйцеклетке, но и вербально — с помощью речи. Другими словами, если за той горой живут пещерные медведи, то не нужно ждать, пока за тысячи лет возникнет и закрепится в генах врожденная боязнь горы вот такой формы, расположенной в этом месте. Можно просто сказать этим молодым идиотам, чтобы не ходили за ту гору безоружными и поодиночке — там пещерный медведь.
Разумеется, человеку как виду такой способ передачи информации через поколения дал колоссальные преимущества в освоении окружающей среды, которыми мы с удовольствием сегодня пользуемся.
Но с точки зрения полезности для вида такое изобретение кардинально меняет роль пожилых особей в состоянии менопаузы. Они тоже получают возможность работать на улучшение качества молодого поколения, снабжая их информацией, которую приобрели в течение всей своей жизни и сохранили не в генах, а в памяти головного мозга.
Проблема заключается в том, что не все бабушки и дедушки могут этим заниматься. То есть часть из них: полезные бабушки и дедушки — действительно учат молодняк, а другие лишены дара преподавания, косноязычны, путают медведя с медведкой, или туповаты и мало что помнят, или просто противные мизантропы и общаться с ними никому неохота. В первобытные времена такие бабушки и дедушки были бы откровенно вредными, занимали бы чужое место, ели бы зря еду, да еще бы и на молодые мозги капали. В общем — снижали бы жизнеспособность популяции Homo sapiens.
Если старение запрограммировано генетически, то, скорее всего, как и остальные генетические программы, оно регулируемо. В качестве весьма смелой гипотезы можно предположить, что за время существования первобытного человека (а это не так уж и мало: многие тысячи лет) могли возникнуть механизмы, ускоряющие или замедляющие работу программы старения в зависимости от того или иного фактора жизни человека. В свете вышеизложенной концепции «полезных» и «вредных» бабушек и дедушек разумно предположить, что старение «полезных» стоило бы замедлить, чтобы дать им возможность обучить побольше молодежи. А вот старение «вредных» можно было бы и ускорить в интересах остальных особей. Подробнее об этом мы расскажем чуть ниже, в главе I.10.






